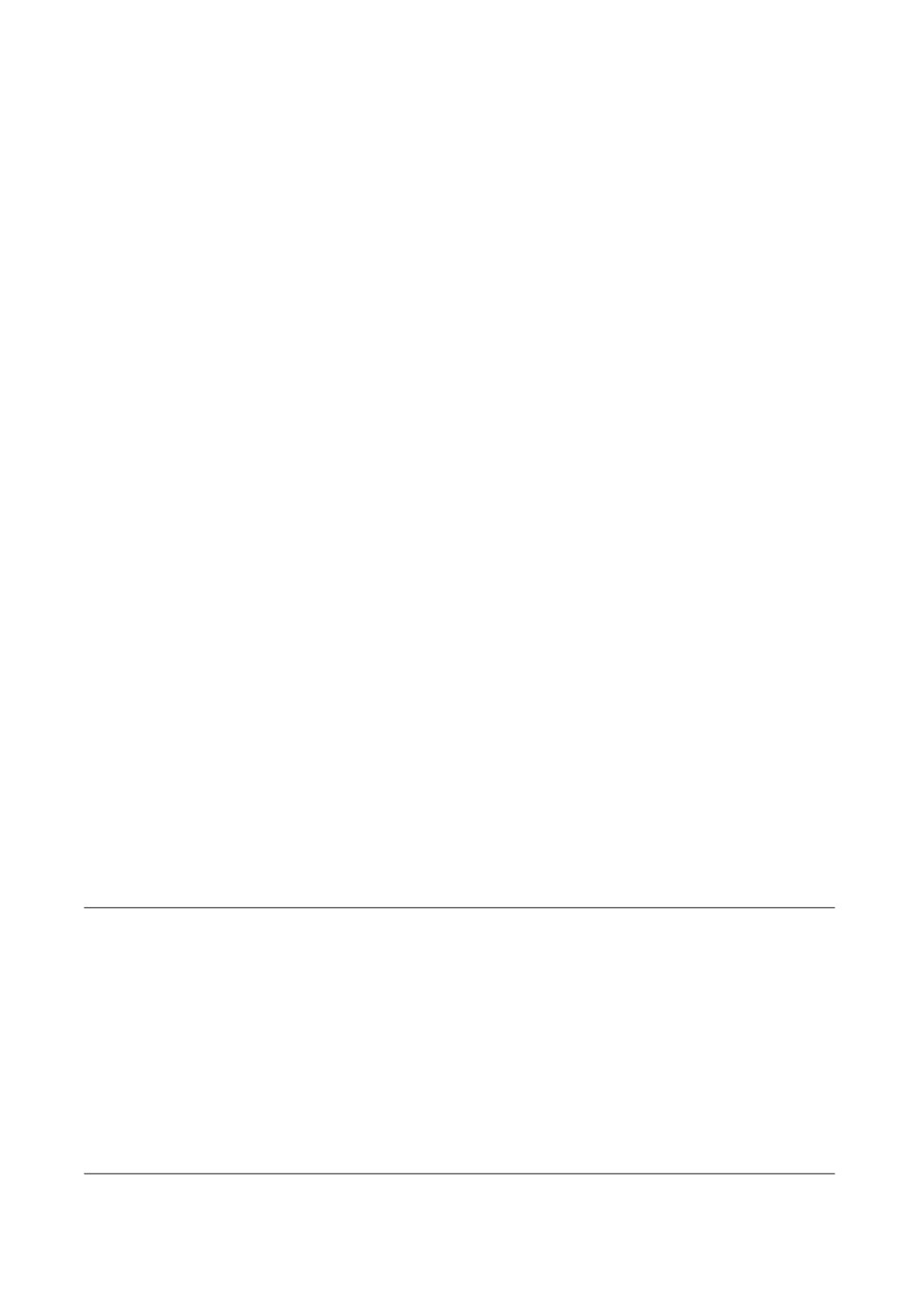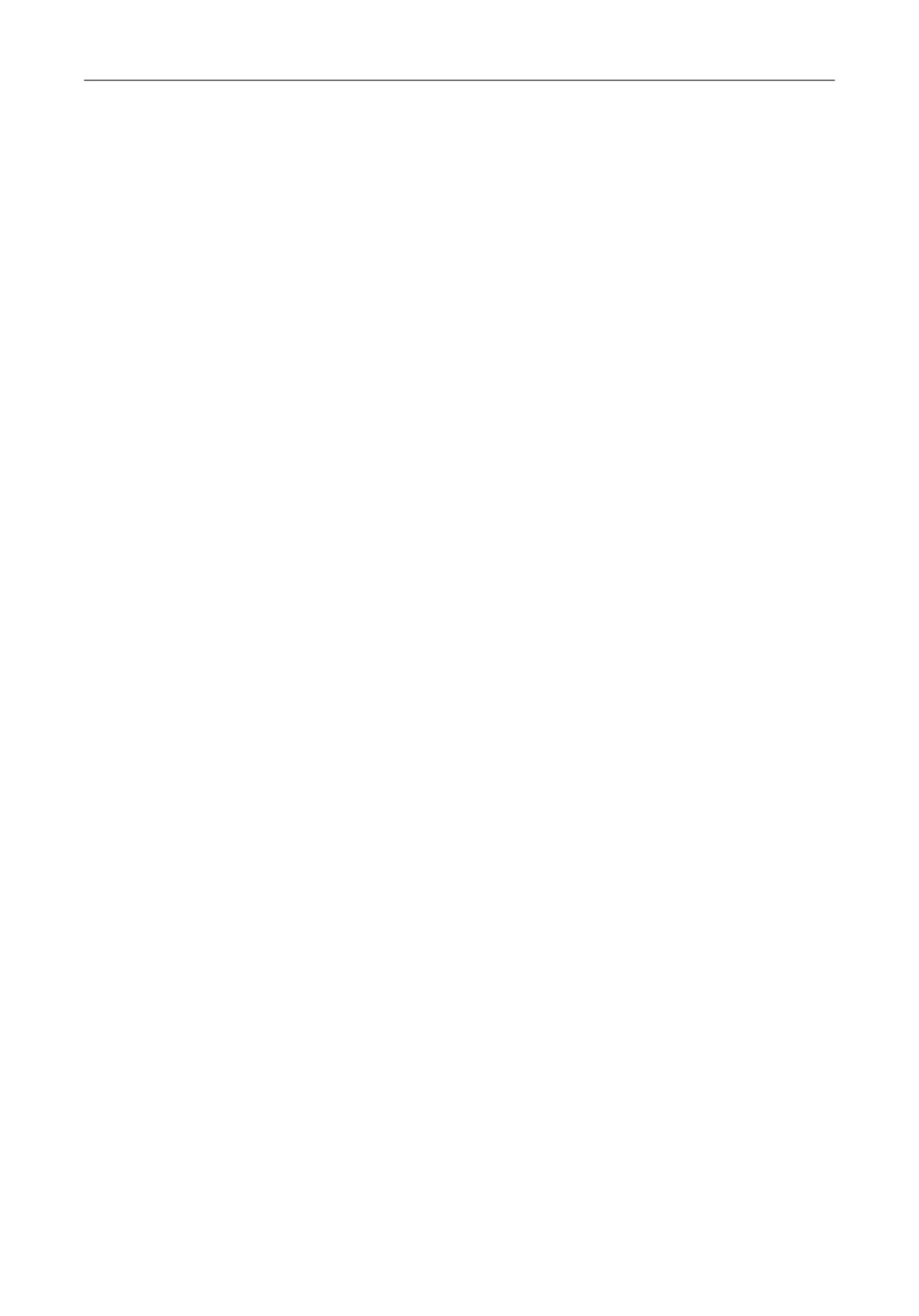ИЗ АРХИВА
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ:
ПЕРЕПИСКА П.Н. САВИЦКОГО С Н.И. КАРЕЕВЫМ
Е.А. Долгова, А.В. Малинов
д. и. н., доцент, ведущий научный сотрудник | Российский государственный гуманитар-
ный университет (Миусская площадь 6, ГСП-3, Москва, 125047, Россия)
д. филос. н., профессор | Санкт-Петербургский государственный университет (Универ-
ситетская наб. 7-9, Санкт-Петербург, 199034, Россия)
Ключевые слова
Савицкий, Кареев, Гумилев, евразийство, месторазвитие, интеллектуальный диалог,
эмиграция, эпистолярное наследие, кочевые народы
Аннотация
Настоящая публикация посвящена анализу переписки лидера евразийского движения
Петра Николаевича Савицкого и историка Николая Ивановича Кареева, выявленной в от-
деле рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ). Публикуемые ниже
письма Савицкого (№ 1 и № 2) содержат размышления молодого евразийца о соотноше-
нии расы и культуры; представленные в развернутой и яркой форме тексты были написа-
ны в ответ на полемические замечания Кареева. Внимание авторов вступительной статьи
привлекает один из самых спорных, по их мнению, моментов в данной переписке - от-
вет Савицкого на филологическую критику термина “месторазвитие”: на исторических
примерах он подробно обосновывает связь между культурой, ее носителем-народом и
месторазвитием, понимая под последним “соответствие между культурной ориентацией
данной группы и избранной ею территорией”. Важным сюжетом письма № 1 являются
рассуждения Савицкого об историческом развитии - он называл его номогенезом и ус-
матривал сходство идеи “предопределения” с теорией биологической эволюции. Авторы
настоящей статьи приходят к выводу, что переписка во многом проясняет не только си-
стему личных взаимоотношений между Савицким и Кареевым, но и раскрывает каналы
коммуникации, посредством которых евразийство заявляло свои права в русской науке и
завоевывало место в смысловом содержании русской мысли.
Информация о финансовой поддержке
Государственное задание Министерства науки и высшего образования Российской Федера-
ции [номер госрегистрации № АААА-А20-120070890028-5] (проект № FSZG-2020-0019)
Статья поступила 17.02 2021 | Окончательный вариант принят к публикации 06.06.2021
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Долгова Е.А., Малинов А.В. Малоизвестные страницы евразийского движения: перепи-
ска П.Н. Савицкого с Н.И. Кареевым // Этнографическое обозрение. 2022. № 1. С. 84-102.
Dolgova, E.A., and A.V. Malinov.
2022. Maloizvestnye stranitsy evraziiskogo dvizheniia:
perepiska P.N. Savitskogo s N.I. Kareevym [Obscure Pages of the Eurasianist Movement: The
Correspondence of P.N. Savitsky with N.I. Kareyev]. Etnograficheskoe obozrenie 1: 84-102.
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
Долгова Е.А., Малинов А.В. Малоизвестные страницы евразийского движения...
85
…письмо Ваше… принимаю как весьма поучительное
и глубоко интересное для меня.
(П.Н. Савицкий - Н.И. Карееву, 30 сентября 1928 г.)
стория евразийского движения насчитывает целое столетие. В 1921 г. в
Софии вышел первый сборник - “Исход к востоку”, положивший начало
И
новому общественно-политическому течению в среде эмигрантов. Авто-
ры сборника (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, П.П. Сувчинский, Г.В. Флоров-
ский) предприняли пересмотр целого ряда устоявшихся канонов русской мыс-
ли: от схемы русского исторического процесса до оснований русской культуры,
от причин революции 1917 г. и поражения белого движения до изменения отно-
шения к власти большевиков.
Евразийское движение, представлявшее собой смелый опыт самосто-
ятельной русской мысли (безусловно, имевший истоки в наследии XIX и
начала XX вв.) и являвшееся оригинальным направлением в философии
русского зарубежья, уже современниками было оценено неоднозначно.
По словам Н.А. Бердяева, «это - единственное пореволюционное идейное на-
правление, возникшее в эмигрантской среде, и направление очень активное.
Все остальные направления, “правые” и “левые”, носят дореволюционный
характер и потому безнадежно лишены творческой жизни и значения в буду-
щем» (Бердяев 1925: 134-135). Однако евразийство начало подвергаться кри-
тике практически сразу после публикации “Исхода к Востоку” (1921); споры
вокруг этого движения не утихают до сих пор (Шнирельман 2002). Оценивая
значение течения, известный русский историк П.Н. Милюков писал, что “то,
что у них правильно, то не ново, а то, что ново, то неправильно” (Милюков 1994).
Яростную полемику евразийцы вели и с другими, не менее известными против-
никами - Н.А. Бердяевым, С.Н. Булгаковым, И.А. Ильиным, А.А. Кизеветтером.
В 1931 г. Петр Николаевич Савицкий, подводя итог первому десятилетию ев-
разийского движения, выпустил в Праге брошюру “В борьбе за евразийство.
Полемика вокруг евразийства в 1920-х годах”, в которой запротоколировал
различные взгляды на данное философское направление в эмигрантской и
зарубежной печати (Савицкий 1997б). Активное и даже агрессивное рас-
пространение евразийских идей было надломлено “кламарским расколом”
1929 г., а во второй половине 1930-х годов их развитие во многом сошло
на нет: политизированные тексты тех лет имели мало общего с исходным
интеллектуальным импульсом. Основатели движения по разным причинам от-
странились от своего детища (Казнина 1995; Соболев 1992; Шнирельман 1996),
и евразийство, утратившее творческий импульс, на какой-то период стало всего
лишь одним из предметов эмигрантских споров, но сохранилось в качестве
наиболее значимого общественно-политического течения русского зарубе-
жья (Пащенко 2003: 5).
Лишь три десятилетия назад евразийство начало возрождаться, оживленное
интеллектуальной харизмой и личным обаянием Л.Н. Гумилева, который, при
всей дискуссионности этой преемственности и мифотворчестве вокруг идеи о
непрерывном существовании на протяжении всего ХХ столетия евразийских
идей (Ларюэль 2001), протянул нить от евразийства 1920-1930-х годов к нео-
евразийским течениям, появившимся в 1990-е годы (Ларюэль 2004; Шнирельман
2006; Шнирельман, Панарин 2000). Работы евразийцев начали переиздаваться;
однако возрождающееся движение быстро переросло в политическое мировоз-
зрение, носящее эпигонский характер, стремящееся конвертировать идейное
наследие во властные дивиденды и заполнить расширяющийся идеологический
86
Этнографическое обозрение № 1, 2022
вакуум в постсоветском обществе нетривиальными гипотезами (о процессе см.:
Шнирельман 1996; Карлов 1997). Евразийство обрело второе дыхание. В этот
период, собственно, и начинается его исследование. В то время как политологи
и философы тиражировали и транслировали озвученные евразийцами новые
для советского читателя смыслы, историки погрузились в архивы, содержимое
которых позволяет как воссоздать атмосферу, в которой зарождалось евразий-
ство, так и существенно скорректировать устаревшие интерпретации.
Богатый материал для изучения истории евразийского движения дает пере-
писка его участников. Она во многом проясняет не только систему личных вза-
имоотношений, но и раскрывает каналы коммуникации, посредством которых
евразийство заявляло свои права в русской науке и завоевывало место в смыс-
ловом содержании русской мысли (актуальность исследования коммуникатив-
ного пространства переписки, проливающей свет на возникновение и развитие
евразийского движения, его внутренние дебаты, отношение к различным ин-
теллектуальным течениям первой трети XX в., подтверждают вызвавшие зна-
чительный интерес научные публикации: Глебов 2010; Ефимов 2013; Ларюэль
2001; Трубецкой 2009; Записки 2011-2012). Однако до сих пор обширный пласт
переписки не введен в научный оборот: письма до сих пор обнаруживаются
в личных фондах респондентов евразийцев. Так были выявлены публикуемые
ниже письма (№ 1 и № 2) Савицкого патриарху отечественной школы истории
Французской революции, социологу, философу и методологу науки Николаю
Ивановичу Карееву (1850-1931), найденные в отделе рукописей Российской го-
сударственной библиотеки (далее - ОР РГБ. Ф. 119).
Хотя географ, экономист, геополитик, культуролог, философ, поэт Савицкий
(1895-1968) после смерти основателя движения - лингвиста, философа Нико-
лая Сергеевича Трубецкого (1890-1938) - фактически становится идейным ли-
дером евразийцев, его подход к культуре как сложному и динамичному явлению
не получил значительного развития в евразийской мысли (Шнирельман 1996: 8;
о его роли как “последнего евразийца” см.: Ларюэль 2001). В этом отношении
фигура Савицкого стоит особняком и привлекает внимание исследователей. Си-
стематизировано его творческое наследие (Байссвенгер 2009), о нем регуляр-
но издаются монографии (Матвеева 2016) и статьи (Вахитов 2013; Лавринова
2013; Прокуденкова 2012; Мелих 2013; Быстрюков 2018; Beisswenger 2010), за-
щищаются диссертации (Быстрюков 2003; Полухин 2007; Соколов 2008); также
подготовлены статьи в энциклопедических изданиях (Байссвенгер 2012). Вни-
мание исследователей привлекает и богатое эпистолярное наследие ученого
(Записки 2011-2012).
Во второй половине 1920-х годов Савицкий вступил в переписку с учены-
ми, оставшимися в советской России; эта переписка, вероятно, преследовала
несколько целей. Прежде всего он стремился наладить контакты с соотече-
ственниками, которые могли быть привлечены к евразийскому движению, и
распространять среди них свои идеи. Л.П. Карсавин писал С.Л. Франку в
1926 г.: “Для нас важно, что ев[разийст]во, помимо собственных своих за-
дач, вызывает симпатию <…> и является некоторым группирующим нача-
лом” (Оболевич 2018: 71). Кроме того, евразийцы, признававшие русскую
революцию как свершившийся факт, надеялись встретить понимание своего
восприятия власти большевиков в среде эмигрантов; однако монархическая
в своей массе эмиграция не могла смириться с поражением белого движения
и ожидала реванша. Представители же “старой науки” в советской России
были вынуждены принять и признать новую власть, а, значит, с большей сте-
пенью вероятности могли бы согласиться с евразийцами. В попытке завязать
отношения с представителями старого академического сообщества, оставши-
Долгова Е.А., Малинов А.В. Малоизвестные страницы евразийского движения...
87
мися в России, также заключалась надежда на то, что евразийцы смогут най-
ти сочувствие и другим своим идеям. Евразийцы явно ощущали недостаток
признания со стороны официальной науки; отчуждение от академического
сообщества усиливал следующий факт: как уже говорилось выше, основная
часть эмиграции (монархическая по своему составу) не приняла учение и
деятельность евразийцев, что нередко приводило к скандалам. Положитель-
ные отклики со стороны ученых старшего поколения означали бы принятие
евразийцев академической наукой. Оставалась надежда на то, что деятели
науки в СССР, которые не приняли идеологический схематизм марксизма, но
и не опускались до открытой и зачастую грубой критики советской власти
(как поступало большинство русских эмигрантов), могут отнестись с инте-
ресом к формирующейся евразийской концепции. Даже само вступление в
полемику означало бы косвенный факт признания со стороны ученых. Кроме
того, личная переписка была для евразийцев каналом, позволявшим следить
за исторической литературой, выходившей в советской России, и получать
новые книги. Так, например, в одном из писем Савицкий, приславший Ка-
рееву книгу Г.В. Вернадского “Начертание русской истории” (Прага, 1927),
сочинение Н.П. Толля “Скифы и гунны” (Париж, 1928) и свою статью
“О задачах кочевниковедения. Почему скифы и гунны должны быть инте-
ресны для русского”, напоминал своему респонденту о том, что ожидает
получения его трехтомного труда “Историки французской революции”, из-
данного в Ленинграде в 1924-1925 гг., а также работ Кареева по философии
истории. Наконец, нельзя упускать из виду и политическую составляющую:
в том же 1927 г., когда началась переписка Петра Николаевича с Николаем
Ивановичем, Савицкий “тайно” посетил CCCР для встречи с представите-
лями организации “Трест”. Впрочем, политический подтекст в его письмах
Карееву не просматривается.
В личном фонде Кареева хранятся два упоминавшихся выше письма Савиц-
кого, адресованные ему (ОР РГБ: Л. 1; Л. 2-5). Вероятно, это лишь завершающая
часть их полемической переписки, скорее всего не очень обширной. Известно
как минимум о нескольких отправлениях - от 16 ноября 1927 г. (открытка Каре-
ева), от 2 декабря 1927 г. (письмо Кареева), от 27 сентября 1928 г. (письмо Ка-
реева), от 30 сентября 1928 г. (упомянутое письмо Савицкого с посылкой статьи
“Задачи кочевниковедения”), от 15 марта 1929 г. (почтовая карточка Савицкого),
от 1 апреля 1929 г. - отправка книг Кареевым Савицкому (Долгова 2015: 335,
336, 376, 456). Сам факт переписки примечателен, а содержание ее нуждается в
публикации: она прекрасно иллюстрирует отдельные аспекты взаимодействия
различных научных традиций и поколений, позволяет уточнить степень вза-
имного интеллектуального влияния. С Кареевым Савицкий мог познакомиться
еще в пору своего обучения в Политехническом институте в Санкт-Петербурге,
куда он поступил в 1913 г. на экономическое отделение и где Кареев преподавал
с 1902 по 1914 г. Правда, разница в возрасте и положении мало способствовала
их сближению.
Дошедшее до нас письмо Савицкого (№ 1, от 30 сентября 1928 г. [ОРГ РГБ:
Л. 2-5]) было ответом на послание Кареева, в котором он излагал свои крити-
ческие замечания по поводу понятия “месторазвитие”. Можно предположить,
что едва ли сам престарелый ученый выступил инициатором переписки. Его
письмо, скорее всего, было ответом на обращение к нему Савицкого, по-ви-
димому, приславшего оттиски своих публикаций (вероятно, это была статья
“Географический обзор России-Евразии”, в которой он впервые употребил
термин “месторазвитие”). В дневниках Николая Ивановича в записи от 2 де-
кабря 1927 г. стоит пометка: “Разбор теории Савицкого. Письмо Савицкому”
88
Этнографическое обозрение № 1, 2022
(цит. по: Долгова 2015: 336), несколькими неделями ранее была отправлена и
почтовая карточка (вероятно, благодарственного характера). Таким образом,
переписка вряд ли началась ранее 1927 г. Письма Савицкого этих лет пока-
зывают, что он регулярно отправлял адресатам оттиски своих публикаций.
Об этом можно судить, например, по его переписке с византинистом Ф.И.
Успенским, имевшей место в те же годы (Робинсон 1992).
Письмо Савицкого Карееву предваряет и поясняет мысли, позже оконча-
тельно сформулированные в вышеупомянутой статье “О задачах кочевнико-
ведения…”, вышедшей в Праге в Евразийском книгоиздательстве в 1928 г.
Публикация раскрывала смысл термина “месторазвитие” - одного из клю-
чевых понятий евразийства, предполагающего строгую привязку этноса к
привычному ландшафту, внимание к географическому, а не биологическому или
социальному факторам развития этноса, иными словами - неразрывную связь
этнических коллективов со своими особыми природными нишами (Шнирельман
2006: 9). В изданной Савицким книге “Евразийская библиография 1921-1931 гг.
Путеводитель по евразийской литературе”, которая была опубликована под псев-
донимом “Степан Лубенский” и содержала аннотации вышедших работ по вы-
шеуказанной тематике, он писал следующее: “Под этим термином (“местораз-
витие”. - Е.Д., А.М.) П.Н. Савицкий обозначил социально-историческую среду,
рассматриваемою неотрывно от ее территории”, а далее приводил цитату из
своей брошюры “Россия - особый географический мир” (Прага, 1927):
Культурные традиции оказываются как бы вросшими в географический ландшафт, от-
дельные месторазвития становятся “культурно-устойчивыми”, приобретают особый,
специально им свойственный “культурный тип”… Порукой тому, что отмечаемые чер-
ты обособленности и целостности Евразии имеют не только географическое, но также
историческое значение служит русская историософия. В вековом развитии, независимо
от тех или иных географических определений… она пришла к пониманию России как
особого исторического мира. Не может быть случайным совпадение географического
и историософского вывода, возникших независимо друг от друга: Россия как особый
географический и Россия как особый исторический мир. Этим совпадением в чрезвы-
чайной мере обосновывается категория “месторазвития”, стяжение воедино географиче-
ских и исторических начал (цит. по: Горизонтов 1992: 97).
Этот геополитический подход, устанавливающий жесткую однонаправлен-
ную связь между гомогенным природным ландшафтом, культурой и государ-
ственным образованием, стал важной методологической основой евразийства;
проблема заключалась в его субъективности и резкой политической тенденци-
озности (Шнирельман 2002: 16).
Термин “месторазвитие” стал одной из главных категорий евразийства, во-
йдя в состав их философско-исторического и геополитического учений. Частое
обращение к нему современных ученых, занимающихся исследованиями в об-
ластях, далеких от истории или философии, подтверждает его эвристический
потенциал и укорененность в языке отечественной науки. «С рождением тер-
мина “месторазвитие”, - отмечает К.Б. Ермишина, - начинается евразийская
философия пространства, а его философский словарь пополняется все новыми
терминами. Месторазвитие означает территорию взаимодействия среды и че-
ловека, место встречи природного, антропологического и надприродного фак-
тора. <…> Совокупность условий позволяет определять типы месторазвитий
и историческую судьбу народов» (Ермишина 2017: 141). В становлении само-
бытной культуры Савицкий подчеркивал приоритет месторазвития, а не этно-
са или расы. «…культура “первее” расы», - писал он Карееву (ОР РГБ: Л. 3).
Более того, в письме Петр Николаевич уточнял, что месторазвитие - это не
только пространство, в котором вызревает культура и осуществляется история,
Долгова Е.А., Малинов А.В. Малоизвестные страницы евразийского движения...
89
но и среда, соединяющая историю с биологией. Иными словами, этнос через
хозяйственную деятельность оказывался неразрывно связанным с местными
природными условиями, в особенности с “привычным ландшафтом”1. Он не
случайно употреблял выражение “номогенез или предопределенная эволюция”,
прямо отсылая к концепции Л.С. Берга, которая, в свою очередь, была сформу-
лирована в качестве альтернативы дарвинизму. Тем самым Савицкий обозначал
привязку своего учения к критике дарвинизма, восходящей, по крайней мере,
к Н.Я. Данилевскому. Евразийство демонстративно придерживалось партику-
ляристского подхода, подчеркивавшего уникальность исторического развития
локальных культур. В рамках данного подхода культура рассматривалась не как
политическое и социально-экономическое единство, а как культура-личность,
для описания которой были разработаны специальные термины, такие как “на-
род-личность”, “симфоническая личность”, “соборная личность”, “культурный
организм” и проч. (об интеллектуальном влиянии традиции немецкой геогра-
фии и культурологии см.: Шнирельман 2006: 4-5).
В статье “О задачах кочевниковедения...”, сопровождающей письмо № 1,
Петр Николаевич делал еще больший акцент на расхождении евразийства с
позитивистским мировоззрением и методологией. Постмодернистские моти-
вы, включающие этническое многоголосье и отвергающие саму идею единой
истины, проявились в реабилитации кочевой тюркской культуры (Там же: 5).
Так, Савицкий провозглашал: «Кочевой быт представляет не “стадию”, но ме-
сторазвитие» (Савицкий 1997a: 364). В отечественной научной традиции глав-
ную роль в исторической реабилитации кочевников сыграли исследования и
экспедиции сибирских областников. Как известно, 3 марта 1891 г. в Антропо-
логическом обществе в Петербурге Н.М. Ядринцев выступил с докладом “Зна-
чение кочевого быта в истории человеческой культуры”, в котором доказывал
культурную самобытность кочевников, обосновывая кочевой быт в качестве
самостоятельной цивилизации, имеющий большие заслуги перед человече-
ством. Однако Н.М. Ядринцев исходил из просветительской в своих истоках
модели линейного развития культурных форм. Савицкий же, признавая его
фактическую правоту, порывает с линейным (стадиальным) восприятием раз-
вития культуры. Кочевое месторазвитие он обозначал как “хингано-карпат-
ский прямоугольник степей”. Термин “месторазвитие”, таким образом, озна-
чал отказ от стадиальной, а, следовательно, линейной модели исторического
процесса. Стадиальность заменялась системой географически обусловленных
месторазвитий (степного и периферийных). Общность месторазвития демон-
стрировала цивилизационное единство региона, культурно-историческую
преемственность народов, хронологически далеко стоящих друг от друга, но
существовавших в одном месторазвитии. Культура, подчеркивал Савицкий,
определяется месторазвитием, а не происхождением народа.
В ранних работах Петра Николаевича много деклараций и культурно-и-
сторических панорам, написанных широкими мазками. В подтверждение
своих идей он привлекал данные других наук, “дополнял евразийскую кон-
цепцию истории с точки зрения географии, экономики и геополитики”
(Ермишин 2019: 233). Исследования Савицкого зачастую имели эклектиче-
ский характер, не всегда прямо подтверждались историческими фактами, не
вписывались в общепринятые рамки академической науки и поэтому служи-
ли хорошей мишенью для критики. В такой ситуации удержаться от упреков
не смог и Кареев.
Содержание письма Николая Ивановича, ответом на которое стало публику-
емое послание Савицкого, нам не известно; однако остается надежда на то, что
оно сохранилось в чешских архивах. Мы можем лишь реконструировать ответ
90
Этнографическое обозрение № 1, 2022
Кареева, опираясь на его опубликованные работы, и попытаться восстановить
часть его аргументов. Задачу упрощает то, что взгляды Кареева в течение жизни
практически не менялись: он продолжал быть верным последователем позити-
визма. Даже в первой трети ХХ в. Николай Иванович оставался в некоторой сте-
пени ученым прошлого столетия. В своих исследованиях он сосредоточивался
на изучении политических и отчасти идеологических (мировоззренческих, на-
учных) движений. Например, рассматривая национальный вопрос, в частности
“славянское возрождение”, он выводил его не из особенностей природной и
социально-исторической среды, а из гуманитарных предпочтений представи-
телей романтизма, припозднившегося на славянской почве. «Самый интерес к
народности, - писал он в “Истории Западной Европы в Новое время”, - беря его
в научном смысле, - был характера более этнографического, чем социологиче-
ского. И старая история изучалась более в связи с филологией и фольклором...»
(Кареев 1916: 409). Природно-климатическую среду он допускал в историю и
культуру лишь в качестве одного из факторов исторического процесса. Не вда-
ваясь в оценку географического детерминизма, отметим, что Кареев рассматри-
вал его в качестве составной части концепции многофакторности историческо-
го процесса, признавая за ним важное, но все же ограниченное значение. Более
того, из письма Савицкого можно сделать вывод, что Кареев как представитель
гуманитарной науки XIX в. подошел к новому учению прежде всего с истори-
ко-филологической стороны. Так, Савицкий упоминает о “филологической кри-
тике”, которую высказывал его адресат в отношении термина “месторазвитие”;
последний, вероятно, не видел нужды расширять привычный словарь географи-
ческого детерминизма.
В конце 1910-х и начале 1920-х годов Кареев подготовил ряд исследова-
ний социологического и методологического характера (“Общие основы соци-
ологии”, “Основы русской социологии” и “Общая методология гуманитарных
наук”), сумев опубликовать только первое из них. В нем он признавал роль при-
родной среды в формировании культуры народа, отмечая, что
…и теперь всем ясно, что природа страны, как влиятельный и столь постоянно действу-
ющий фактор в исторической жизни народа, накладывает свою печать на все стороны,
определяя тем самым, что находится для него в области возможного и что для него не
возможно. Однако, в самой природе не все остается абсолютно неизменным (вырубание
лесов, осушка болот, распахивание степей, улучшение почвы, пород скота и т.д.), а в то
же время развитие культуры расширяет область возможного. В общем, однако, все-таки
природа страны вносит своеобразие и постоянство в жизнь населения в очень многих от-
ношениях (определяя занятия и образ жизни, содействуя сближению между отдельными
частями страны или, например, горами раздробляя ее на обособленные местности и т.п.)
(Кареев 1919: 184-185).
Для народа и его культуры, полагал Кареев, природа является не столько
фактором устойчивости культурных форм и общих характеристик народного
быта, психологии и мировоззрения, сколько условием, провоцирующим инерт-
ность культуры, ее малую изменчивость, а порой и косность. Он писал:
Комбинируясь в своих следствиях, постоянные физические свойства страны, прирожден-
ные расовые свойства, более или менее прочно сложившиеся привычки в разных сферах
жизни, определяют собою и весь социальный строй и быт народа в их своеобразии по
сравнению с другими народами в их большем или меньшем постоянстве в истории само-
го народа. Конечно, меняется, но медленно и постепенно, то или другое в природе стра-
ны под влиянием деятельности самого же народа, меняется кое-что и в прирожденных
свойствах человека (“раса”, напр., улучшается или происходит ее вырождение), особен-
но многим изменениям подвержены привычки, нравы, традиции, определяющие нацио-
нальный характер, но, в общем, во всем этом есть своя устойчивость, лежащая в основе
Долгова Е.А., Малинов А.В. Малоизвестные страницы евразийского движения...
91
и устойчивости социальных форм, как продуктов совокупного действия условий внеш-
ней природы страны, прирожденных свойств ее населения и всего того, что создается
психическим взаимодействием, подражательностью, традицией. Но не нужно упускать
из виду, что традицией передаются не только интраментальные элементы культуры, но и
экстраментальные, составляющие в своей совокупности существующий политический
строй, действующее объективное право, установившиеся хозяйственные порядки, также
отличающиеся инертностью (Кареев 1919: 185-186).
Значение природного ландшафта и климатических условий, принимаемое
Кареевым с упомянутыми им оговорками, сильно корректируется другими фак-
торами социально-исторического развития: экономикой, влиянием соседей,
происхождением и составом населения, активностью исторических личностей
и т.п. Более того, история движется в направлении, когда не природа будет опре-
делять культуру, а, наоборот, культура будет менять природную среду. В этом
кроется один из признаков прогресса.
Кареев действительно не был готов пожертвовать прогрессом, в котором
видел смысл самой истории. В свое время установление смысла исторических
событий он ставил в задачу философии истории, точнее, историософии. “В фи-
лософии истории, - отмечает современный исследователь, - Кареев усматрива-
ет возможность объединить усилия истории и философии: одна, на его взгляд,
способна собирать и конструировать факты прошлого, другая - оценивать эту
картину и находить объединяющее начало истории разных народов. Инстру-
ментом для такого объединяющего начала у Кареева становится общественный
прогресс как главная историософская идея” (Михайлова 2020: 216). Идея про-
гресса получала свое оправдание в линейной модели социально-исторического
универсализма. Евразийство же меняет саму метафорику исторического нарра-
тива: история мыслится не в виде линии или лестницы прогресса, а в качестве
поля или, говоря словами Н.Я. Данилевского, “поприща исторической деятель-
ности человечества”, на котором все культуры равноценны. В брошюре “Европа
и человечество” (1920) Трубецкой призывал отказаться от оценки в этнологии и
истории культуры. Савицкий дает этой пространственной метафоре поля новое
емкое название - “месторазвитие”. Еще несколькими десятилетиями ранее в по-
лемике с Н.Я. Данилевским Кареев критиковал идею локальных, самобытных
цивилизаций (Михайлова, Бельчевичен 2012: 75-77). В этом его позиция совпа-
дала с оценкой труда Н.Я. Данилевского В.С. Соловьевым (Сидорин 2020: 12).
Несмотря на значительные расхождения и разные философские ориентации,
В.С. Соловьев в целом комплиментарно относился к философско-историческим
поискам своего гимназического товарища2. Принцип же месторазвития давал
новое обоснование цивилизационной обособленности культур и народов, объяс-
нял их разнообразие и несводимость к одному типу.
Еще один существенный признак исторического прогресса, в восприятии
Кареева, - это развитие личности. Николай Иванович следует либеральному
пониманию личности как индивида или биологической особи, изначально на-
деленной разумом и волей (разумной волей или практическим разумом), дей-
ствующей свободно и представляющей собой некую устойчивую сущность, т.е.
сохраняющую свою идентичность на протяжении практически всей жизни, что
дает основание для наделения личности правами. Евразийцы и здесь меняют
смысловые координаты восприятия личности. Л.П. Карсавин привносит в евра-
зийство учение о симфонической личности, которое восходит к славянофиль-
ской концепции “цельной личности”. Являясь убежденным западником, Кареев
не может это принять.
Впрочем, эмигрантская историография подает и другой пример переос-
мысления нового понятия (“месторазвитие”) при сохранении верности пози-
92
Этнографическое обозрение № 1, 2022
тивистской методологии. Готовя в 1929-1930-х годах новое издание “Очерков
по истории русской культуры”, П.Н. Милюков обратился к понятию “место-
развитие”, постепенно занимающего осмысленное место в тезаурусе русской
исторической мысли. Он не подвергал сомнению универсальность истори-
ческого процесса, в котором допускал параллелизм как один из видов един-
ства сходств и своеобразий, раскрывающийся “как единство географической
среды и археологического быта”. Для обоснования общности исторического
процесса П.Н. Милюков и обратился к данному термину: «Идеей, объединя-
ющей черты своеобразия и сходства процесса - и дающей возможность раз-
умного синтеза тех и других, является понятие “месторазвитие”» (Милюков
1993: 33). При этом он оговаривался, что влияние физических условий, сво-
еобразных внешних границ общественно-исторического процесса, частью
которых является месторазвитие, наиболее полно проявляется лишь в начале
истории. Последующий ход развития культуры демонстрирует подчинение
сил природы и овладение ими. Замечание известного историка и политика не
прошло незамеченным, и “обширная евразийская литература провозгласила
Милюкова своим основателем” (Вандалковская 1992: 152). Впрочем, в своих
рассуждениях русский историк не выходил за пределы привычного геогра-
фического детерминизма, признающего “зависимость каждой национальной
культуры от той среды - того географического места, в котором совершается
ее развитие” (Милюков 1993: 66-67). Географический детерминизм, уточнял
он, “дает впервые возможность научно обосновать причинную связь между
природой данного месторазвития и поселившимся в нем человеческим об-
ществом” (Там же: 67). Опора на географический детерминизм позволяла и
Карееву мыслить в рамках привычной позитивистской модели многофактор-
ности социально-исторического процесса. Новое же понятие претендовало
на тотальность, подрывающую, для Кареева, монополию позитивистского
мировоззрения. Он, вероятно, не считал географический детерминизм уста-
ревшим, а его эвристические возможности исчерпанными, хотя, как можно
предположить, и не видел необходимости в его новом (евразийском) издании.
Более того, месторазвитие детерминировало этнические и культурные про-
цессы, в то время как для Кареева природно-климатическая среда оставалась
одним из исторических факторов, наравне с уровнем культуры и особенно-
стями населения.
Оставшемуся в Ленинграде Карееву новое издание “Очерков по истории
русской культуры”, скорее всего, не было доступно, и он не мог оценить ин-
теллектуальную гибкость своего коллеги. Впрочем, русская история никогда не
была предметом его специальных исследований. Еще менее Кареева интересо-
вала история кочевых народов, из фактов которой евразийцы черпали материал
для своих историософских построений. Опираясь на разные источники и об-
ращаясь к различным интерпретационным схемам, Кареев и евразийцы прихо-
дили к разным выводам. Правда, ответ Кареева свидетельствовал о том, что он
серьезно воспринял заявку евразийцев, вероятно, увидев в ней рациональное
зерно, достойное критического отклика.
Ниже публикуется текст двух писем Савицкого - от 30 сентября 1928 г.
(ОР РГБ: Л. 2-5) и от 15 марта 1929 г. (Там же: Л. 1). Первое - развернутое
размышление, сопровождавшее присылку оттиска “О задачах кочевникове-
дения…”, второе - краткая записка на почтовой карточке. Текст публикуется
по современным правилам орфографии и пунктуации. Стилистические осо-
бенности рукописи, отличительные черты расположения текста на листе со-
хранены в целях аутентичной передачи источника. В документе сохранены
пометки автора - Савицкого и читателя - Кареева. Курсивом обозначены под-
Долгова Е.А., Малинов А.В. Малоизвестные страницы евразийского движения...
93
черкивания Савицкого в тексте письма, подчеркиванием - отметки красным
карандашом, сделанные Кареевым. Восстановленные публикаторами фраг-
менты даются в квадратных скобках, сокращения документа, публикуемого
не полностью, обозначены <…>.
Письма П.Н. Савицкого Н.И. Карееву, 1928-1929 гг.
№ 1
Střešovice, с. 407, Praha, Tschechoslovakai
[Пр. Пролетарской победы, д. 24, кв. 6, Васильевский остров,
Ленинград, СССР]
30 сентября 1928 г.
(Л. 2)
Глубокоуважаемый Николай Иванович!
Я получил своевременно Ваше обаятельное и чрезвычайно интересное
для меня письмо от 2.XII.1927 г. Примите за него мою сердечную призна-
тельность. Задержка с ответом вышла из-за того, что ответ этот я хотел при-
урочить к посылке вам некоторых новых исторических работ. Как всегда,
осуществление не вполне отвечает планам, и также сейчас я не могу послать
Вам задуманную мной книгу “Культура Древней Евразии”, над которой
работал все последние месяцы3. Не знаю даже, когда смогу закончить эту
книгу, т[ак] к[ак] в настоящий момент оторван от работы многочисленными
текущими делами. Пока же посылаю слабый подмалевок к этой работе -
статью мою “О задачах кочевниковедения”. Еще в начале августа я распо-
рядился выслать Вам книгу Н.П. Толля “Скифы и гунны”4. Очень хотел бы
знать, получена ли Вами эта книга.
Я полагаю, что с точки зрения языка, как он существовал раньше, Ваша
филологическая критика термина “месторазвитие” совершенно правильна.
Однако же, укрепление термина “месторождение” в геологии, термина “ме-
стопроисхождение” в ботанической географии и термина “местообитание” в
географии зоологической, (Л. 2об) все это - совершившиеся факты. Нет ни
одной книги, по каждой из этих специальностей, в которой эти термины не
употреблялись бы. А это означает, что строй языка изменился, что граммати-
ческие формы приобрели новый смысл. Ведь смысл этих словообразований
не возбуждает ни в ком ни малейших сомнений. И часто ведь то, что рань-
ше было неправильно, потом становится правилом. Язык изменяется непре-
рывно. В частности же, для русского языка наше время есть эпоха языковой
“мутации”, подобная, как мне кажется, Петровской эпохе. Все это и дало мне
основания образовать термин “месторазвитие”. Его право на существование
(в обозначенных выше условиях) - в его слаженности и в удобстве манипу-
лирования с ним. Определяя понятие, гораздо правильнее (было “удобнее”;
исправлено Савицким. - Е.Д., А.М.) обозначать его одним словом, чем двумя
или несколькими словами. И хотя бы сами по себе слова эти и были весьма
выразительными (пример: Ваше обозначение [было “выражение”; исправле-
но Савицким. - Е.Д., А.М.]: “место, где происходит развитие”).
Да, если хотите - между культурой и ее месторазвитием существует пре-
допределенное соответствие. Это положение можно применить и к соотноше-
нию между носителем культуры, народом и его месторазвитием. Но признакам
94
Этнографическое обозрение № 1, 2022
этническим и расовым, вообще говоря, я придаю (Л. 3) второстепенное значе-
ние. Мне представляется, что культура “первее” расы. И когда в дальнейшем
я буду говорить о тех или иных народах, я буду рассматривать их, прежде
всего, как носителей определенной культуры. Итак, существует предопреде-
ленное соответствие между культурой и ее месторазвитием. Позвольте приве-
сти несколько примеров. Скифы - носители первой конной культуры в Евра-
зии. Между тем, территория, отвечающая геродотовской Скифии, по данным
с[ельско]х[озяйственной] переписи 1916 г.5, есть единственная территория в
Евразии, где количество лошадей на кв[адратную] версту превосходило в том
году одиннадцать6. Цифра, в данном случае, конечно, не имеет значения. Важно
то, что геродотовская Скифия и через н-ное столетие после Геродота остает-
ся наиболее конной страной Евразии. А мы знаем, что скифская культура не
была создана этой страною. Скифы вторглись сюда с востока, т[о] е[сть], так
сказать, “выбрали” ее в качестве своего месторазвития. Как же тут не говорить
о (Л. 3об) соответствии между конной скифской культурой и “выбранной” ею
страной. Поглядим на древнейшую земледельческую культуру Евразии - т[ак]
наз[ываемую] “трипольскую” культуру неолита. Ее месторазвитие - три губер-
нии 1916 г.: Полтавская, Киевская и Подольская. По данным той же с[ельско]
х[озяйственной] переписи 1916 г., губернии эти, по десяткам признаков, выде-
ляются из всей территории Евразии как область наиболее интенсивного земле-
делия. Есть соответствие между трипольской культурой7 и “местом, где про-
исходило развитие”. А посмотрите, какой “садок” для отбора мореплавателей
представляют собой Британские острова. Англичанин как мореплаватель вовсе
не “создан” природою этих островов и, напротив, ирландцы, наиболее древ-
няя из существующих здесь исторических групп, вовсе не являются морепла-
вателями по преимуществу. Британские острова являются “месторождением”,
которое последовательно выбрал в качестве места для поселений целый ряд
исторических групп, уже и без того хлынувших к морю и чувствовавших себя
на море как в своей стихии: англо-саксы (V в.), датчане (VIII в.), норманны
(XI век). В результате этого длительного и сложного процесса “отбора море-
плавателей” явился (было “рожден”; исправлено Савицким. - Е.Д., А.М.) тип
англичанина-бороздителя морей. Есть “избирательное сродство” (Л. 4) между
теми группами, которые выбирали Британские острова для поселения, и при-
родою этого острова. Вспомним наших ходоков за Урал, выбиравших (в самом
буквальном смысле) земли для своих односельчан. Представим себе, что эти
селяне… (предложение зачеркнуто в тексте письма. - Е.Д., А.М.). В результате
создавалось соответствие между культурной ориентацией данной группы и из-
бранной ею территорией. Но для того, чтобы подобное соответствие создалось,
необходимо (было “нужно”; исправлено Савицким. - Е.Д., А.М.), чтобы была
такая группа и существовала такая территория. И чтобы группа могла избрать
эту территорию и территория могла получить эту группу. Упомянутые условия
я и называю “предопределением” (было «разумею под “предопределением”»;
исправлено Савицким. - Е.Д., А.М.). Совершенно неожиданно здесь оказалось
схождение (было “Совершенно неожиданно для себя в этом определении я со-
шелся…”; исправлено Савицким. - Е.Д., А.М.) с современной теорией эволюции.
Теория эта прямо полна понятием о предопределении. Беру первую пришедшую
в память формулировку: “основные пути изменчивости ограничены и как бы
предопределены, подобно химическим соединениям из атомов” (В.Н. Хи-
трово. Природа Орловского края. Орел, 1925. С. 2748). Читая биологическую
литературу, такие формулировки приходится отмечать (было “можно приво-
дить”; исправлено Савицким. - Е.Д., А.М.) сотнями. В известном смысле, даже
поселение негров в южных широтах “предопределено”. В Канаде подобное не-
Долгова Е.А., Малинов А.В. Малоизвестные страницы евразийского движения...
95
гритянское население не могло бы создаться (нет соответствия (Л. 4об) меж-
ду физиологической природой группы и природой страны). Все эти случаи, эти
стороны, которые мы называем “соответствием”, “избирательным сродством”
или “предопределением” - всё это черты в одном большом понятии номогенеза
(термин принадлежит Л.С. Бергу, 19229). Номогенез или предопределенная эво-
люция - вот категория, которая охватывает не только биологическое, но также и
историческое развитие (было “эволюцию”; исправлено Савицким. - Е.Д., А.М.).
В человеческом развитии предопределение не отрицает свободы: оно делает эту
свободу организованной (отграничивает свободу от произвола), поставляет ее в
определенные условия, окружение.
Мне неловко злоупотреблять Вашим вниманием. Скажу очень кратко по
поводу других интереснейших мыслей Вашего письма. Невозможно отрицать
связей евразийского мира с Западом. Но посмотрите, сколь отличным от ориги-
нала становится все, что попадает в Евразию - хотя бы и с Запада. Это резко
чувствуется, например, при сопоставлении, например, западного и российского
социализма (казалось бы, явления интернационального!).
Еще хочу Вас заверить, что письмо Ваше я не только не посчитал резким, но
принимаю его как весьма поучительное и глубоко интересное для меня.
(Л. 5). Если бы Вы нашли минуту прочесть мои “Задачи кочевниковедения”,
я был бы бесконечно признателен за замечания. Хотя и имею на это мало на-
дежды, так как тема, конечно, весьма специальна и едва ли может Вас заинте-
ресовать.
Не теряю надежды получить от Вас что-либо из Ваших весьма мною цени-
мых работ. В особенности, хотелось бы иметь у себя Ваши вещи по философии
истории. За каждую вещь, которую оказалось бы возможным прислать, был бы
весьма благодарен.
От души желаю Вам всего наилучшего и еще раз благодарю за Ваше весьма
для меня поучительное письмо.
Преданный Вам, П. Савицкий.
P.S. Вы предполагали, что, может быть, напишете на книгу Г.В. Вернадского
рецензию10. Было бы очень интересно знать, осуществилось ли это намерение?
Ut in litteris11, Cавицкий.
№ 2
Střešovice, с. 407, Praha, Tschechoslovakai
[Пр. Пролетарской победы, д. 24, кв. 6, Васильевский остров,
Ленинград, СССР]
Николаю Ивановичу Карееву
15 марта 1929 г.
Глубокоуважаемый Николай Иванович! В письме вашем от 27.IX.1928 Вы
поставили мне вопрос, нужна ли мне книга Ваша об историках Французской
Революции12. Я ответил, что очень ею интересуюсь и был бы весьма признате-
лен за присылку ее мне. К сожалению, до сих пор не получил этой книги. Был
бы очень благодарен за высылку этой книги по нижепоказанному адресу. На-
деюсь в ближайшее время направить Вам новейшие мои работы13. Очень хотел
бы узнать, над чем Вы работаете в настоящее время. Шлю Вам мои сердечные
пожелания. Искренне Ваш, П. Савицкий.
96
Этнографическое обозрение № 1, 2022
Примечания
1 О преемственности идей, перерастании понятия “месторазвитие” в уче-
ние о хозяйственно-культурном типе, о связи с концепцией “этноценоза”
Л.Н. Гумилева (“Один ландшафт - один этнос”) см.: Шнирельман 2006: 9-10.
2 “…при всем критицизме Соловьева ко многим аспектам концепции Ка-
реева многое из воззрений последнего было ему симпатично. Думается, что
при всех различиях между глубоко религиозной философией Соловьева и во
многих аспектах позитивистски ориентированной теорией Кареева первому
была близка не только сама попытка создания цельной философско-истори-
ческой концепции и идея высокого исторического призвания личности, но
и общий пафос, заключающийся в понимании сферы моральных идеалов,
нравственной деятельности личности как ключевого фактора исторических
изменений, главного двигателя социальной эволюции” (Сидорин 2020: 13).
3 Книга так и не была издана.
4 Имеется в виду издание: Толль 1928. Позднее два ключевых для евразий-
ства текста вошли в первый выпуск книги “Опыт истории Евразии” (1928).
О значении последнего сборника для последующей рецепции идей см. цитату
Л.Н. Гумилева: «Другой общеметодологический принцип евразийского уче-
ния, а именно принцип полицентризма, я усвоил самостоятельно, размышляя
над вопросами, которые волновали и евразийских теоретиков. <…>. Позже
я прочел в Публичной библиотеке книгу Толля о скифах <…>, но ни Савиц-
кого, ни Георгия Вернадского, ни евразийских сборников в библиотеках в те
сталинские времена, конечно, не было. Правда, в экземпляре книги Толля,
который мне попался, было приложение - статья Савицкого “О задачах ко-
чевниковедения: почему скифы и гунны должны быть интересны для русско-
го?..”. Поэтому я вынужден был соображать сам и доходить до многого, так
сказать, своим умом» (цит. по: Шанбай 2013: 583).
5 Имеется в виду первая всероссийская сельскохозяйственная перепись,
проведенная в мае-июле 1916 г. и охватившая 77 губерний и областей евро-
пейской и азиатской России - территорию империи, кроме районов, занятых
неприятелем (вся Гродненская, Ковенская, Холмская губернии и части Ви-
ленской, Волынской, Курляндской, Минской и др. губерний), четырех обла-
стей на Кавказе (Батумской, Дагестанской, Карской и Закавказского округа)
и двух областей на крайнем северо-востоке Сибири (Камчатская и Якутская).
6 Подстрочное примечание Савицкого: “При этом замечательно, что
совпадение границ герод[отовской] Скифии и [подсчетов] в 11 лошадей на
кв[адратную] в[ерсту], весьма точно, насколько можно говорить о точно-
сти при состоянии наших исторических знаний”.
7 Трипольская культура - археологическая культура энеолита и раннего
бронзового века (середина V тыс. до н. э. - 2650-е годы до н. э.) на террито-
рии Молдавии, лесостепи и степей Украины от долины реки Днепр и запад-
нее.
8 Не вполне точная сноска. Верно: Хитрово 1925.
9 Имеется в виду: Берг 1922.
10 Имеется в виду: Вернадский 1927. Рецензия Н.И. Кареевым подготовле-
на не была.
11Лат. “Как обычно пишут”. Здесь: неформальная приписка, заменяющая
повтор: “Преданный Вам”.
12 Имеется в виду: Кареев 1924-1925.
13 Вероятнее всего, имеются в виду тексты-оттиски из: Савицкий 1928а, б, с;
Савицкий 1929.
Долгова Е.А., Малинов А.В. Малоизвестные страницы евразийского движения...
97
Источники и материалы
Берг 1922 - Берг Л.С. Номогенез, или Эволюция на основе закономерностей.
Петроград: Гос. изд-во, 1922.
Бердяев 1925 - Бердяев Н.А. Евразийцы // Путь. 1925. № 1. С. 134-139.
Вернадский 1922 - Вернадский Г.В. Начертание русской истории: c прилож.
“Геополитических заметок по русской истории” П.Н. Савицкого. Ч. 1.
Прага: Евразийское кн-во, 1927.
Записки 2011-2012 - Записки Русской академической группы в США. Т. XXXVII.
N.Y., 2011-2012.
Кареев 1916 - Кареев Н.И. История Западной Европы в Новое время. Т. V:
История Западной Европы в средние десятилетия XIX века (1830-1867).
Петроград: Тип. М.М. Стасюлевича, 1916.
Кареев 1919 - Кареев Н.И. Общие основы социологии. Петроград: Наука и
школа, 1919.
Кареев 1924-1925 - Кареев Н.И. Историки французской революции. Т. 1-3.
Л.: Колос, 1924-1925.
Милюков 1993 - Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т.
Т. 1: Земля. Население. Экономика. Сословие. Государство. М.: Прогресс,
1993.
Милюков 1994 - Милюков П.Н. Евразианизм и Европеизм в русской истории
// Европейский альманах: История. Традиции. Культура. М.: Наука, 1994.
С. 56-66.
Оболевич 2018 - Оболевич Т. (подгот.) Письма Льва Карсавина и Лидии Кар-
савиной к Семену и Татьяне Франк // Философский полилог. Журнал меж-
дународного центра изучения русской философии. 2018. № 2. С. 68-82.
ОР РГБ - Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 119.
Н.И. Кареев. К. 11. Д. 9-10. Автограф, подлинник.
Савицкий 1928а - Савицкий П.Н. К познанию русских степей // Версты. № 3.
Париж, 1928а. С. 215-241.
Савицкий 1928б - Савицкий П.Н. К проблеме индустриализации // Евразий-
ская хроника. Вып. 10. Париж, 1928б. С. 61-63.
Савицкий 1928с - Савицкий П.Н. По Доуралью и Сибири // Евразийская хро-
ника. Вып. 10. Париж, 1928с. С. 88-97.
Савицкий 1929 - Савицкий П.Н. Задание евразийства // Евразийский сборник.
Кн. VI / Ред. Н.Н. Алексеев и др. Прага: Политика, 1929. С. 4-5.
Cавицкий 1997а - Савицкий П.Н. О задачах кочевниковедения // Савицкий П.Н.
Континент Евразия. М.: Аграф, 1997а. С. 342-370.
Савицкий 1997б - Савицкий П.Н. В борьбе за евразийство // Савицкий П.Н.
Континент Евразия. М.: Аграф, 1997б. С. 160-216.
Шанбай 2013 - Шанбай Т.К. (сост.) Лев Гумилев: энциклопедия. М.: Художе-
ственная литература, 2013.
Толль 1928 - Толль Н.П. Скифы и гунны: из истории кочевого мира. Прага:
Евраз. книгоизд-во, 1928.
Трубецкой 2009 - Трубецкой Н.С. Письма к П.П. Сувчинскому, 1921-1928 /
Подгот. К.Б. Ермишиной. М.: Русский путь, 2009.
Хитрово 1925 - Хитрово В.Н. (под общ. ред.) Природа Орловского края:
сборник / Сост. В.А. Беляев и др. [Орел]: Тип. Труд, 1925.
98
Этнографическое обозрение № 1, 2022
Научная литература
Байссвенгер М.Э. Петр Николаевич Савицкий (1895-1968): библиография
опубликованных работ. Прага: Национальная библиотека Чешской Респу-
блики - Славянская библиотека, 2009.
Байссвенгер М.Э. Савицкий П.Н. // Большая Российская энциклопедия. Т. 29:
Румыния - Сен-Жан-де-Люз. М.: Большая российская энциклопедия, 2015.
С. 193-194.
Быстрюков В.Ю. Общественно-политическая и научная деятельность Петра
Николаевича Савицкого в годы эмиграции (1920-1938 гг.). Дис. … канд.
ист. наук. Самарский государственный педагогический университет,
Самара, 2003.
Быстрюков В.Ю. Культурные особенности России-Евразии в концепции
П.Н. Савицкого // Самарский научный вестник. 2018. Т.
7.
№ 2 (23).
С. 211-215.
Вандалковская М.Г. П.Н. Милюков и А.А. Кизеветтер: история и политика.
М.: Наука, 1992.
Вахитов Р.Р. Теологическая структуральная геософия П.Н. Савицкого //
Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 13 (304).
С. 145-148.
Глебов С. Евразийство между империей и модерном: история в документах.
М.: Новое изд-во, 2010.
Горизонтов Л.Е. Евразийство, 1921-1931 гг.: взгляд изнутри // Славяноведе-
ние. 1992. № 4. С. 86-104.
Долгова Е.А. (ред.) Ученый в эпоху перемен: Н.И. Кареев в 1914-1931 гг. М.:
РОССПЭН, 2015.
Ермишин О.Т. Философия русского зарубежья XX в. М.: Летний сад; Дом
русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2019.
Ермишина К.Б. Месторазвитие и ритмы Евразии: к обоснованию философии
евразийства // Вестник Русской христианской гуманитарной академии.
2017. Т. 18. № 4. С. 135-148.
Ефимов М. Рец. на: Глебов С.В. Евразийство между империей и модерном:
история в документах. М.: Новое изд-во, 2010 // Ab Imperio. 2013. № 4.
С. 282-287.
Казнина О.А. Н.С. Трубецкой и кризис евразийства // Славяноведение. 1995.
№ 4. С. 89-95.
Карлов В.В. Евразийская идея и русский национализм (по поводу статьи
В.А. Шнирельмана “Евразийская идея и теория культуры”) // Этногра-
фическое обозрение. 1997. № 1. С. 3-13.
Лавринова Н.Н. Категория “месторазвитие” в концепциях русских мысли-
телей начала XX века // Социально-экономические явления и процессы.
2013. № 11 (57). С. 199-202.
Ларюэль М. Когда присваивается интеллектуальная собственность, или о
противоположности Л.Н. Гумилева и П.Н. Савицкого // Вестник Евразии.
2001. № 4 (15). С. 5-19.
Ларюэль М. Идеология русского евразийства. Мысли о величии империи. М.:
Natalis, 2004.
Матвеева А.М. Геополитическая концепция истории России П.Н. Савицкого.
М.: Прометей, 2016.
Мелих Ю.Б. Евразийцы как “осознаватели культурно-исторического своео-
бразия России” // Историко-философский ежегодник.
2013.
№ 2012.
С. 296-327.
Долгова Е.А., Малинов А.В. Малоизвестные страницы евразийского движения...
99
Михайлова Е.Е. Эволюция историософских воззрений Н.И. Кареева:
от Москвы до Петербурга // Вестник Тверского государственного универ-
ситета. Серия: Философия. 2020. № 1 (51). С. 210-222.
Михайлова Е.Е., Бельчевичен С.П. Позитивизм и марксизм в России: пробле-
ма социокультурного развития. Тверь: Изд-во ТФ МГЭИ, 2012.
Пащенко В.Я. Социальная философия евразийства. М.: Альфа-М, 2003.
Полухин А.Н. Историческая концепция П.Н. Савицкого (теоретико-методо-
логический аспект). Автореф. дис. … канд. ист. наук. Томский государ-
ственный университет, Томск, 2007.
Прокуденкова О.В. Категория “месторазвития” в концепции евразийцев //
Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры
и искусств. 2012. № 3 (12). С. 11-15.
Робинсон М.А. Письмо П.Н. Савицкого Ф.И. Успенскому // Славяноведение.
1992. № 4. С. 83-85.
Сидорин В.В. Вл.С. Соловьев и Н.И. Кареев: к творческой истории “Оправда-
ния добра” // Соловьевские исследования. 2020. № 4. С. 8-19. https://doi.
org/10.17588/2076-9210.2020.4.008-019
Соболев А.В. Своя своих не познаша. Евразийство: Л.П. Карсавин и другие //
Начала. 1992. № 4. С. 49-58.
Соколов Д.Е. Геополитическая теория П.Н. Савицкого. Автореф. дис. …
канд. полит. наук. Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, 2008.
Шнирельман В.А., Панарин С.А. Лев Николаевич Гумилев: основатель этно-
логии? // Вестник Евразии. 2000. № 3 (10). С. 5-37.
Шнирельман В.А. Евразийская идея и теория культуры // Этнографическое
обозрение. 1996. № 4. С. 3-16.
Шнирельман В.А. Русские, нерусские и евразийский федерализм: евразийцы
и их оппоненты в 1920-е годы // Славяноведение. 2002. № 4. С. 3-20.
Шнирельман В.А. Лев Гумилев: от “пассионарного напряжения” до “несопо-
ставимости культур” // Этнографическое обозрение. 2006. № 3. С. 8-21.
Beisswenger M. Eurasianism: Affirming the Person in an “Era of Faith” // A History
of Russian Philosophy 1830-1930: Faith, Reason, and Defence of Human
Dignity / Eds. G.M. Hamburg, R. Pool. Cambridge: Cambridge University
Press, 2010. P. 363-380.
R e s e a r c h A r t i c l e
Dolgova, E.A., and A.V. Malinov. Obscure Pages of the Eurasianist Movement:
The Correspondence of P.N. Savitsky with N.I. Kareyev [Maloizvestnye
stranitsy evraziiskogo dvizheniia: perepiska P.N. Savitskogo s N.I. Kareevym].
S0869541522010067 ISSN
0869-5415
© Russian Academy of Sciences
© Institute of Ethnology and Anthropology RAS
Russian State University for the Humanities (Miusskaya sq. 6, GSP-3, Moscow,
125047, Russia)
St. Petersburg University (7-9 Universitetskaya Emb., St. Petersburg, 199034, Russia)
100
Этнографическое обозрение № 1, 2022
Keywords
Savitsky, Kareev, Gumilev, Eurasianism, mestorazvitie, intellectual dialogue,
emigration, epistolary legacy, nomadic peoples
Abstract
The article examines the correspondence between Pyotr Nikolaevich Savitsky, one
of the key leaders of the Eurasianism movement in Russia of the 20th century, and the
prominent historian Nikolai Ivanovich Kareev. This correspondence, discovered
in manuscript archives of the Russian State Library, sheds light on Savitsky’s
views, as a young Eurasianist, on the relationship between race and culture, which
were expressed in response to Kareev’s critical comments and remarks. One of
the most controversial issues in the correspondence is the discussion of the term
mestorazvitie (local development). Drawing on historical cases, Savitsky expounds
on the connection between culture, nation, and mestorazvitie, taking the latter to
mean a “conformity between the cultural orientation of a given group and its chosen
territory”. Further of interest and importance is Savitsky’s thinking on the subject
of historical development; he called it nomogenez, detecting similarities between
the idea of predetermination and the theory of biological evolution. We argue that
the correspondence not only unwraps the minutiae of personal relationships of
the interlocutors, but also illuminates the communication channels through which
Eurasianism claimed its rights in the Russian academic discourse and gained its
particular place and position in the Russian thought.
Funding Information
This research was supported by the following institutions and grants:
Ministry of Education and Science of the Russian Federation [registration number
AAAA-A20-120070890028-5] (project number FSZG-2020-0019)
References
Beisswenger, M.E. 2009. Petr Nikolaevich Savitskii (1895-1968): bibliografiia
opublikovannykh rabot [Pyotr Nikolaevich Savitsky (1895-1968): Bibliography
of Published Works]. Praga: Natsional’naia biblioteka Cheshskoi Respubliki -
Slavianskaia biblioteka.
Beisswenger, M. 2010. Eurasianism: Affirming the Person in an “Era of Faith”.
In A History of Russian Philosophy 1830-1930: Faith, Reason, and Defence of
Human Dignity, edited by G.M. Hamburg and R. Pool, 363-380. Cambridge:
Cambridge University Press.
Beisswenger, M.E. 2015. Savitskii P.N. [Savitsky Pyotr Nikolaevich]. In Bol’shaia
Rossiiskaia entsiklopediia [The Great Encyclopedia of Russia]. Vol. 29,
Rumyniia - Sen-Zhan-de-Liuz [Romania - Saint-Jean-de-Luz], 193-194.
Moscow: Bol’shaia rossiiskaia entsiklopediia.
Bystriukov, V.Y. 2003. Obshchestvenno-politicheskaia i nauchnaia deiatel’nost’
Petra Nikolaevicha Savitskogo v gody emigratsii (1920-1938 gg.) [Socio-
Political and Scientific Activity of Pyotr Nikolaevich Savitsky During the
Years of Emigration (1920-1938)]. PhD diss., Samarskii gosudarstvennyi
pedagogicheskii universitet.
Bystriukov, V.Y. 2018. Kul’turnye osobennosti Rossii-Evrazii v kontseptsii
P.N. Savitskogo [Cultural Features of Russia-Eurasia in the Concept by
Piotr N. Savitsky]. Samarskii nauchnyi vestnik 7 (2/23): 211-215.
Dolgova, E.A., ed. 2015. Uchenyi v epokhu peremen: N.I. Kareev v 1914-1931 gg.
[Sсholar in the Era of Change: Nikolay I. Kareev in 1914-1931]. Moscow:
ROSSPEN.
Долгова Е.А., Малинов А.В. Малоизвестные страницы евразийского движения...
101
Efimov, M. 2013. Review of Evraziistvo mezhdu imperiei i modernom: istoriia
v dokumentakh [Eurasianism Between the Empire and Modernity: History in
Documents], by S.V. Glebov. Ab Imperio 4: 282-287.
Ermishin, O.Т. 2019. Filosofiia russkogo zarubezh’ia XX v. [Russian Abroad
Philosophy of the XX Century]. Moscow: Letnii sad; Dom russkogo zarubezh’ia
imeni Aleksandra Solzhenitsyna.
Ermishina, K.B. 2017. Mestorazvitie i ritmy Evrazii: k obosnovaniiu filosofii
evraziistva [Local Development and Rhythms of Eurasia: To Substantiate
the Philosophy of Eurasianism]. Vestnik Russkoi khristianskoi gumanitarnoi
akademii 18 (4): 135-148.
Glebov, S. 2010. Evraziistvo mezhdu imperiei i modernom: istoriia v dokumentakh
[Eurasianism Between the Empire and Modernity: History in Documents].
Moscow: Novoe izdatel’stvo.
Gorizontov, L.E. 1992. Evraziistvo, 1921-1931 gg.: vzgliad iznutri [Eurasianism,
1921-1931: An Insider’s View]. Slavianovedenie 4: 86-104.
Karlov, V.V. 1997. Evraziiskaia ideia i russkii natsionalizm (po povodu stat’i
V.A. Shnirelmana “Evraziiskaia ideia i teoriia kul’tury”) [The Eurasian
Idea and Russian Nationalism (about the Article by V.A. Shnirelman “The
Eurasian Idea and the Theory of Culture”)]. Etnograficheskoe obozrenie 1: 3-13.
Kaznina, O.A. 1995. N.S. Trubetskoi i krizis evraziistva [N.S. Trubetskoy and the
Crisis of Eurasianism]. Slavianovedenie 4: 89-95.
Lariuel’, M. 2001. Kogda prisvaivaetsia intellektual’naia sobstvennost’, ili o
protivopolozhnosti L.N. Gumileva i P.N. Savitskogo [When Intellectual Property
is Assigned, or about the Opposite of L.N. Gumilyov and P.N. Savitsky]. Vestnik
Evrazii 4 (15): 5-19.
Lariuel’, M. 2004. Ideologiia russkogo evraziistva. Mysli o velichii imperii
[Ideology of Russian Eurasianism: Thoughts about the Greatness of the
Empire]. Moscow: Natalis.
Lavrinova, N.N. 2013. Kategoriia “mestorazvitie” v kontseptsiiakh russkikh
myslitelei nachala XX veka
[Category
“Locality Development” in the
Concepts of Russian Thinkers of the Beginning of the XX Century]. Sotsial’no-
ekonomicheskie yavleniia i protsessy 11 (57): 199-202.
Matveeva, A.M. 2016. Geopoliticheskaia kontseptsiia istorii Rossii P.N. Savitskogo
[Geopolitical Concept of the History of Russia by Piotr N. Savitsky].
M.: Prometei.
Melikh, Yu.B.
2013. Evraziitsy kak
“osoznavateli kul’turno-istoricheskogo
svoeobraziia Rossii” [Eurasians as “Sozdavali Cultural-Historical Identity of
Russia”]. Istoriko-filosofskii ezhegodnik 2012: 296-327.
Mikhailova, E.E. 2020. Evoliutsiia istoriosofskikh vozzrenii N.I. Kareeva: ot Moskvy
do Peterburga [Evolution of the Historiosophical Views of N.I. Kareev: From
Moscow to St. Petersburg]. Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta.
Seriia: Filosofiia 1 (51): 210-222.
Mikhailova, E.E., and S.P. Belchevichen. 2012. Pozitivizm i marksizm v Rossii:
problema sotsiokul’turnogo razvitiia [Positivism and Marxism in Russia: The
Problem of Socio-Cultural Development]. Tver: Izdatel’stvo TF MGEI.
Pashchenko, V.Ya. 2003. Sotsial’naia filosofiia evraziistva [Social Philosophy of
Eurasianism]. Moscow: Al’fa-M.
Polukhin, A.N. 2007. Istoricheskaia kontseptsiia P.N. Savitskogo (teoretiko-
metodologicheskii aspekt) [Historical Concept of P.N. Savitsky (Theoretical
and Methodological Aspect)]. PhD diss. abstract, Tomsk State University.
Prokudenkova, O.V. 2012. Kategoriia “mestorazvitiia” v kontseptsii evraziitsev
102
Этнографическое обозрение № 1, 2022
[The Category of “Mastersuite” in the Eurasian Concept]. Vestnik Sankt-
Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta kul’tury i iskusstv 3(12): 11-15.
Robinson, M.A. 1992. Pis’mo P.N. Savitskogo F.I. Uspenskomu [Piotr N.
Savitsky’s Letter to Fiodor I. Uspensky]. Slavianovedenie 4: 83-85.
Shnirelman, V.A., and S.A. Panarin. 2000. Lev Nikolaevich Gumilev: osnovatel’
etnologii? [Lev Nikolaevich Gumilev: The Founder of Ethnology?]. Vestnik
Evrazii 3 (10): 5-37.
Shnirelman, V.A. 1996. Evraziiskaia ideia i teoriia kul’tury [Eurasian Idea and
Theory of Culture]. Etnograficheskoe obozrenie 4: 3-16.
Shnirelman, V.A. 2002. Russkie, nerusskie i evraziiskii federalizm: evraziitsy i ikh
opponenty v 1920-e gody [Russians, Non-Russians, and Eurasian Federalism:
The Eurasians and Their Opponents in the 1920s]. Slavianovedenie 4: 3-20.
Shnirelman, V.A. 2006. Lev Gumilev: ot “passionarnogo napriazheniia” do
“nesopostavimosti kul’tur”
[Lev Gumilev: From
“Passion Tension” to
“Incomparability of Cultures”]. Etnograficheskoe obozrenie 3: 8-21.
Sidorin, V.V. 2020. Vl.S. Solov’ev i N.I. Kareev: k tvorcheskoi istorii “Opravdaniia
dobra” [Vladimir S. Solov’ev and Nikolay I. Kareev: about “Justifications of
9210.2020.4.008-019
Sobolev, A.V. 1992. Svoia svoikh ne poznasha. Evraziistvo: L.P. Karsavin i drugie
[Your Own Do Not Know Your Own, Eurasianism: L.P. Karsavin and Others].
Nachala 4: 49-58.
Sokolov, D.E. 2008. Geopoliticheskaia teoriia P.N. Savitskogo [Geopolitical
Theory by Piotr N. Savitsky]. PhD diss. abstract, St. Petersburg University.
Vakhitov, R.R. 2013. Teologicheskaia struktural’naia geosofiia P.N. Savitskogo
[Theological and Structural Geomafia P.N. Savitsky]. Vestnik Cheliabinskogo
gosudarstvennogo universiteta 13 (304): 145-148.
Vandalkovskaia, M.G. 1992. P.N. Miliukov i A.A. Kizevetter: istoriia i politika
[Pavel N. Milyukov and Alexandr A. Kizevetter: History and Politics].
Moscow: Nauka.