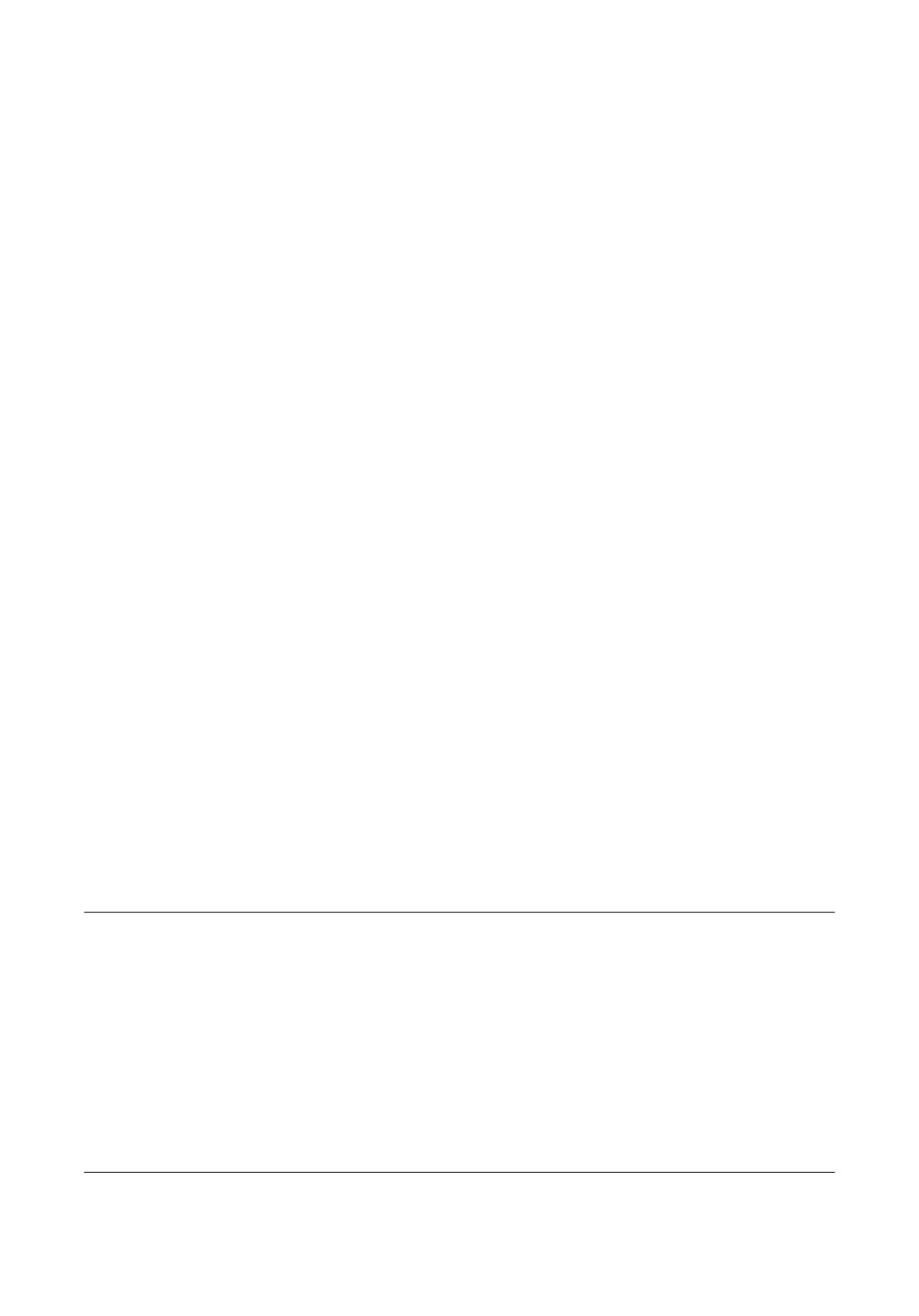ДИСКУССИЯ
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
МОРДВЫ САМАРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ
Н.В. Беленов
к. п. н., доцент | Самарский государственный социально-педагогический университет
(ул. Максима Горького 65/67, Самара, 443099, Россия)
Ключевые слова
мордва, традиционная культура, мордва-мокша, мордва-эрзя, Самарское Поволжье,
этнотерриториальная группа
Аннотация
В статье делается акцент на уникальных культурных традициях и элементах тради-
ционного мировоззрения этнотерриториальных групп мордвы Самарского Поволжья.
Приводится история этнографических исследований этих групп и рассматриваются
основные черты их традиционной культуры, имеющие параллели с общемордовски-
ми чертами. Анализируются особенности ритуалов перед началом посевных работ и
праздников весеннего цикла Ватази чи и Тундонь ильтямо, бытующих и сегодня в ряде
эрзянских сел; описываются характерные черты традиционной культуры мордвы-мок-
ши Самарской Луки и некоторые особенности молений о дожде мордвы Самарской об-
ласти. Автор приходит к выводу, что рассмотренные в статье элементы традиционной
культуры различных этнотерриториальных мордовских групп имеют общемордовские
истоки, которые, однако, претерпели существенные изменения после того, как данные
группы обосновались на территории Самарского Поволжья.
ордва Самарского Поволжья представлена несколькими мокшански-
ми и эрзянскими этнотерриториальными группами, имеющими ряд
М
существенных отличий как от других групп мордвы, живущих в Рос-
сийской Федерации (в Республике Мордовия, Ульяновской и Пензенской об-
ластях, Оренбуржье и др.), так и друг от друга. Данные отличия обусловлены
различными территориями исхода их предков и, соответственно, их изначаль-
ной языковой и культурной дифференциацией, а также комплексом факторов,
сформировавшимся вследствие обособленного исторического развития в поли-
этничном окружении Самарского Поволжья.
Статья поступила 02.03.2021 | Окончательный вариант принят к публикации 01.09.2021
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Беленов Н.В. Некоторые особенности традиционной культуры мордвы Самарского Поволжья //
Belenov, N.V. 2022. Nekotorye osobennosti traditsionnoi kul’tury mordvy Samarskogo Povolzh’ia
[Aspects of the Traditional Culture of the Samara Povolzhie Mordovians]. Etnograficheskoe obozrenie 1:
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
104
Этнографическое обозрение № 1, 2022
Наряду с общемордовскими чертами изучаемые группы сохраняют и ряд
самобытных черт, многие из которых оформились уже на территории нынеш-
него проживания. В настоящее время ввиду интенсивных процессов русифи-
кации и общей тенденции замещения коренного сельского населения региона
приезжими многие традиции мордвы Самарской области стали забываться.
Они сохраняются лишь местами (порой в сильно искаженном виде) благода-
ря вниманию местных администраций, деятельности отдельных активистов
и - иногда - случайным факторам. В данной статье я постарался проанали-
зировать сведения о еще существующих либо существовавших до недавнего
времени традициях мордвы Самарской области, которые были зафиксирова-
ны мной со слов очевидцев и участников мордовских молений, ритуалов и
праздников. При этом основное мое внимание сосредоточено на тех элемен-
тах традиционной культуры, которые являются специфическими именно для
местных этнотерриториальных групп мокши и эрзи.
Как мы уже упоминали, мордва Самарской области неоднородна. Отдель-
ную этнотерриториальную группу, представляющую древнейшее мордовское
население региона, составляет мордва-мокша Самарской Луки, расселенная
в настоящее время в селах Торновое, Шелехметь (Волжский р-н) и Бахилово
(Ставропольский р-н). Одной из крупных мокша-мордовских групп Самар-
ского Поволжья является бинарадская мордва. Ее представители в основном
сосредоточены в селах Старая Бинарадка и Новая Бинарадка (Красноярский
р-н) (костяк мордовского населения этих сел составили выходцы с террито-
рии Самарской Луки), Молгачи (выселок столыпинского времени из Старой
Бинарадки), а также Узюково, Пискалы (Ставропольский р-н) и Сухие Авра-
ли (Елховский р-н).
Эрзя сосредоточены в основном в Заволжье. Они делятся на несколько
крупных этнотерриториальных групп, среди которых наиболее консоли-
дированы похвистневская, клявлинская и шенталинская. Похвистневская
мордва компактно расселена в больших эрзянских селах Большой Толкай,
Малый Толкай, Красные Ключи, Большая Ёга и в их поселках-спутниках
(Похвистневский р-н), а также в с. Ерзовка (Кинель-Черкасский р-н), куда
на протяжении последнего столетия переселялись представители этой
группы. В этноязыковом отношении наиболее однородна клявлинская
мордва, характеризующаяся единым говором. Кроме того, на заволжских
территориях региона и в сопредельных районах Оренбуржья определение
“клявлинская мордва” является этнокультурным маркером и в то же время
формулой самоидентификации (Беленов 2021: 28). К этой группе, помимо
населения мордовских сел Клявлинского района, относится также мордва
с. Новый Байтермиш (Исаклинский р-н). Шенталинская мордва расселена
в эрзя-мордовских селах Старая Шентала Шенталинского р-на и Степная
Шентала Кошкинского р-на (последняя была основана выходцами из Ста-
рой [тогда Лесной. - Н.Б.] Шенталы в 1733 г.), а также в д. Городок Кош-
кинского р-на, которая появилась в 30-е годы ХХ в. после объединения
хуторов, созданных жителями Степной Шенталы в период столыпинской
реформы.
При этом мордовское население отдельных населенных пунктов - эрзя-мор-
довских сел Шилан (Красноярский р-н) и Коноваловка (Борский р-н), а также
мокша-мордовского с. Благодаровка (Борский р-н) - не входит в состав ни одной
из перечисленных этнотерриториальных групп и обладает уникальными этно-
культурными и этноязыковыми особенностями.
Беленов Н.В. Некоторые особенности традиционной культуры мордвы...
105
История этнографических исследований
мордвы Самарского Поволжья
Первые научные этнографические описания мордвы региона оставили
участники академических экспедиций XVIII в.; наиболее подробные такие
работы принадлежат перу И.И. Лепёхина (Лепёхин 1821) и П.С. Палласа
(Паллас 1773). Материалы И.И. Лепёхина связаны прежде всего с причерем-
шанской мордвой и с мордвой сел, относящихся согласно современному ад-
министративно-территориальному делению к северным районам Самарской
области, сведения же П.С. Палласа главным образом касаются мордвы-мок-
ши Самарской Луки.
Ряд ценных сведений о мордве исследуемого региона, значительная часть
которого относилась к Симбирскому наместничеству (с 1796 г. - Симбирской
губернии), содержится в труде Т.Г. Масленицкого “Топографическое описа-
ние Симбирского наместничества” (Масленицкий 1785). Этнографические
материалы по отдельным мордовским селам Самарского Поволжья можно
найти на страницах “Самарских Епархиальных ведомостей”; особо выделить
можно статьи М. Гребнева (Гребнев 1885, 1886). Заслуживает внимания и ра-
бота Н.М. Малиева, который, рассматривая антропологию мордвы, приводит
и ряд этнографических сведений о ней (Малиев 1878).
На рубеже XIX-XX вв. на территории ряда районов Самарского Повол-
жья работала экспедиция финского исследователя Х. Паасонена, по ито-
гам которой был издан его фундаментальный труд по мордовским языкам
(Paasonen 1990, 1992, 1994, 1996). При этом Х. Паасонен собрал, обрабо-
тал и опубликовал (часть статей вышла уже после смерти ученого) богатый
материал по мордовскому фольклору - основу некоторых статей составили
сведения, собранные в селах Самарской губернии (Paasonen 1977). В 1914 г.
путь экспедиции Х. Паасонена повторил финский музыковед и фольклорист
А. Вяйсянен, публикации которого были дополнены ценными фотографиями
(Väisänen 1948).
Существенный вклад в изучение традиций и быта народов региона, в том
числе и мордвы, внесли работы слушателей (впоследствии составивших ос-
нову Самарского научного краеведческого общества) этнолого-археологи-
ческих курсов В.В. Гольмстен, их этнографические записки по отдельным
мордовским селам хранятся в областном архиве (ЦГАСО-1). Богатейшую
коллекцию фольклорных произведений различных жанров, записанных у
мордвы Похвистневского и Шенталинского районов Самарской области со-
брал М.И. Чувашов, работы которого в настоящее время издаются в рамках
многотомной антологии “Духовное наследие народов Поволжья: живые исто-
ки” (Чувашов 2008).
Для нашего исследования значительный интерес представляют коллектив-
ная монография “Мордва Заволжья”, открывающая фундаментальную серию
энциклопедических описаний “Мордва России” (Петербургский и др.
1994),
и труды Т.И. Ведерниковой, опубликованные в конце ХХ - начале XXI в. и опи-
рающиеся на богатейший полевой архив исследовательницы (Ведерникова 1991;
Ведерникова и др. 1996; Бородина, Ведерникова 2007).
Из новейших публикаций по теме настоящей работы обращают на себя
внимание исследование специалиста по археологии и этнографии мордвы
Самарского Поволжья Н.М. Малковой “Материалы по истории и культуре
мордвы Самарского края” (Малкова 2019) и защищенная ею ранее кандидат-
ская диссертация - труд уникальный в истории изучения региона (Малкова
2000).
106
Этнографическое обозрение № 1, 2022
Общемордовские черты в традиционной культуре мордвы
Самарской области
Мордва Самарской области, на протяжении нескольких сотен лет развива-
ясь в отрыве от территорий исхода, бережно сохраняла свои традиции. Влияние
полиэтничного окружения в новых местах расселения в Самарском Поволжье,
несмотря на то что мордва нередко проживала и проживает в одних селениях с
русскими, чувашами, украинцами и в непосредственном соседстве с татарами и
башкирами, в традиционной культуре мордовских этнотерриториальных групп
выражено незначительно. Более существенно оно проявляется в фольклоре
мордвы, где фиксируется заимствование нескольких сюжетных линий из эпоса
тюркских и славянских народов - впрочем, время и место таких заимствований
остаются предметом дискуссий.
Свойственные всем группам мордвы, проживающим в Российской Федера-
ции, основные праздники календарного цикла, черты христианско-языческого
синкретизма, ритуальные обрядовые действия и формы религиозного культа у
мордвы Самарской области по большей части сохраняются. Сохраняются пан-
теон богов и основные теонимы, свадебная обрядность, культ предков, обряд
имитации человеческой жертвы на праздниках плодородия и при строитель-
стве различных сооружений (мостов, мельниц, плотин), моления о дожде (об их
специфике у мордвы Самарского Поволжья будет сказано далее), ведущая роль
женщин - в основном, старшего возраста - в языческих ритуалах, особенности
гаданий и ворожбы, знахарства и целительства.
В настоящее время в регионе для обозначения верховного бога бытуют
практически одинаковые теонимы как среди мокши, так и среди эрзи.
У мордвы-мокши теоним фиксируется в формах Шкайбас (Торновое, Ше-
лехметь), Шкайбаз (Старая Бинарадка), Шкай (Новая Бинарадка). При этом
информанты в различных селах давали примерно одинаковые объяснения,
они говорили, что “Бог у них вообще-то Шкай”, а “говорят о нем - Шкайбас”
(ПМА 1; ПМА 5). Надо отметить, что в данной форме (Scabas) теоним отме-
чается в самом раннем дошедшем до нас мордовском лексикографическом па-
мятнике - списке мордовских слов, содержащемся в труде Н. Витсена “Север-
ная и Восточная Тартария”, сведения для которого собирались его автором на
протяжении нескольких десятков лет, начиня с 1667 г. (Witsen 1692). Согласно
определению А.П. Феоктистова, словарный материал Н. Витсена относится к
западному диалекту мокша-мордовского языка (Феоктистов 2008).
В эрзянских говорах региона теоним бытует в форме Паз (Малый Толкай,
Большой Толкай, Большая Ёга, Ерзовка, Захаркино, Мордово-Аделяково, Ста-
рая Шентала, Коноваловка, Шилан). При этом к нему зачастую добавляется
ряд эпитетов: Вере Паз (Красные Ключи), Нишке Паз (Степная Шентала, Ста-
рые Сосны), Нишке Вере Паз (Старое Суркино), где вере - “верхний, верхов-
ный”, нишке - по мнению ряда исследователей, искаженное словосочетание
ине шкай (иня - в мокшанском языке означает “самый”, в эрзянском - “вели-
кий” + шкай - “бог”). Вторичная этимологизация теонима у некоторых групп
эрзян отмечена уже П.И. Мельниковым-Печерским. Например, у терюхан имя
Нишке-Паз объяснялось так: вокруг верховного бога вьются души добрых лю-
дей, как пчелы вокруг матки, поэтому он и именуется Нишке, от общемор-
довского нешке - “пчелиный улей” (Мельников-Печерский 1867). Исключение
составляет с. Большая Каменка, в эрзянском говоре которого в качестве имени
верховного бога бытует мокшанский теоним Шкай (ПМА 10).
Ведь-ава, вирь-ава, юрт-ава и прочие второстепенные персонажи мордов-
ского пантеона мордвой Самарской области собственно богами не считаются,
Беленов Н.В. Некоторые особенности традиционной культуры мордвы...
107
а воспринимаются здесь как некие мифические существа, в большинстве своем
женского рода - что соответствует религиозным представлениям мордвы других
территорий и отмечалось в описаниях этнографов с XVIII в. (Маскаев 1964;
Девяткина 1997). Отметим, что в XVII в. данная особенность мордовского язы-
ческого пантеона не фиксируется (Witsen 1692), возможно, в связи с тем, что
сами изложения религиозных воззрений мордвы этого периода менее под-
робны.
Мордовская свадьба, пожалуй, является наиболее глубоко изученным и
досконально описанным этнографами семейным обрядом мордвы. Так, сва-
дебный обряд занимает большую часть заметки П.С. Палласа о шелехметской
мордве (Паллас 1773), ему же посвящен один из первых этнографических тру-
дов М.Е. Евсевьева (Евсевьев 1892), на свадьбах и предшествующем им сватов-
стве сосредоточено внимание Т.Г. Масленицкого в публикации об инородче-
ском населении Симбирского наместничества (Масленицкий 1785). Отметим,
что свадебные обряды мордвы Самарского Поволжья (там, где они сохрани-
лись) в общих чертах тождественны соответствующим обрядам мордвы дру-
гих регионов России (Ведерникова 1991).
Как уже говорилось выше, практически все ритуалы современных мордов-
ских этнотерриториальных групп региона выполняются женщинами старшего
возраста. В общесельских молениях, на которых присутствуют и мужчины - они
могут играть различные роли (в частности, в ритуалах, призванных обеспечить
плодородие), - ведущая роль всегда принадлежит старшим женщинам. Тем не
менее наряду с этим фиксируются и имеющие локальное значение традицион-
ные мероприятия, в которых участвуют только молодые незамужние девушки
(ПМА 2: М.А. Радаева, информанты, пожелавшие остаться анонимными).
При лечении болезней, в решении важных общественных вопросов мордва
традиционно придавала существенное значение различного рода заговорам,
гаданиям, колдовству. Занимались этим в мордовских селах также преимуще-
ственно женщины. У соседних народов, в том числе у русских, “мордовские
ворожеи” считались самыми сильными, поэтому в сложных жизненных си-
туациях именно к ним обращались за советом, нужным лекарством на травах
или заклинанием (Емельянов 1955: 97). О значительной роли знахарок в жиз-
ни мордовского села свидетельствует тот факт, что прозвища, добавлявшиеся
к официальным фамилиям, а иногда и заменяющие их - что было характерно
для мордвы, - зачастую давались по имени той ли иной известной знахарки
из данного рода. Так, Х. Паасонен включил несколько таких прозвищ в свой
фундаментальный словарь (Paasonen 1990: 133, 159). В настоящее время тра-
диция еще жива, что подтверждают материалы наших полевых исследований:
например, в с. Степная Шентала носители фамилии Сергачёвы известны под
прозвищем Марюконь, поскольку в их роду была известная в прошлом знахарка
Марюк-баба (ПМА 11).
Таким образом, традиционное мировосприятие мордвы Самарского Повол-
жья в целом неразрывно связано с представлениями мордвы, расселенной на
других территориях Российской Федерации. Вместе с тем общемордовские ри-
туалы и обряды в ряде случаев претерпели существенные изменения, а местами
были замещены новыми. К описанию специфических для мокши и эрзя Самар-
ской области явлений традиционной культуры мы далее и переходим.
Праздник Ватази чи в с. Коноваловка Борского р-на
Одной из своеобразных традиций эрзя-мордвы Самарской области является
праздник Ватази чи. Он характерен только для населения с. Коноваловка
108
Этнографическое обозрение № 1, 2022
(Борский р-н). От праздников весеннего цикла в других мордовских группах
региона и за его пределами он отличается прежде всего историей происхожде-
ния, которая бытует в настоящее время среди жителей села в качестве предания.
С середины XVIII в. в Коноваловку, население которой до этого времени
составляла исключительно мордва, начали прибывать русские переселенцы.
Первыми русскими жителями Коноваловки стали казаки из Борской крепости,
затем их примеру последовали крестьяне из разных губерний Российской импе-
рии. Долгое время мордовская и русская части села враждовали между собой,
в ходе столкновений неоднократно представители обеих национальных общин
получали тяжелые увечья. Ситуация особенно обострилась, когда в одной из
таких стычек был убит выходец из Тамбовской губернии русский крестьянин
по фамилии Объедков. У убитого осталось несколько малолетних детей. После
этого трагического случая старики села собрались вместе и решили, что вражде
должен быть положен конец, а в честь прекращения вражды ежегодно стали
проводить праздник, который был назван Ватази чи (ПМА 3: Степанова, ин-
форманты, пожелавшие остаться анонимными).
Т.Н. Степанова отмечает, что в коноваловском говоре эрзя-мордовского язы-
ка праздник называется именно Ватази или Ватази чи. Не так давно, после со-
вещания с представителями мордовской общественности из других сел, стало
использоваться и параллельное название - Вастазь чи. При переосмыслении
названия опирались на предположение о том, что в его основе изначально лежа-
ла эрзя-мордовская лексема вастома - “встреча” (от глагола вастомс - “встре-
чать”, “встречаться”) (ПМА 3: Степанова). При этом было принято следующее
объяснение: праздник назвали в честь мирной встречи жителей мордовской и
русской частей села.
Со своей стороны хотел бы предложить альтернативную версию происхож-
дения названия праздника. Так, в коноваловском говоре эрзя-мордовского языка
(который очень неоднороден ввиду многочисленных позднейших переселений
людей в Коноваловку из различных мордовских сел; сами носители говора ха-
рактеризовали нам его так: “Коноваловский говор? Да у нас тут на каждой ули-
це свой говор” [ПМА 3: Степанова, Нуждина]) имеется лексема ватази (“кра-
сивый”, “сильный”), от которой, вероятно, и происходит название праздника.
В таком случае Ватази чи означает “Красивый день”.
Сам процесс празднования Ватази чи, его атрибуты и сроки имеют много
общего с празднованием Троицы, которое у мордвы традиционно отличалось
особой торжественностью в связи с приурочиванием к окончанию весеннего
полевого цикла (Корнишина 2017: 21). Отмечается Ватази чи в Коноваловке
спустя неделю после Троицы, на него собирается все село, в последние годы
съезжается большое количество гостей. Одним из главных атрибутов праздника
Ватази чи является украшение домов и улиц березовыми ветвями, к которым,
загадывая желания, люди привязывают разноцветные ленточки. Ватази чи со-
впадает по времени с Велень озкс - общим, сельским молением, знаменующим
окончание весенне-полевых работ.
Еще больше общих черт у коноваловского Ватази чи с праздником прово-
дов весны Тундонь ильтямо, который устраивается мордвой в конце Троицкой
недели и одним из основных атрибутов которого также выступает украшенная
молодая береза. Г.А. Корнишина связывает данную традицию с наиболее ар-
хаичным пластом мордовской обрядности троицкого цикла (Корнишина 2017:
18). Характерно, что, согласно сведениям наших коноваловских информантов,
песня “Ватази”, которую исполняют женщины в конце праздника Ватази чи,
называется также провожальной. Празднование Ватази чи заканчивалось у ко-
лодца Бабань лисьма, расположенного на большой поляне Кужо в окрестностях
Беленов Н.В. Некоторые особенности традиционной культуры мордвы...
109
Коноваловки. Традиция завершать обрядово-ритуальные действия у водных
источников бросанием в воду венков и ветвей березы характерна и для Тундонь
ильтямо.
Таким образом, ни название Ватази чи, ни характерные черты праздника
не указывают на то, что он был установлен в XIX в. и связан с прекращением
вражды между национальными общинами Коноваловки - скорее, можно пред-
полагать, что примирение было приурочено к общему для русских и мордвы
Дню Святой Троицы. Сам же Ватази чи коноваловской эрзи, как представля-
ется, является местной вариацией мордовского праздника проводов весны Тун-
донь ильтямо.
Некоторые особенности традиционного мировосприятия
мордвы-мокши Самарской Луки
Самарская Лука благодаря своим природно-географическим условиям - уни-
кальная зона Поволжья, на протяжении нескольких веков здесь формировался
особый этнокультурный ландшафт. Среди мордвы Самарской Луки традици-
онно были сильны позиции язычества. Несмотря на то что данная территория
уже с середины XVII в. являлась вотчиной Спасо-Преображенского монастыря
(ЦГАСО-2), а мордовское население здесь было официально крещено к середи-
не XVIII в., церкви в некоторых мордовских селах полуострова появились срав-
нительно поздно, а в некоторых и вовсе не были построены. Так, собственных
церквей никогда не было в Торновом и Шелехмети (современных мокшанских
селах Волжского р-на), их жители были приписаны сначала к Рождественской
церкви, а затем к построенной в первые десятилетия XIX в. церкви в русском
с. Новинки. В с. Бахилово церковь появилась только в начале ХХ в. (1911 г.) по
частной инициативе, но после революции она была закрыта, а в 1939 г. разобра-
на на стройматериалы (ПМА 7: Мордвинова). В многочисленных, ныне исчез-
нувших мордовских и чувашско-мордовских поселках Самарской Луки церкви
также не строились. Это обстоятельство, как представляется, способствовало
сохранению у мокшан полуострова традиционного мировоззрения.
Моления, система ритуалов, имена языческих богов в ныне существующих
мокшанских селах Самарской Луки различаются, что объясняется гетероген-
ностью происхождения мордовского населения данной территории (Беленов
2018).
В Торновом и Шелехмети мокшане при молениях традиционно обращались
к мордовскому верховному богу Шкайбасу. Одно из главных мест языческих
молений в с. Торновое в прошлом - поляна со старым вязом у колодца Старип-
чане. В настоящее время основным практикуемым традиционным обрядом в
селе остаются моления о дожде. Раньше они совершались на поляне Репчапре,
сегодня место их проведения известно лишь нескольким пожилым жительни-
цам Торнового, которые сохраняют его в тайне.
В с. Шелехметь центром этнокультурного пространства является археологи-
ческий памятник - городище Ош-панда-нерь (Город горного мыса), с которым
связано большинство фольклорных сюжетов шелехметской мордвы (Беленов
2019). Моления о дожде также составляют важную часть традиционной культу-
ры этой группы. Мордва Шелехмети особое внимание уделяла группе яблонь,
растущих у дороги на русское с. Новинки. Эти деревья почитались наряду с
вязом - объектом почитания всей самаролукской мордвы, именно около них в
прошлом проводились моления о дожде. В XIX в. в Шелехмети бытовало пре-
дание, повествующее о том, что эти яблони были собственноручно посажены
Степаном Разиным (Невоструев 1871: 45).
110
Этнографическое обозрение № 1, 2022
В Бахилово наиболее почитаемым божеством является Кереметь. В пред-
ставлении бахиловской мордвы божество показывается людям в виде пожилой
женщины в национальном мокшанском одеянии, вследствие чего его чаще на-
зывают Матушка Кереметь, реже (по-русски) - Озёрная старуха. Согласно
поверьям мордвы-мокши с. Бахилово, Кереметь в первую очередь покрови-
тельствует водным источникам, поэтому посвященные ей обряды проводи-
лись около родников. В последнее время местом почитания Керемети стало
Ведьмино озеро, где стараниями директора Бахиловского культурно-досуго-
вого центра (КДЦ) И.В. Мордвиновой организован одноименный этнопарк.
Хотя у мордвы-мокши культ керемети иногда и фиксировался исследователя-
ми XVIII-XIX вв. (Ауновский 1869: 103), это, скорее, исключение, он больше
присущ чувашам.
Следует отметить и существенные различия культа керемети у бахиловской
мордвы и мордвы различных сел за пределами Самарского Поволжья. Так, по
сведениям Г.А. Корнишиной, в Нижегородской губернии керемети устраива-
лись на возвышенностях, а в с. Армиёво Саратовской губернии - в лесу у боль-
шой березы (Корнишина 2001: 333-334).
Особо необходимо подчеркнуть, что культ керемети в Самарском Поволжье
отмечен нами только у бахиловской мордвы, в других мордовских этнотерри-
ториальных группах региона он отсутствует. При этом представления о Кере-
мети жителей Бахилово не имеют практически ничего общего с подобными
представлениями чувашей Самарского Поволжья - у последних керемети как
площадки для ритуальных жертвоприношений широко распространены. В ряде
мордовских сел региона о кереметях знают, но всегда подчеркивают, что они
относятся к религиозной традиции чувашей.
Еще одной отличительной особенностью традиционной культуры бахилов-
ской мордвы является изготовление деревянных личин - массивных масок в
виде голов мифических существ, вырезаемых из стволов деревьев. Они разве-
шивались на деревьях в лесу и отмечали места, связанные с лесными духами,
куда проникать непосвященным людям было опасно. Отдельные экземпляры
таких личин, собранные И.В. Мордвиновой, в настоящее время хранятся в
местном краеведческом музее при Бахиловском КДЦ.
Мы уже отмечали выше, что культ деревьев широко распространен среди
мордвы, кроме вяза особо почитаются дуб и береза (Михалкович 2000; Сычёв
2015). На территории Самарской Луки культовое дерево у всех групп мордвы
именно вяз: около старых дуплистых вязов проводились языческие ритуалы,
общие молебны, а также индивидуальные религиозно-обрядовые действия.
До недавнего времени в с. Бахилово было два старых вяза - Ала тесэ и Вере
тесэ. У этих деревьев жители села собирались для коллективных и индиви-
дуальных молений, на ветви вязов повязывали ленточки, загадывая желания,
об исполнении которых затем молились. Сегодня вязов уже нет, однако, надо
полагать, в памяти людей они сохранились как элементы системы кереметей
с. Бахилово: наиболее известные места проведения ритуалов в честь Озёрной
старухи расположены у прудов и называются Алкурай кереметь и Веркурай
кереметь. В окрестностях с. Торновое известно урочище Поклонный Вяз,
здесь в прошлом рос старый вяз, около которого проводились обряды неза-
мужними девушками (Шепелев 2008: 7).
Почему мордва Самарской Луки выделяла из всех деревьев именно вяз - при
том что в Жигулёвских горах произрастало немало больших дубов, и до начала
ХХ в. даже пятивековые дубы-гиганты не являлись редкостью, - неизвестно.
Касаясь данного вопроса при описании мордовских молений, М.Е. Евсевьев
отмечает, что мордва могла собираться для обрядов у могучих, старых деревьев
Беленов Н.В. Некоторые особенности традиционной культуры мордвы...
111
различных пород, но при этом избегала ель и осину (Евсевьев 1914: 38). У морд-
вы других этнотерриториальных групп региона (в том числе и у родственной
мордовскому населению с. Бахилово бинарадской мордвы) особого отношения
к вязам нами не зафиксировано.
Моления о дожде у мордвы Самарской области
Моления о дожде - религиозно-культурный феномен, фиксирующийся у
всех мордовских групп Самарского Поволжья. Он представляет собой важную
и наиболее устойчивую часть их традиционного миропонимания. Данный цикл
молений тесно связан с водными источниками, чаще всего с колодцами и род-
никами, поскольку считалось, что для того, чтобы “испросить” дождя, необхо-
димо разбудить Ведь-аву - божество воды, а ее местопребыванием, по мордов-
ским поверьям, могут быть любые водные источники (Мокшин 1998: 53).
Одной из специфических особенностей молений о дожде, зафиксированной
в ряде мордовских сел региона, является проведение этого обряда у источни-
ков, расположенных в удаленной, труднодоступной местности. Выбор места
обусловлен, с одной стороны, стремлением скрыть молебен от посторонних
людей (в некоторых случаях разрешается присутствовать только женщинам), с
другой - желанием молящихся приложить определенные усилия для его дости-
жения, что также становится своеобразной жертвой.
О молениях о дожде неоднократно говорили наши информанты из мок-
ша-мордовских сел Самарской области. Так, в Торновом нам сообщили: “Когда
нет дождей, наши бабушки собираются и уходят молиться в одно известное
только им место” (ПМА 2: Т. Радаева); в Большой Ёге сказали: “Наши женщины
в засуху ходили молиться на Шихан-гору, на озера, и после этого всегда шел
дождь” (ПМА 8). Интересно отметить, что, по сведениям Г.А. Корнишиной, по-
добный обряд проводился мордвой с. Кузоватово (относится ныне к Кузоватов-
скому р-ну Ульяновской обл.; следует отличать от р. п. Кузоватово, основанно-
го при одноименной станции): моления о дожде устраивались на лесном озере
(Корнишина 2017). Эта параллель показательна, поскольку, согласно архивным
документам, из Кузоватово происходит часть предков похвистневской мордвы,
в том числе жителей Большой Ёги (МИ БашАССР 1956).
Тем не менее чаще всего мордва Самарского Поволжья проводила моления
о дожде у колодцев. Колодцы, как правило, называются Баба лисьма (архаичная
форма мордовской топонимии, по Б.А. Серебренникову [Серебренников 1967])
либо Бабань лисьма (где нь - мордовский аффикс принадлежности). Элемент
баба вообще характерен для мордовской топонимии, связанной с местами язы-
ческих ритуалов, которые, как уже отмечалось, традиционно у мордвы испол-
нялись женщинами (обычно пожилыми): Бабань лисьма - колодец у эрзянского
с. Коноваловка, рядом с ним, на большой поляне Кужо проводится заключи-
тельная часть гуляний на праздник Ватази чи; Баба озг - озеро в мокшанском
с. Старая Бинарадка (строго говоря, это пруд, но в селе все называют его озе-
ром); Бабань каша - место молений в поле у русско-эрзянского с. Ерзовка; Сёся
баба - урочище в окрестностях эрзянско-украинского с. Владимировка (ныне
в селе осталось лишь два постоянных жителя). Подобные топонимы широко
распространены и на других территориях расселения мордвы. Приведем лишь
отдельные примеры, зафиксированные в Республике Мордовия: Баба эшиня -
у мокшанского с. Старое Шайгово; Баба кипря пандо - у эрзянского с. Пиксяси;
Баба луга - у эрзянского с. Лобаски; Бабань киштема - у эрзянского с. Подлес-
ная Тавла (Цыганкин 2005).
112
Этнографическое обозрение № 1, 2022
Однако среди названий ритуальных колодцев есть и редкие исключения,
одно из них зафиксировано нами на территории Самарской области. Так,
в с. Старый Маклауш Клявлинского р-на известен колодец Цёра лисьма, про-
исхождение названия которого объяснялось нашими информантами коротко,
без каких-либо подробностей о самом ритуале: “Мужики молились” (ПМА 6).
Есть в селе и колодец Бабань лисьма, у которого раньше традиционно моли-
лись о дожде женщины. В качестве немногочисленных семантических парал-
лелей Цёра лисьма можно привести лишь единичные известные топонимы:
например, Атя лисьма - родник у эрзянского с. Сабанчеево (Атяшевский р-н
Республики Мордовия), возле которого его жители собирались молиться о
дожде (Цыганкин 2005: 30). Согласно местной легенде, эта традиция берет на-
чало со времен основания села, когда в период сильной засухи после молитвы
одного из стариков (Г.А. Корнишина полагает, что этим стариком был Сабан -
основатель села) около этого колодца, пошел дождь (Корнишина 2001).
Особенности традиционной культуры мордвы-эрзи с. Шилан
Эрзя-мордовское с. Шилан (Красноярский р-н) стоит особняком. Во-пер-
вых, время его основания - середина XIX в. - нетипично для мордовских на-
селенных пунктов региона, большинство из которых основаны в XVIII столе-
тии. Во-вторых, предки шиланской мордвы являются выходцами с территории
современных Атяшевского и Дубёнского районов Республики Мордовия, в то
время как предки остальных мордовских этнотерриториальных групп Самар-
ского Поволжья переселились сюда с территории современных Ульяновской
и Пензенской областей. Данные особенности нашли отражение в традициях и
культуре шиланской мордвы, в частности в отличительных чертах обрядовых
действий при проведении ряда праздников весеннего цикла.
По сведениям, полученным мной от информантов, в былые годы на празд-
ник Весна Ильтемат Ши (“День проводов весны”) выбирали две пары из не со-
стоящей в браке молодежи: “Барыню и боярина” - их подпоясывали кушаками,
и “Хохла и хохлушу”, которых наряжали в “украинские национальные одежды”.
“Потом ходили - они впереди (выбранные пары. - Н.Б.), - и пели весенние пес-
ни” (ПМА 9: Киржеманова). Остается неясным, почему шиланская мордва одну
из пар наряжала как украинцев - украинских сел в окрестностях Шилана, да и в
местах проживания предков шиланцев не зафиксировано. Впрочем, необходимо
подчеркнуть, что близкое соседство, а в ряде случаев и совместное прожива-
ние в одном населенном пункте мордвы и украинцев в Самарском Поволжье не
редкость. При этом надо отметить, что обрядовые персонажи и всевозможные
ряженые (лешие, русалки, различные животные и т.д.) часто встречаются в опи-
саниях празднования мордвой проводов весны (Девяткина 2007).
Интересно и потерявшее целостность и почти утраченное к настоящему вре-
мени предание шиланской мордвы о некоем мифическом существе Сарда/Варда
(в шиланском говоре эрзя-мордовского языка употребляются оба варианта ми-
фонима). Согласно этому преданию, после Ильина дня (2 августа) людям нельзя
купаться, потому что с этого времени человека может схватить под водой мифи-
ческое существо Сарда/Варда лапой с когтями - острыми, как заноза (ПМА 9:
Артамонова [Кузнецова], М.Н. Афонина). Cреди шиланской мордвы даже бытует
поговорка Сарда лапанзо под ведь (“Сарда лапой под водой [схватит]”) (ПМА 9:
Киржеманова, М.А. Афонина). Как представляется, вариант именования фоль-
клорного персонажа Сарда восходит к эрзянской лексеме сардо со значением “за-
ноза” и является позднейшим добавлением-характеристикой к его имени. Лексе-
ма варда в большинстве мордовских говоров имеет значение “служанка”. Так, в
Беленов Н.В. Некоторые особенности традиционной культуры мордвы...
113
наиболее раннем из известных лексикографических источников по мордов-
ским языкам - списке мордовских слов Н. Витсена находим: Varda - “рабыня”
(Witsen 1692). Вместе с тем Х. Паасоненом в ряде эрзянских и мокшанских
говоров отмечается varden sura, varden zur со значением “чёртов палец”
(ростр раковины белемнита) (Paasonen 1996: 2166), что также характеризует
варду как мифическое существо с острыми когтями. Можно предположить, что
предание шиланской мордвы является отголоском глубокой древности.
Ритуалы перед началом посевных работ
у мордовского населения с. Ерзовка
Мордва, основавшая с. Ерзовка (в прошлом Фролкино) во второй половине
XVIII в., в ходе последующих внутренних миграций испытала сильное влияние
со стороны похвистневской мордвы (особенно многочисленную диаспору
в Ерзовке сегодня составляют выходцы из Большого Толкая и поселков-спут-
ников Малого Толкая). Вместе с тем в ерзовском говоре эрзя-мордовского язы-
ка фиксируются элементы, резко отличающие его от говоров похвистневских
эрзян. До недавнего времени прослеживались существенные различия и в обря-
довой культуре этих двух мордовских групп, о чем можно судить по описаниям
наших информантов.
Как и во многих других мордовских селах Самарского Поволжья, главными
праздниками в Ерзовке считались праздники весеннего цикла. К северо-вос-
току от села расположено поле, называемое Бабань каша. Со слов информан-
тов, название обусловлено тем, что до недавнего времени (до середины ХХ в.)
“мордовки совершали там свой молян” (ПМА 4). Совершался этот “молян”
перед посевом, главным ритуальным действием было приготовление яичницы
на печной заслонке. После приготовления яичница съедалась всеми участни-
цами моления. Данный ритуал эрзян Ерзовки, вероятно, связан с общемордов-
скими представлениями о жертве богам плодородия. В состав такой жертвы
у мордвы в числе прочего обязательно входили яйца (Harva 1952). Процесс
жертвоприношения мог различаться: яйца могли употребляться в пищу участ-
никами молений (как в рассматриваемом случае) в составе ритуальных блюд,
например, запеченными в хлеб вместе со скорлупой; они могли закапываться
в землю в полях; могли просто оставляться на месте жертвоприношения -
в лукошке, на полотенце и т.д. Надо отметить, что яичница служит ритуальным
блюдом, связанным с праздниками весеннего цикла и плодородия, не только
у мордвы. Так, известны обряды троицкой яичницы у донских казаков
(Рыблова 2017), яичница используется в праздниках весеннего цикла у чува-
шей и татар-кряшен (Денисов 1959: 129). Отметим также, что название Бабань
каша восходит к наименованию одного из ритуальных блюд мордвы, которое
готовили чаще всего из различных круп по окончании праздников весеннего
цикла. Исходя из названия поля, можно полагать, что в прошлом данное блю-
до готовила и ерзовская мордва, но позднее обрядность была упрощена и из
ритуальных блюд осталась лишь яичница - этот этап эволюции традиционных
праздников весеннего цикла в Ерзовке и застали наши информанты. Здесь же
следует отметить, что у некоторых этнотерриториальных групп мордвы регио-
на, например, у клявлинской мордвы, представление о каше как о ритуальной
пище сохранилось, однако сам обряд уже не проводится. Так, в окрестностях
с. Старый Маклауш (Клявлинский р-н) находится урочище Каша пандо пря
(пандо пря - “вершина горы”), происхождение названия которого информанты
объясняли нам следующим образом: “Это место, где перед севом молились.
Кашу сеяли (смеются). Чтобы урожай хороший был” (ПМА 6). Следует отме-
тить и родник с названием Бабань каша у эрзя-мордовского с. Кирюшкино
114
Этнографическое обозрение № 1, 2022
(Бугурусланский р-н Оренбургской обл.), население которого исторически
связано с мордовским населением Кинель-Черкасского и Похвистневско-
го районов Самарской области. Для кирюшкинской мордвы родник является
главным культовым местом проведения традиционных обрядов.
Лексема каша достаточно часто встречается в мордовской топонимии
других территорий - в названиях объектов, рядом с которыми проводились
соответствующие обрядовые действия (она вторая по частотности после лек-
семы баба). Надо указать, что каша, в отличие от общемордовского элемента
баба, фиксируется в топонимических пространствах только эрзянских сел:
Каша ознома лисьма - у с. Старое Ардатово, Кашка пандо - у с. Поводимово,
Кашмарка - у с. Красный посёлок (Республика Мордовия) (Цыганкин 2005).
* * *
Подводя итоги исследования, необходимо отметить, что большинство само-
бытных традиций мордвы Самарского Поволжья проистекают из известных по
этнографическим описаниям XVIII-XIX вв. мордовских традиций и обрядов,
а приведенные в данной работе их вариации, вероятно, возникли уже в период
длительного изолированного развития местных мордовских этнотерриториаль-
ных групп на территории Самарского Поволжья. Надо полагать, что известное
влияние на мордву Самарской области оказали и ее культурное взаимодействие
с полиэтничным окружением, и адаптация к изменившимся в сравнении с тер-
риториями исхода природно-географическими и хозяйственно-бытовыми реа-
лиями. Необходимо отметить и то, что в последнее время значительное воздей-
ствие на традиции и культуру мордвы региона оказали этнодемографические
процессы, которые особенно усилились в XX-XXI вв.: русификация, урбаниза-
ция, интенсификация внутрирегиональной и межрегиональной миграций.
Источники и материалы
Гребнев 1885 - Гребнев М. Село Флоркино или Ерзовка Бугурусланского уезда
// Самарские епархиальные ведомости. 1885. № 22. С. 513-522.
Гребнев 1886 - Гребнев М. Мордва Самарской губернии // Самарские епархи-
альные ведомости. 1886. № 23. С. 455-464.
Лепёхин 1821 - Лепёхин И.И. Дневные записки путешествия по разным про-
винциям Российского государства // Полное собрание учёных путешествий
по России. Т. 3. СПб.: При Императорской Академии наук, 1821.
Малиев 1878 - Малиев Н.М. Общие сведения о мордве Самарской губернии.
Казань: Университетская типография, 1878.
Масленицкий 1785 - Масленицкий Т.Г. Топографическое описание Симбирско-
го наместничества. Симбирск: б/и, 1785.
Мельников-Печерский 1867 - Мельников-Печерский П.И. Очерки мордвы //
Русский вестник. 1867. № 6, 9, 10.
МИ БашАССР 1956 - Материалы по истории Башкирской АССР (1956). Т. IV,
Управление Оренбургским краем. Ч. 2. М.: АН СССР, 1956.
Невоструев 1871 - Невоструев К.И. О городищах древнего Волжско-Болгарско-
го и Казанского царств в нынешних губерниях Казанской, Симбирской, Са-
марской и Вятской. М.: Синодальная типография на Никольской улице, 1871.
Паллас 1773 - Паллас П.С. Путешествия по разным провинциям Российской
империи. СПб.: Императорская Академия наук, 1773.
ПМА 1 - Полевые материалы автора. Экспедиция в с. Шелехметь Волж-
ского р-на Самарской обл. Июль 2018 г. (информант Н.М. Беляев, 1930 г.р.).
Беленов Н.В. Некоторые особенности традиционной культуры мордвы...
115
ПМА 2 - Полевые материалы автора. Экспедиция в с. Торновое Волжского р-на
Самарской обл. Сентябрь 2018 г. (информанты: М.А. Радаева, 1928 г.р.;
Т. Радаева, 1931 г.р.; пожелавшие остаться анонимными).
ПМА 3 - Полевые материалы автора. Экспедиция в с. Коноваловка Бор-
ского р-на Самарской обл. Октябрь 2019 г. (информанты: Т.Н. Степанова,
1955 г.р.; А.В. Нуждина, 1983 г.р.; пожелавшие остаться анонимными).
ПМА 4 - Полевые материалы автора. Экспедиция в с. Ерзовка Кинель-Черкас-
ского р-на Самарской обл. Июль 2019 г. (информант О. Кузьмина, 1981 г.р.).
ПМА 5 - Полевые материалы автора. Экспедиция в с. Старая Бинарадка Крас-
ноярского р-на Самарской обл. Апрель 2019 г. (информант Л.Н. Карамыше-
ва, 1968 г.р.).
ПМА 6 - Полевые материалы автора. Экспедиция в с. Старый Маклауш
Похвистневского р-на Самарской обл. Октябрь 2019 г. (информанты:
Н.Ф. Емельдяжев, 1935 г.р.; пожелавшие остаться анонимными).
ПМА 7 - Полевые материалы автора. Экспедиция в с. Бахилово Ставрополь-
ского р-на Самарской обл. Декабрь 2018 г. (информант И.В. Мордвинова,
1961 г.р.).
ПМА 8 - Полевые материалы автора. Экспедиция в с. Большая Ёга Похвист-
невского р-на Самарской обл. Июнь 2015 г. (информант И.С. Ширшов,
1935 г.р.).
ПМА 9 - Полевые материалы автора. Экспедиция в с. Шилан Красноярско-
го р-на Самарской обл. Июль 2020 г. (информанты: Н.А. Киржеманова,
1930 г.р.; Н.В. Артамонова (Кузнецова), 1975 г.р.; М.Н. Афонина, 1943 г.р.;
М.А. Афонина, 1942 г.р.).
ПМА 10 - Полевые материалы автора. Экспедиция в с. Большая Каменка Крас-
ноярского р-на Самарской обл. Сентябрь 2020 г. (информант В. Якямсева,
1931 г.р.).
ПМА 11 - Полевые материалы автора. Экспедиция в с. Степная Шентала
Кошкинского р-на Самарской обл. Сентябрь 2020 г. (информант Н. Спи-
ридонова, 1940 г.р.).
ЦГАСО-1 - Центральный государственный архив Самарской области. Ф. Р-558.
Ед. хр. 288, 1917-1931 гг., 1 оп. - Самарское научное краеведческое обще-
ство.
ЦГАСО-2 - Центральный государственный архив Самарской области. Ф. 32.
Оп. 6. Д. 7287 - Самарская духовная консистория.
Witsen 1692 - Witsen N. Noord en oost Tartarie. Amsterdam, 1692.
Научная литература
Ауновский В. Этнографический очерк мордвы-мокши // Памятная книжка
Симбирской губернии на 1869 год. Симбирск: Типография Симбирского
губернского правления, 1869. С. 85-108.
Беленов Н.В. Мокша-мордовская топонимия Самарской Луки. Самара:
Порто-принт, 2018.
Беленов Н.В. Оттопонимический фольклор мордвы-мокши Самарской Луки //
Традиционная культура. 2019. Т. 20. № 5. С. 153-160.
Беленов Н.В. Географическая лексика клявлинского говора эрзя-мордовского
языка // Филологические науки. 2021. № 1. С. 28-36.
Бородина Н.В., Ведерникова Т.И. Народный костюм Самарского края. Самара:
Самара-принт, 2007.
Ведерникова Т.И. Этнография и праздничная культура народов Самарского
края. Самара: Самарский областной НЦ народного творчества, 1991.
116
Этнографическое обозрение № 1, 2022
Ведерникова Т.И., Фокин П.П., Ягафова Е.А. Этнография Самарской Луки.
Самара: Самарский региональный фонд “Полдень. XXII в.”, 1996.
Девяткина Т.П. Мифология мордвы (традиционная картина мира и образ мыш-
ления) // Инженерные технологии и системы. 1997. № 3. С. 92-97.
Девяткина Т.П. Мифология мордвы. Саранск: б.и., 2007.
Денисов П.В. Религиозные верования чуваш (историко-этнографические очер-
ки). Чебоксары: Чувашское гос. изд-во, 1959.
Евсевьев М.Е. Мордовская свадьба. СПб.: Типография С.Н. Худекова, 1892.
Евсевьев М.Е. Братчины и другие религиозные обряды мордвы Пензенской об-
ласти. Петроград: Типография Д. Смирнова, 1914.
Емельянов М.А. Самарская Лука и Жигули. Куйбышев: Куйбышевское книжное
изд-во, 1955.
Корнишина Г.А. Традиционно-обрядовая культура в системе мордовского эт-
носа. Дис. … докт. ист. наук. Московский государственный университет,
Москва, 2001.
Корнишина Г.А. Обряды троицкого цикла мордвы Пензенской области // Гума-
нитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2017.
№ 3. С. 9-22.
Малкова Н.М. Погребальный обряд и инвентарь могильников эрзи и мокши
XVI - начала XIX вв. Дис. … канд. ист. наук. Удмуртский гос. ун-т, Ижевск,
2000.
Малкова Н.М. Материалы по истории и культуре мордвы Самарского края. Са-
мара: Самарское археологическое общество, 2019.
Маскаев А.И. Мордовская эпическая песня. Саранск: Мордовское книжное
изд-во, 1964.
Михалкович И.Н. Реминисценция образа дерева в мифологии и фольклоре
мордвы // Инженерные технологии и системы. 2000. № 1-2. С. 72-77.
Мокшин Н.Ф. Религиозные верования мордвы. Саранск: Мордовское книжное
изд-во, 1998.
Петербургский И.М. и др. Мордва Заволжья. Саранск: Мордовское книжное
изд-во, 1994.
Рыблова М.А. Обрядовая трапеза донских казаков: от повседневного к сакраль-
ному // Этнографическое обозрение. 2017. № 3. С. 167-181.
Серебренников Б.А. Историческая морфология мордовских языков. М.: Наука,
1967.
Сычёв А.А. Культ леса в системе экологических верований мордвы // Финно-
угорский мир. 2015. № 4. С. 76-83.
Феоктистов А.П. Очерки по истории формирования мордовских письмен-
но-литературных языков. Саранск: Мордовское книжное изд-во, 2008.
Цыганкин Д.В. Память, запечатленная в слове: словарь географических назва-
ний Республики Мордовия. Саранск: Красный Октябрь, 2005.
Чувашов М.И. Духовное наследие народов Поволжья: живые истоки. Антоло-
гия. Т. 2. Самара: СГПУ, 2008.
Шепелев А. Самарская Лука. Самара: Агни, 2008.
Harva U. Die Religiosen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki: Suomalainen
Tiedeakatemia, 1952.
Paasonen H. Mordwinische Volksdichtung. Gesammelt on Ignatij Zorin,
Durchgesehen u. transkribiert von Heikki Paasonen, übers. von Kaino Heikkilä
u. Paavo Ravila, Herausgeg von Martti Kahla. Bd. V. Helsinki: Suomalais-
Ugrilainen Seura, 1977.
Paasonen H. Mordwinische Wörterbuch. T. 1, A-I. Helsinki: Finnisch-Ugrische
Gesellschaft, 1990.
Беленов Н.В. Некоторые особенности традиционной культуры мордвы...
117
Paasonen H. Mordwinische Wörterbuch. T. 2, K-M. Helsinki: Finnisch-Ugrische
Gesellschaft, 1992.
Paasonen H. Mordwinische Wörterbuch. T. 3, N-R. Helsinki: Finnisch-Ugrische
Gesellschaft, 1994.
Paasonen H. Mordwinische Wörterbuch. T. 4, S-Z. Helsinki: Finnisch-Ugrische
Gesellschaft, 1996.
Väisänen A.O. Mordwinische Melodien / Phonographisch aufgenommen und
herausgegeben von A.O. Väisänen. Helsinki: SuomalaisUgrilainen Seura, 1948.
R e s e a r c h A r t i c l e
Belenov, N.V. Aspects of the Traditional Culture of the Samara Povolzhie
Mordovians
[Nekotorye osobennosti traditsionnoi kul’tury mordvy
Samarskogo Povolzh’ia]. Etnograficheskoe obozrenie, 2022, no. 1, pp. 103-119.
0869-5415
© Russian
Academy of Sciences © Institute of Ethnology and Anthropology RAS
Samara State University of Social Sciences and Education (65/67 Maxim Gorky
Str., Samara, 443099, Russia)
Keywords
Mordva, Mordovians, Mordvins, traditional culture, Moksha-Mordovians, Erzya-
Mordovians, Samara-Volga region, ethnic/territorial group
Abstract
The article focuses on the cultural traditions and worldview aspects that are
distinctive to the Mordovians, or Mordvins, of the Samara-Volga region (Samara
Povolzhie). I examine the history of studying this ethnic group, as well as the
principal cultural traits that this group has in common and shares with Mordovians
elsewhere. I further discuss the particularities of their agricultural planting rites
and the springtime celebrations of Vatazi chi and Tundon’ il’tiamo that are observed
in a number of Erzya villages, describe the cultural specificities of the Samara
Bend (Samarskaia Luka) Moksha-Mordovians, and point attention to peculiarities
of rain prayers as practiced by Mordovians in the Samara region. I argue that these
aspects of the culture of Samara Povolzhie Mordovians had most likely stemmed
from the same roots, common to all ethnic groups of Mordovians; however, it
appears that they must have undergone substantial changes after the group under
consideration had settled in the geographical area of Samara Povolzhie.
References
Aunovskii, V. 1869. Etnograficheskii ocherk mordvy-mokshi [Ethnographic
Essay of Moksha-Mordovian]. In Pamiatnaia knizhka Simbirskoi gubernii
na 1869 god [Calendar of Simbirsk Province for 1869], 85-108. Simbirsk:
Tipografiia Simbirskogo gubernskogo pravleniia.
Belenov, N.V. 2018. Moksha-mordovskaia toponimiia Samarskoi Luki [Moksha-
Mordovian Toponymy of Samara Luka]. Samara: Porto-print.
Belenov, N.V. 2019. Ottoponimicheskii fol’klor mordvy-mokshi Samarskoi Luki
[Related to Toponyms Folklore of the Moksha-Mordovian of the Samara Luka].
Traditsionnaia kul’tura 20 (5): 153-160.
Belenov, N.V.
2021. Geograficheskaia leksika kliavlinskogo govora erzia-
mordovskogo yazyka [Geographical Lexicon of the Klyavlinsky Dialect of the
Erzya-Mordovian Language]. Filologicheskie nauki 1: 28-36.
118
Этнографическое обозрение № 1, 2022
Borodina, N.V., and T.I. Vedernikova. 2007. Narodnyi kostium Samarskogo kraia
[Folk Costume of Samara Region]. Samara: Samara-print.
Chuvashov, M.I. 2008. Dukhovnoe nasledie narodov Povolzh’ia: zhivye istoki.
Antologiia [Spiritual Heritage of the Peoples of the Volga Region: Living
Sources: Anthology]. Vol. 2. Samara: SGPU.
Denisov, P.V. 1959. Religioznye verovaniia chuvash (istoriko-etnograficheskie
ocherki)
[Religious Beliefs of the Chuvash]. Cheboksary: Chuvashskoe
gosudarstvennoe izdatel’stvo.
Deviatkina, T.P. 1997. Mifologiia mordvy (traditsionnaia kartina mira i obraz myshleniia)
[Mythology of the Mordva]. Inzhenernye tekhnologii i sistemy 3: 92-97.
Deviatkina, T.P. 2007. Mifologiia mordvy [Mythology of the Mordva]. Saransk.
Emelianov, M.A. 1955. Samarskaia Luka i Zhiguli [Samara Luka and the Zhiguli].
Kuibyshev: Kuibyshevskoe knizhnoe izdatel’stvo.
Evseviev, M.E. 1892. Mordovskaia svad’ba [Mordovian Wedding]. St. Petersburg:
Tipografiia S.N. Khudekova.
Evseviev, M.E. 1914. Bratchiny i drugie religioznye obriady mordvy Penzenskoi
oblasti [The Bratchiny and Other Religious Ceremonies of the Mordovians of
the Penza Region]. Petrograd: Tipografiia D. Smirnova.
Feoktistov, A.P.
2008. Ocherki po istorii formirovaniia mordovskikh
pis’menno-literaturnykh yazykov [Essays on the History of the Formation
of Mordovian Written and Literary Languages]. Saransk: Mordovskoe
knizhnoe izdatel’stvo.
Harva, U. 1952. Die Religiosen Vorstellungen der Mordwinen [The Religious Ideas
of the Mordovians]. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.
Kornishina, G.A. 2001. Traditsionno-obriadovaia kult’ura v sisteme mordovskogo
etnosa [Traditional-Ritual Culture in the System of the Mordovian Ethnos].
PhD diss., Moscow State University.
Kornishina, G.A. 2017. Obriady troitskogo tsikla mordvy Penzenskoi oblasti [Rites
of the Mordovians of the Penza Region for the Trinity]. Gumanitarii: aktual’nye
problemy gumanitarnoi nauki i obrazovaniia 3: 9-22.
Malkova, N.M. 2019. Materialy po istorii i kul’ture mordvy Samarskogo kraia
[Materials on the History and Culture of the Mordvins of the Samara Region].
Samara: Samarskoe arheologicheskoe obshhestvo.
Malkova, N.M. 2000. Pogrebal’nyi obriad i inventar’ mogil’nikov erzi i mokshi
XVI - nachala XIX vv. [Funeral Rite and Inventory of the Erzi and Moksha
Burial Grounds of the 16th - Early 19th Centuries]. PhD diss., Udmurt State
University.
Maskaev, A.I. 1964. Mordovskaia epicheskaia pesnia [Mordovian Epic Song].
Saransk: Mordovskoe knizhnoe izdatel’stvo.
Mikhalkovich, I.N. 2000. Reministsentsiia obraza dereva v mifologii i fol’klore
mordvy [Reminiscence of the Image of a Tree in the Mythology and Folklore of
the Mordovians]. Inzhenernye tekhnologii i sistemy 1-2: 72-77.
Mokshin, N.F. 1998. Religioznye verovaniia mordvy [Religious Beliefs of the
Mordva]. Saransk: Mordovskoe knizhnoe izdatel’stvo.
Peterburgskii, I.M., et al. 1994. Mordva Zavolzh’ia [Mordovians of the Volga
Region]. Saransk: Mordovskoe knizhnoe izdatel’stvo.
Ryblova, M.A. 2017. Obriadovaia trapeza donskikh kazakov: ot povsednevnogo
k sakral’nomu [The Ritual Feast among the Don Cossacks: From the Everyday
to the Sacred]. Etnograficheskoe obozrenie 3: 167-181.
Serebrennikov, B.A.
1967. Istoricheskaia morfologiia mordovskikh yazykov
[Historical Morphology of the Mordovian Languages]. Moscow: Nauka.
Shepelev, A. 2008. Samarskaia Luka [Samara Luka]. Samara: Agni.
Беленов Н.В. Некоторые особенности традиционной культуры мордвы...
119
Sychev, A.A. 2015. Kul’t lesa v sisteme ekologicheskikh verovanii mordvy [The
Cult of the Forest in the System of Ecological Beliefs of the Mordovians].
Finno-ugorskii mir 4: 76-83.
Tsygankin, D.V. 2005. Pamiat’, zapechatlennaia v slove: slovar’ geograficheskikh
nazvanii Respubliki Mordoviia [Memory Imprinted in the Word: Dictionary of
Geographical Names of the Republic of Mordovia]. Saransk: Krasnyi Oktiabr’.
Vedernikova, T.I. 1991. Etnografiia i prazdnichnaia kul’tura narodov Samarskogo
kraia [Ethnography and Festive Culture of the Peoples of Samara Region].
Samara: Samarskii oblastnoi NTs narodnogo tvorchestva.
Vedernikova, T.I., P.P. Fokin, and E.A. Yagafova. 1996. Etnografiia Samarskoi
Luki [Ethnography of Samarskaya Luka]. Samara: Samarskii regional’nyi fond
“Polden’. XXII v.”.
Paasonen, H. 1977. Mordwinische Volksdichtung. Gesammelt on Ignatij Zorin,
Durchgesehen u. transkribiert von Heikki Paasonen [Mordovian Folk Poetry:
Collected by Ignatii Zorin, Reviewed and Transcribed by Heikki Paasonen],
edited by M. Kahla. Vol. V. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
Paasonen, H. 1990. Mordwinische Wörterbuch [Mordovian Dictionary]. T. 1, A-I.
Helsinki: Finnisch-Ugrische Gesellschaft.
Paasonen, H. 1992. Mordwinische Wörterbuch [Mordovian Dictionary]. T. 2, K-M.
Helsinki: Finnisch-Ugrische Gesellschaft.
Paasonen, H. 1994. Mordwinische Wörterbuch [Mordovian Dictionary]. T. 3, N-R.
Helsinki: Finnisch-Ugrische Gesellschaft.
Paasonen, H. 1996. Mordwinische Wörterbuch [Mordovian Dictionary]. T. 4, S-Z.
Helsinki: Finnisch-Ugrische Gesellschaft.
Väisänen, A.O. 1948. Mordwinische Melodien [Mordovian Melodies], edited by
A.O. Väisänen. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.