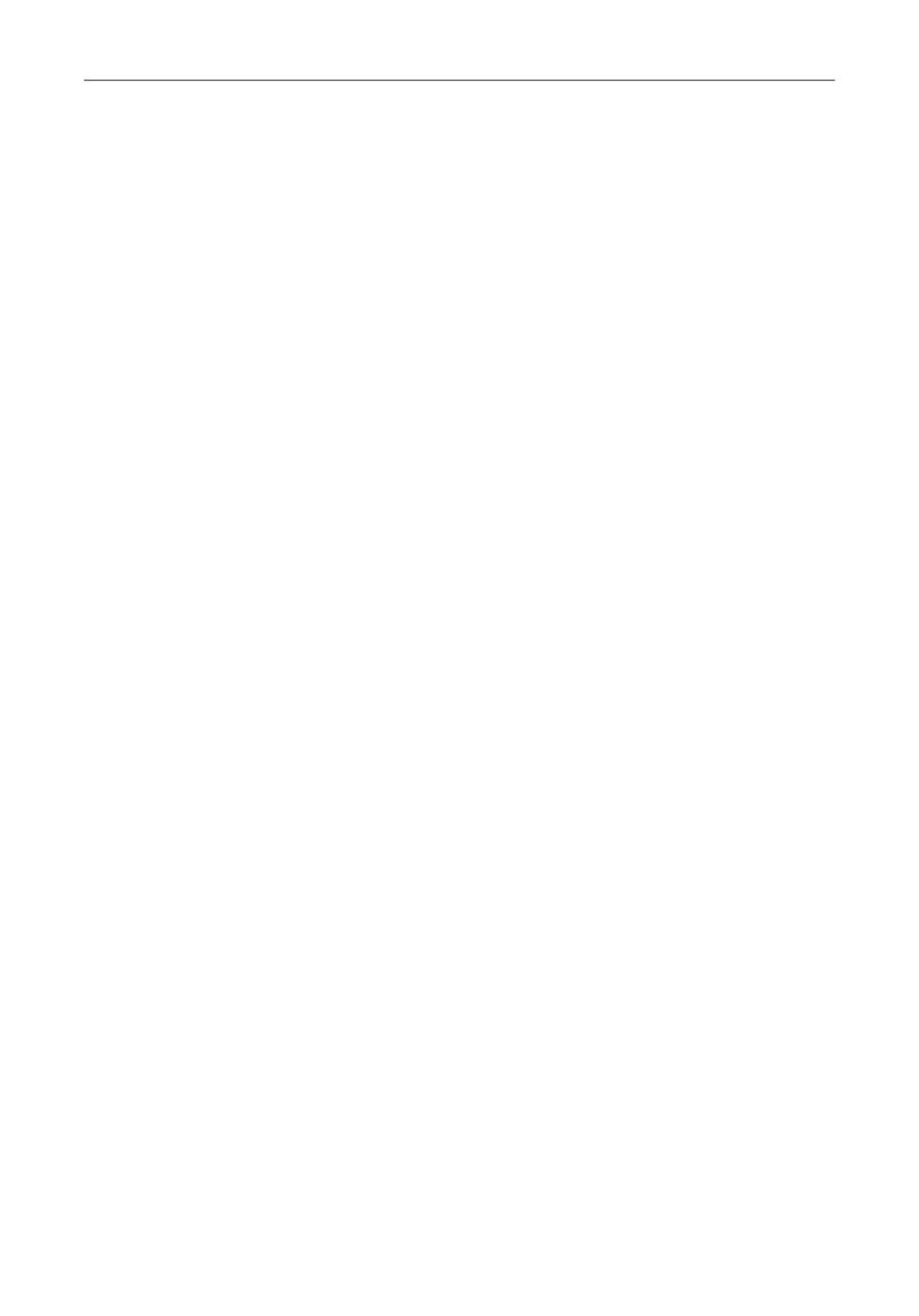ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ НАЗВАНИЙ
НАРОДОВ БАССЕЙНА АМУРА И САХАЛИНА
А.М. Певнов
д. филол. н., главный научный сотрудник | Институт лингвистических исследований
РАН (Тучков переулок 9, Санкт-Петербург, 199053, Россия)
Ключевые слова
этноним, этимология, этническая история, Амур, Сахалин, тунгусо-маньчжурские языки
Аннотация
Бассейн Амура и Сахалин отличаются концентрацией этнонимов - как исторических,
так и актуальных. В статье предлагается этимология семи “лингвистических этнони-
мов”, записанных в XX в. лингвистами или имеющими соответствующую подготовку
этнографами. Этимологический анализ этнонимов позволяет представить этническую
карту региона в историческом аспекте. Основные выводы: между нивхами и тунгу-
со-маньчжурами были, вероятно, другие палеоазиаты; в этнонимии данного региона
весьма заметно эвенкийское влияние; этнонимы с основой оро- - “место, местность”
(oroŋr, orokko, oročēn, oroči) были образованы, вероятно, в Маньчжурии и оттуда рас-
пространились в восточном направлении вплоть до Сахалина.
тнонимы, в частности этнонимы бассейна Амура и Сахалина, можно
классифицировать следующим образом: 1) лингвистические и нелингви-
Э
стические; 2) актуальные, устарелые и исторические; 3) эндоэтнонимы1 и
экзоэтнонимы. Для работы, ориентированной на этимологию, принципиально
важно деление этнонимов на лингвистические и нелингвистические. Лингви-
стическими этнонимами предлагаю называть те, которые были записаны линг-
вистами или, например, этнографами, имеющими навыки точной фонетической
фиксации. Все остальные этнонимы относятся к нелингвистическим - для эти-
мологического анализа их можно привлекать лишь в качестве вспомогательно-
го материала. По указанной причине объектом данной работы являются только
лингвистические этнонимы, цель работы - этимологический анализ лингвисти-
ческих этнонимов бассейна Амура и Сахалина.
Актуальным этнонимом является тот, которым в настоящее время активно
пользуются применительно к своему или другому народу, устарелым - тот, ко-
торый знают, но уже не используют, историческим - тот, о котором в наше вре-
мя представители народа могут узнать, например, из книг.
Предлагаю наряду с термином “экзоэтноним” (“внешний этноним”) исполь-
зовать термин “ксеноэтноним” (букв. название чужого народа)2. Ксеноэтноним
Статья поступила 18.02.2022 | Окончательный вариант принят к публикации 24.02.2022
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Певнов А.М. Этимология некоторых названий народов бассейна Амура и Сахалина // Этнографиче-
Pevnov, A.M. 2022. Etimologiia nekotorykh nazvanii narodov basseina Amura i Sakhalina [Etymology
of Ethnonyms in the Amur River Basin and Sakhalin]. Etnograficheskoe obozrenie 2: 23-44.
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
24
Этнографическое обозрение № 2, 2022
и экзоэтноним могут относиться к одному и тому же народу, но “точки наблю-
дения” при этом разные: например, “финны” для говорящего по-русски - это
ксеноэтноним, однако с точки зрения говорящего по-фински - это экзоэтно-
ним. Для финнов venäläiset “русские” - это ксеноэтноним, а для говорящих на
русском языке - экзоэтноним. К эндоэтнонимам (к “внутренним этнонимам”)
относятся ксеноэтнонимы, а также автоэтноним (т.е. самоназвание).
Имеет смысл стратифицировать этнонимы. Если авто-, экзо- или ксеноэт-
ноним относится ко всему народу, то целесообразно использовать термин “изо-
этноним”, если только к локальной группе народа - “гипоэтноним”, если же
к двум и более близким по культуре и/или языку народам, то можно приме-
нять термин “гиперэтноним” (“гиперэтноним” и “гипоэтноним” не являются
синонимами терминов “макроэтноним” и “микроэтноним”). Приведу примеры:
самоназвание удэгейцев удиhэ - изоэтноним; гипоэтнонимом является назва-
ние локальной группы негидальцев хэǯэн; гиперэтнонимом служит словосоче-
тание на бээн - так негидальцы-хэдены (хэǯэн) называли не только сами себя, но
и местные коренные народы: ульчей, нанайцев и других. Если же необходимо
было уточнить, что речь идет именно о негидальцах, то добавляли местоиме-
ние битта - “наш” (инклюзив). Уточненное при помощи личного местоимения
негидальское самоназвание битта на бээлтин имеет аналогии в других язы-
ках данного региона - ср.: ульчское мун нан’и, орочское бӯ орочи, нивхское
мер н’ивх, где слова мун, бӯ и мер означают “наш(и)”.
Интересно, что у удэгейцев есть ксеноэтноним ӈандугу, которым они на-
зывают представителей нескольких народов (“гиперксеноэтноним”). Согласно
Е.Р. Шнейдеру, ӈандугу - это “человек, принадлежащий к народу, резко отли-
чающемуся по хозяйству, образу жизни, социальным и экономическим отно-
шениям, религиозным представлениям и т.д. Таковыми удэ считают русских,
корейцев, китайцев и японцев” (Шнейдер 1936: 56).
Следует отметить, что при общении с представителями других народов эк-
зоэтноним может окказионально использоваться вместо автоэтнонима (именно
поэтому экзоэтнонимы иногда становятся автоэтнонимами). О такой этноними-
ческой ситуации на нижнем Амуре писал Л. Шренк:
Ближе всего предположить, что гольды сами называют себя таким образом. Действитель-
но, на мой вопрос, кто они такие, они неоднократно отвечали: “Гольдé”. Тем не менее, я не
утверждаю, чтобы они называли себя так же и между собою. Это, может быть, - название,
употребляемое ими лишь в сношениях с русскими, подобно тому, как гиляки, говоря с
русскими, называют себя гиляками, а между собою - ниб(а)х (Шренк 1883: 153).
То же самое в отношении ороков (ульта, уильта)3 писала Т.И. Петрова:
“Сами ороки называют себя ороками только в тех случаях, когда разговаривают
с народами, у которых они известны под этим названием” (Петрова 1967: 6).
В некоторых языках (напр., в эвенкийском, негидальском, орочском) нет
слова со значением “народ, национальность”. Точнее сказать, в этих языках
есть слово, которое может обозначать не только род, но и народ (по-эвенкийски
и в западном диалекте негидальского это тэγэ, по-орочски и в восточном диа-
лекте негидальского - хала). Свой народ (в частности, у негидальцев) включал,
естественно, несколько хала, в то время как, скажем, русские представлялись
как один, хотя и очень большой хала. Негидалец С.А. Гохта дал нам такие разъ-
яснения: “У мышей (крыс) свой хала, у белок-летяг свой хала, у зайцев свой
хала” (Сиӈэjэ ман халанин, омки ман халанин, монахан ман халанин). И дальше:
“У русских свой хала, у китайцев тоже свой хала; лиственница, береза - это не
хала” (Лоча ман халанин, манǯу тозе ман халатин; есма, чалбан - эта ни хала)”
(по поводу деревьев - это ответ на мой вопрос).
Певнов А.М. Этимология некоторых названий народов бассейна Амура и Сахалина
25
В то же время в негидальском языке суффикс -ди оформляет прилага-
тельные, образованные только от названий народов: нади - “негидальский”,
лочади - “русский” и т.д. Наличие этого суффикса противоречит сказан-
ному выше о значении слова хала (иначе можно было бы сказать сиӈэjэди -
“мышиный”, монахади - “заячий” и т.д.), поэтому на основе языковых особен-
ностей нельзя однозначно определить, какие у негидальцев на самом деле были
представления о том, что мы называем словом “народ”. Кстати, в ульчском и
нанайском языках наряду со словом хала (“род”) есть заимствованное из мань-
чжурского слово голо (“народ”) (в маньчжурском языке соответствующее слово
обозначает крупную административную единицу - провинцию).
Названия родов - “филонимы” (от греч. φυλή - “род, племя”) - принято
относить к этнонимам. Однако в отличие от этнонимов филонимы не поддают-
ся классификации и стратификации, т.е. не бывает “эндофилонимов” (с даль-
нейшим делением на “автофилонимы” и “ксенофилонимы”), “экзофилонимов”,
“изофилонимов”, “гипофилонимов” и “гиперфилонимов”. По этой причине не
следует включать родовые названия в число этнонимов.
В отличие от рода, члены которого считаются связанными кровным род-
ством, союз родов (духа4) не назывался у народов бассейна Амура именем соб-
ственным.
Этнонимы бассейна Амура и Сахалина
Этнонимы бассейна Амура и Сахалина по способу образования делятся
на этнонимические словосочетания, стяженные, эллиптические и, наконец,
аффиксальные. Стяженные этнонимы появились в результате превращения эт-
нонимического словосочетания в слово, эллиптические - вследствие опущения
компонента или компонентов этнонимического словосочетания. В подверг-
шихся стяжению или эллипсису этнонимических словосочетаниях обязатель-
но имелось слово, означавшее “человек” (“люди”) или “род”. Аффиксальные
этнонимы возникли путем присоединения словообразовательного суффикса,
который, как правило, имел значение “житель места, обозначенного основой
слова”.
В отличие от большей части родовых названий (филонимов) этнонимы бас-
сейна Амура и Сахалина имеют более или менее надежную этимологию, однако
при этом не этимологизируются названия, относящиеся к крупным народам -
таким, например, как чжурчжэни, маньчжуры, дауры (дагуры). В этом отноше-
нии макроэтнонимы подобны макрогидронимам.
Данный регион - бассейн Амура и Сахалин - представляет собой этноними-
ческий ареал, в котором: а) по географическим причинам немало гидроэтнони-
мов; б) этнонимы не только заимствовались (напр., негидальцами, уильта), но
также искусственно присваивались некоторым народам (примерами могут слу-
жить орочи, ульчи); в) использовались гиперэтнонимы (напр., общий этноним у
нанайцев и ульчей), причем иногда, как было уже сказано выше, с уточняющим
словом, означающим “наш”, в результате чего гиперэтноним окказионально
становился изоэтнонимом.
В бассейне Амура и на прилегающих к нему территориях сконцентрирована
бóльшая часть тунгусо-маньчжурских языков, при этом те, которые находятся
ныне целиком за пределами этого региона (эвенский, уильтинский, сибинский),
в прошлом также относились к нему. По-видимому, прародина тунгусо-мань-
чжурских языков находилась в бассейне среднего Амура (Певнов 2008: 81).
Вероятно, именно здесь примерно две тысячи лет назад от тунгусо-маньчжур-
ского базисного праязыка отделился предок чжурчжэньского, маньчжурского и
26
Этнографическое обозрение № 2, 2022
сибинского - так началась постепенная дивергенция, которая привела к образо-
ванию современных тунгусо-маньчжурских языков.
Особенностью бассейна Амура является исключительное разнообразие во
всех отношениях: в природном, историческом, этническом, хозяйственно-куль-
турном, языковом. Именно этим разнообразием объясняется большое количество
этнонимов на данной территории - по крайней мере четыре десятка названий,
причем это еще не все, а только лингвистические этнонимы (к историческим
нелингвистическим этнонимам относятся, напр., ачаны, гогули, дючеры).
В этой публикации рассматривается семь этнонимов (голдих, кӣллэ, кӯjи,
ороӈр, удиhэ, уилта, эвэнкӣ) с гипотетической этимологией - более или менее
надежной. Остальные этнонимы с гипотетической этимологией5, этнонимы с
очевидной, не вызывающей сомнений этимологией6, а также этнонимы, пока не
имеющие приемлемой этимологии7, будут приведены с комментариями в дру-
гой работе.
В каждой этимологической статье данной работы обязательными являются
три пункта:
1. Варианты лингвистического этнонима с указанием источника (тот
вариант, который больше других дает возможность осуществить фонетическую
реконструкцию и предложить этимологию, вынесен в заголовок статьи, он же
приводится первым в этом пункте; далее могут быть указаны соответствия в
других языках, причем языки следуют в алфавитном порядке).
2. Характеристика этнонима: а) актуальный, устарелый или исторический;
б) автоэтноним (исконный или заимствованный) или экзоэтноним/ксеноэтно-
ним (с возможным уточнением, какой именно: гипо-, изо- или гиперэтноним).
3. Этимологический анализ этнонима.
Этнонимы (как и вообще весь языковой материал) приводятся курсивом в
принятой в “Сравнительном словаре тунгусо-маньчжурских языков” “фоне-
тической транскрипции на основе знаков русского алфавита” (Цинциус 1975:
XVI-XXIII), но при этом с некоторым упрощением: обусловленные сингармо-
низмом варианты фонем обозначаются одинаково. Слова из разных лингвисти-
ческих источников не всегда можно адекватно транслитерировать, применяя
транскрипцию, используемую в этом словаре. Поэтому, когда возникают про-
блемы с транслитерацией, транскрипция дается так, как в оригинале, причем
в фигурных скобках и курсивом, например: {gɔlɔ}. Нелингвистические этно-
нимы (и не только этнонимы, но и любые слова в нелингвистической запи-
си) приводятся также в фигурных скобках, но без курсива: {бирар}, {u-di-ö},
{elkambienin}. В цитатах транскрипция этнонимов остается без изменений -
так, как в оригинале.
Голдих
1. Нег. голдих - “гольд, нанаец” (Schmidt 1923a: 18) (записано Б. Баратоши-
Балогом8), голдих (“низовской” говор) - “нанаец, гольд” (Цинциус 1982: 205),
голдихисэл - “нанайцы” (ПМА 1999); уил. голǯӣ (вин. падеж голǯикке) - “нанаец
(гольд)” (Ikegami 1997: 72); ороч. гогди - “нанаец” (Аврорин, Лебедева 1978: 174);
ульч. голди
-
“гольды (устарелое) (ульчское наименование нанайцев)”
(Суник 1985: 185).
У Л.Я. Штернберга есть такое уточнение: «…góldyx - негидальское назва-
ние для гольдов (“с выбритой передней частью лба”, см. ngatku)» (Штернберг
1933: 543).
2. Негидальцы, ульчи, уильта и орочи называют нанайцев ксеноэтнонимом,
который можно реконструировать как *голдики.
Певнов А.М. Этимология некоторых названий народов бассейна Амура и Сахалина
27
3. Предполагаю, что этноним *голдики образован от заимствованного мань-
чжурского слова голо - “губерния, область” (Захаров 1875: 341-342). По-види-
мому, в китайском языке маньчжурскому голо по значению соответствует shěng
(省) - “провинция, область”. В нанайском и ульчском языках маньчжурское по
происхождению слово голо изменило свое значение и стало означать “народ-
ность, национальность” (Оненко 1980: 114; Суник 1985: 185). Такое семанти-
ческое изменение вполне объяснимо: крупная территориальная единица (про-
винция) → население этой территориальной единицы (провинции) → народ
(любой), народность9.
Интересно, что в бикинском (уссурийском) диалекте нанайского языка
слово голо означает не только “1) народ; 2) национальность”, “1) государство;
2) власть”, но также “1) местность; 2) область” (Сем 1976: 148) (у Л.И. Сем три
омонима).
В ульчско-уильтинском праязыке слово *голо оформлялось суффиксом *-ди,
присоединявшимся только к названиям народов10: *голо-ди, вероятно, означало
“относящийся к народу, населению (данной провинции)”.
Аналогичное семантическое изменение характерно для самоназвания нем-
цев (Deutsche): оно восходит к древневерхненемецкому слову diutisc - “принад-
лежащий к народу, относящийся к народу, народный” (< diot(a) - “народ”).
Гласный второго слога в слове *голо-ди подвергся синкопированию11, в ре-
зультате получилось *голди. Присоединение суффикса *-ки изменило значение
слова: *голди-ки означало уже “нанаец”. По-видимому, праформу *голди-ки -
“нанаец” следует относить к ульчско-уильтинскому праязыку; из него, вероят-
но, были заимствованы нег. голдих - “нанаец” и ороч. гогди - “нанаец”.
Этноним *голдики употреблялся только по отношению к нанайцам (причем,
видимо, не ко всем их территориальным группам), поскольку в сравнении с
другими народами бассейна нижнего Амура они были в большей степени свя-
заны с маньчжурами и с их системой государственного управления - именно
поэтому соседи считали их народом, относящимся к маньчжурской провин-
ции (*голо-ди - “относящийся к народу провинции” > *голоди-ки > *голдики >
*голдӣ > ульч. голди).
Датировка этнонима *голдики “маньчжурским временем” подтверждается
наблюдением Л. Шренка:
Когда русские в XVII столетии, спускаясь по Амуру, проходили через область гольдов,
название это было им еще совершенно неизвестно. Только в 50-х годах нашего столетия,
когда русские при вторичном занятии Амурского края сперва стали твердою ногою на
устье Амура, в земле гиляков, а потом начали подвигаться оттуда вверх, имя “гольды”
заменило у них прежние названия “натки” и “ачаны” (Шренк 1883: 153).
Таким образом, этноним *голдики появился сравнительно поздно - между
XVII и XIX веками (т.е. при маньчжурской династии Цин). Наличие в уильтин-
ском языке соответствующего этнонима голǯӣ позволяет высказать следующие
взаимоисключающие предположения: или 1) миграция предков уильта на Сахалин
происходила после XVII в., или 2) она была и до, и после XVII в., т.е. несколькими
волнами, или 3) миграция предков уильта на Сахалин была до XVII в., а этноним
голǯӣ уильта заимствовали из ульчского языка уже после XVII в. Более вероятны,
думаю, первый и второй варианты.
Кӣллэ
1. Уил. кӣллэ - “эвенк” (Ikegami 1997: 102); нан. кӣлэр - “эвенк” (Оненко
1980: 217); нан. (кур-урм.) килэр - живущие в верховьях рек Кура и Урми эвенки
28
Этнографическое обозрение № 2, 2022
(Суник 1958: 14); нег. {kilöl} - “тунгус” (Schmidt 1923a: 22) (этноним записал
у негидальцев в начале прошлого века Б. Баротоши-Балог), килэ (“низовской”
говор) - “эвенк, тунгус” (Цинциус 1982: 231); нивх. (амур.) кил, нивх. (вост.-сах.)
килӈ - “1. тунгус; 2. тунгусский” (Савельева, Таксами 1970: 112); ороч. кӣлэ(н) -
“эвенк” (Аврорин, Лебедева 1978: 196); уд. килэ - “эвенки” (Кормушин 1998:
248); ульч. кӣлэ(н) - ульчское название тунгусов (эвенков, негидальцев, эвенов)
(Суник 1985: 204).
2. Нанайский, негидальский, нивхский, уильтинский, орочский, удэгейский
и ульчский ксеноэтнонимы являются для эвенков экзоэтнонимами.
3. Уил. кӣллэ (вин. падеж кӣллэмбэ) позволяет реконструировать этноним
как *кӣлэн12. Нан. кӣлэр (< *кӣлэр) можно считать тунгусской13 формой мно-
жественного числа имен существительных, оканчивающихся на н. Предпола-
гаю, что *кӣлэн восходит к *кӣлэ-γэн - “житель местности Килэ”, а *кӣлэр -
к *кӣлэ-γэр - “жители местности Килэ”. Следует сказать, что словообразова-
тельный суффикс -γан14, придающий слову с “географическим содержанием”
значение “житель…”, употребляется только в эвенкийском, в других тунгусо-
маньчжурских языках он отсутствует. На тунгусское происхождение слова
*кӣлэ-γэн указывает и специфическая форма множественного числа - *кӣлэ-γэр;
такой способ образования формы множественного числа путем замены н на
р характерен только для эвенкийского и эвенского языков (в негидальском
в данном случае *-р > -л). Таким образом, соседние народы некогда стали
называть эвенков при помощи их же (т.е. эвенкийского) слова, при этом про-
изводящая основа этого слова (*кӣлэ-) была топонимом, который в самостоя-
тельном употреблении не сохранился.
Слово *кӣлэ-γэн (мн. ч. *кӣлэ-γэр) получило широкое распространение как
родовое название. В приложении “Родовые названия и их распространение в
XVII-XX вв.” к книге Г.М. Василевич читаем:
Килен (мн. ч. Килер ~ Килар ~ Килор ~ Килагир). В XVII в. по рр. Охоте, Улье, Тауну,
Аиму, Мае, Уду, Тугуру <…>15, на Хантайке, у оз. Ессей (урочище Килягир на Таймыре),
на Шилке <…>. В XVIII в. эвены на р. Арке, Охоте (Крашенинников). В XIX в. на Амгу-
ни и Урми (Миддендорф), на истоках Лены и в Вилюйском округе. В 1897 г. в Охотском
округе. В 1917 г. группы Килен с самоназванием эвэнки в южной части Сахалина <…>;
в 1917 г. их было 20 человек <…> Кили - род нанайцев, Килендига - род орочей, Килер -
род ульчей (Василевич 1969: 270).
Интересные сведения об этнониме (родовом названии) {Kilen} (это одна из
групп хэчжэ) в Северо-Восточном Китае привела в своей диссертации Чжан
Пайюй: «Народ килен использует слово naniɔ ~ nanyɔ, означающее “местный
человек, местные люди” <…>; na означает “местный” или “земля”, niɔ ~ nyɔ
имеет значение “человек” или “люди”. Иногда конкретная этническая груп-
па предпочитает использовать по отношению к себе родовое название Kilen»
(Zhang 2013: 23).
При помощи суффикса -γан, которым оформляется название жителя мест-
ности, обозначенной основой слова, были, по-видимому, образованы некоторые
другие названия народов бассейна Амура: негидальский автоэтноним (гипоэт-
ноним) хэǯэн, нанайский ксеноэтноним хэǯэ - “ульч”, а также родовые назва-
ния хэǯэр (ульч.) и {Эдигэн ~ Эджигэн} (эвенк.) восходят, вероятно, к *хэǯӣ-γэн
(мн. ч. *хэǯӣ-γэр) - “житель (жители) низовьев реки”16; родовые названия
солонов ({sɔlgɔn, sɔlgυr, sɔlgɔŋhaahar ~ sɔlɔŋhaahar} [До Дорджи 1998: 627])
и эвенков ({Шологон ~ Сологон, Шолон ~ Солон} [Василевич 1969: 285-286])
реконструируются как *соло-γон (мн. ч. *соло-γор), что буквально означает
“житель (жители) верховьев реки”.
Певнов А.М. Этимология некоторых названий народов бассейна Амура и Сахалина
29
Учитывая широкое распространение рефлексов форм *хэǯӣ-γэн (*хэǯӣ-γэр),
*соло-γон (*соло-γор) и *кӣлэ-γэн (*кӣлэ-γэр), можно сделать вывод о том, что
эвенки были весьма активными участниками этногенетических процессов в
бассейне нижнего Амура и на прилегающих территориях.
Кӯjи
1. Уил. кӯjи - “айн, айну” (Ikegami 1997: 109); нан., ороч., ульч. кӯи - “айн”
(Schmidt 1923b: 263); нег. (“низовской” говор) куjи - “айны” (Цинциус 1982: 234);
нивх. куγи - “айн, айны” (Савельева, Таксами 1970: 122), {kūgi} - “айн” (Schmidt
1923b: 263); ороч. куи ~ куjи - “айн, айны”, куи нан’и - “о. Сахалин (букв. земля
айнов)” (Аврорин, Лебедева 1978: 198); уд. (самаргинский диалект) куи - “айны”
(Кормушин 1998: 252); ульч. куи - ульчское название айнов (Суник 1985: 206).
Ю. Янхунен в статье “Названия айнов у народов Амура и Сахалина” (см. статью
в этом номере), ссылаясь на неопубликованный словарь Е.А. Крейновича, отме-
чает, что анлаутный согласный в нивхском названии айнов ошибочно приведен
в словаре В.Н. Савельевой и Ч.М. Таксами без аспирации (Савельева, Таксами
1970: 122).
2. Нанайский, негидальский, нивхский, уильтинский, орочский, удэгейский
и ульчский ксеноэтнонимы являются для айнов экзоэтнонимами.
3. В упомянутой статье в данном номере журнала Ю. Янхунен пишет, что
нивхское к’уғи может быть только заимствованием тунгусо-маньчжурской формы *куjи
(*kuyi) с заменой полугласного *j перед гласным *i на согласный /γ/, поскольку соче-
тание jи (yi) в нивхском в середине слова не встречается <…> все тунгусо-маньчжур-
ские наименования айнов восходят к единому первоначальному варианту *кури <…>.
Вполне вероятно, что тунгусо-маньчжурское *кури, в свою очередь, происходит от
айнского *кур - “человек”.
Если нивх. кhуγи - “айн, айны” на самом деле было заимствовано из тунгусо-
маньчжурских языков, то слово это должно было прийти только из негидаль-
ского, орочского или удэгейского, так как лишь в этих трех языках в гипотети-
ческом *кури - “айн, айны” мог выпасть звук р между гласными и вместо него
мог появиться звук j (*кури > *куи > кӯjи; кстати, появление долготы гласного не
имеет в данном случае объяснения). Ни в ульчском, ни в нанайском языках вы-
падения вибранта в этом слове произойти не могло, точнее, вероятность такого
выпадения крайне мала. В этих двух языках устранение вибранта ограничива-
ется тремя глагольными аффиксами, исторически связанными друг с другом
(одним из них является -jи - показатель причастия незаконченного действия),
а также лишь несколькими словами, ср.: нан. эи - “этот” (< *эри), тэи - “тот”
(< *тэри), наи - “человек” (< *нари < *н’арӣ)17. Таким образом, нивх. кhуγи
вряд ли могло быть заимствовано из ульчского или нанайского (или из ульчско-
нанайского-уильтинского праязыка). Также сомнительно заимствование в нивх-
ский язык слова кhуγи из негидальского, орочского или удэгейского, поскольку
нет примеров лексических заимствований из этих языков в нивхский. И вообще
маловероятно, что негидальцы, орочи и удэгейцы были знакомы с айнами луч-
ше, чем нивхи.
Можно предположить, что предки нивхов, с одной стороны, и предки не-
которых тунгусо-маньчжурских народов - с другой, заимствовали название
айнов из какого-то исчезнувшего языка, носители которого были ассимилиро-
ваны предками орочей и удэгейцев (отчасти ульчей и нанайцев). Для орочско-
удэгейского праязыка этот гипотетический язык мог выступать субстратом,
особенностью которого было отсутствие вибранта, что свойственно большо-
му количеству языков, образующих “тихоокеанский пояс аномалии плавных”
30
Этнографическое обозрение № 2, 2022
(Певнов 1994). Для негидальского же языка, в котором так же, как в орочском
и удэгейском, вибрант был устранен во всех позициях в слове, субстратом был,
вероятно, орочский, что нашло отражение не только в исторической фонетике
негидальского языка, но также в лексике и, вероятно, в грамматике. По-видимому,
предки орочей и удэгейцев мигрировали на юг, на восточные склоны хребта
Сихотэ-Алинь с той территории, где в настоящее время живут ульчи и неги-
дальцы. Продвижение предков ульчей и нанайцев вниз по нижнему Амуру
привело к существенному изменению этнической и языковой ситуации в этом
регионе. Вот что в этой связи писал П. Шмидт: “Ульчи <…> несомненно ми-
грировали вниз по течению (Амура. - А.П.) и отделили негидальцев от орочей
(орочами П. Шмидт называл не только орочей, но и удэгейцев. - А.П.) - и те,
и другие когда-то были соседними народами” (Schmidt 1923b: 230).
Ороӈр
1. Нивх. (амур.) ороӈр [ороӈор] - “ульчи” (ПМА 1994). В середине XIX в.
Л. Шренк записал аналогичный этноним: “Оронгръ, Оронгшъ” - так “гиляки на-
зывают ольчей (амурских мангунов)” (Шренк 1883: 136), т.е. так нивхи называли
ульчей. Нивх. (вост.-сах.) {орӈарш}, нивх. (амур.) {орӈыр} - “ороч, также ульч,
ульчи” (Савельева, Таксами 1970: 247). “Нивхи называли последних (т.е. негидаль-
цев. - А.П.) орӈрку и рыгугу. Первым словом они определяли широкий круг тун-
гусоязычных народов - ульчей, ороков, орочей и др. Оно было заимствовано от
бывших оленеводов” (Таксами 1975: 206, 214).
2. Нивхские варианты ксеноэтнонима являются по крайней мере для ульчей
экзоэтнонимами.
3. По мнению Ю. Янхунена, этноним orokko (в сахалинском айнском
orohko) может быть связан с сахалинским айнским (преимущественно
фольклорным) названием уильта (или вообще соседей айнов) orakata18. Как
считает Ю. Янхунен, айнские этнонимы orohko, orakata были заимствованы
у нивхов, а в конечном счете все они восходят к имевшему весьма широкое рас-
пространение в Центральной и Северной Азии термину uryangkhai (урянхай,
уранкай) (Janhunen 2014).
Хотел бы предложить альтернативную гипотезу, объясняющую происхож-
дение нивхских названий некоторых соседних народов, говорящих на тунгусо-
маньчжурских языках. По всей вероятности, в качестве названия своих южных
соседей (в частности, ульчей и орочей) нивхи заимствовали тунгусский этно-
ним *оро-ӈкар, что буквально означало “жители местности” (ед. ч. *оро-ӈкан).
К архетипу *оро-ӈкар восходят нивхские варианты ороӈр, {орӈарш} ~ {орӈыр}
и {орӈр}. Что касается формы единственного числа (*оро-ӈкан), то она нашла
отражение в айнском названии уильта {orókko} (Magata 1981: 159).
При заимствовании нивхским языком слов из тунгусо-маньчжурских язы-
ков происходило выпадение гласных: нивх. (амур.) {т‘ылгу} - “предание,
быль”, ср. нан. тэлуӈгу - “легенда, предание, былина, сказание”; нивх. (амур.)
{т‘ыӈрыӈ} - “однострунный музыкальный инструмент”, ср. ульч. тэӈкэрэ -
“струнный музыкальный инструмент”; (Оненко
1980:
418; Савельева,
Таксами 1970: 388, 389; Суник 1985: 244). Ср. также нивх. (амур.) {хыӈгр} -
“устье реки Амгунь”19 (< {*хыӈг} - “Амгунь” + {ыр} - “устье”) (Савельева,
Таксами 1970: 415).
Таким образом, в вариантах {орӈарш} и {орӈыр} некогда произошло выпа-
дение гласного второго слога (*оро↓ӈкар > {орӈарш} > {орӈыр}), а в варианте
ороӈр выпал гласный третьего слога: *ороӈка↓р > ороӈр. В варианте {орӈр}
наблюдается выпадение гласных как во втором, так и в третьем слогах.
Певнов А.М. Этимология некоторых названий народов бассейна Амура и Сахалина
31
При заимствовании долгота гласного не должна была сохраниться
(*оро↓ӈкар > *орӈкар > {орӈарш}), так как в нивхском языке нет долгих глас-
ных фонем20; образовавшийся кластер *рӈк подвергся упрощению (*орӈкар >
*орӈар); в абсолютном исходе слова произошло закономерное оглушение
согласного р. В итоге получилось восточносахалинское {орӈарш}, а в результате
закономерного для амурского диалекта перехода а > {ы}21 появилось {орӈыр}.
Нивхский амурский вариант ороӈр указывает на то, что во втором слоге
реконструируемого этнонима должен был быть гласный о (*ороӈкар), в то вре-
мя как восточносахалинский вариант {орӈарш} подтверждает наличие в треть-
ем слоге праформы гласного а (*ороӈкар).
Сегмент *-ӈкар (ед. ч. *-ӈкан) в восстанавливаемом этнониме *ороӈкар пред-
ставлял собой суффикс, при помощи которого образовывались названия жителей
какой-либо местности. Соответствующий суффикс есть в эвенском, орочском,
удэгейском, ульчском, уильтинском и нанайском языках, однако отсутствует в
эвенкийском, хамниганском, ороченском, солонском и маньчжурском.
Что касается основы *оро-, то от нее был образован также этноним орочен,
адаптированный русскими как орочон (до относительно недавнего времени так
называли в том числе и уильта).
С.М. Широкогоров сравнивал этноним {орóчен} с ороченским словом
{ŏрŏ} - “место; место для сидения; место жительства; место, занимаемое
сидящим” (Shirokogoroff 1944: 105).
Действительно, основу *оро- можно сравнить, например, с монг. письм.
orun - “место; территория, страна; место жительства” (Lessing 1960: 623).
Маньчжурским языком монгольское слово было заимствовано как орон -
“место”, соответствующее слово есть также в солонском (орон - “место, район;
место жительства”) и в ороченском (см. предыдущий абзац).
Таким образом, нивхское название некоторых соседних народов может вос-
ходить к *ороӈкар (мн. ч.), что буквально означало “жители местности, мест-
ные жители” (ср.: нан. удэ - “местонахождение кого-либо или чего-либо, мест-
ность; место происшествия” > удэӈкэ - “житель, жители местности” [Оненко
1980: 424]).
Этноним *ороӈкан ~ *ороӈкар мог появиться в одном из тунгусских языков22
в зоне маньчжурского влияния, поскольку его основа оро- - “место” есть только
в маньчжурском, солонском и орочéнском языках23. Словообразовательный суф-
фикс -ӈкан в эвенкийских диалектах отсутствует, однако множественное число
этнонима образовано по эвенкийско-эвенскому образцу (-н > -р). Самоназвание
этих тунгусских оленеводов сохранилось у нивхов (в частности, ороӈр) и саха-
линских айнов {orókko} (Magata 1981: 159).
Архетип *ороӈкан подвергся в уильтинском языке следующим фонетиче-
ским преобразованиям: 1) в соответствии с уильтинской гармонией гласных
произошло огубление гласного суффикса (*оро-ӈкан > *оро-ӈкон); 2) гласный
суффикса закономерно утратил долготу (*оро-ӈкон > *оро-ӈкон); 3) финаль-
ный н закономерно отпал (*оро-ӈкон > *оро-ӈко); 4) закономерно произошла
трансформация кластера ӈк > кк (ср.: т.-м. *оӈко- - “пастись” > уил. окко- -
“пастись”).
Записанное Х. Магатой айнское название уильта {orókko} было, очевидно,
у уильта и заимствовано24, однако и в уильтинском языке оно явно заимствован-
ное, так как соответствующий словообразовательный суффикс в исконно уиль-
тинских словах подвергся в свое время иным фонетическим преобразованиям.
Если бы рассматриваемый этноним был для уильтинского языка исконным, то
конечным результатом было бы не орокко, а оротто (*оронкон > *орончон >
*орончо > *оронто > *оротто).
32
Этнографическое обозрение № 2, 2022
Можно предположить, что некая тунгусская группа, пришедшая, вероятно,
из Маньчжурии (Большой Хинган)25, занималась оленеводством где-то в бас-
сейне нижнего Амура. Эти тунгусы называли себя и были известны соседним
народам как *ороӈкан (ед. ч.), *ороӈкар (форма мн. ч., к которой восходят ва-
рианты нивхского ксеноэтнонима). При этом непонятно, какова была роль этой
тунгусской группы в этногенезе уильта. Что касается оленеводства уильта, то
его нельзя считать заимствованным у эвенков или эвенов, поскольку соответ-
ствующая лексика, судя по историко-фонетическим особенностям, является в
уильтинском языке в основном исконной.
Удиhэ
1. Уд. удиhэ ~ {удиеh ~ удеh} - «удэгеец, удэгейский (в оригинале “удыхеец
(удэхеец); удыхейский (удэхейский)”)» (Кормушин 1998: 300).
2. Для удэгейцев это актуальный автоэтноним.
3. П. Шмидт высказал идею о связи самоназвания удэгейцев с чжур-
чжэньским словом {u-di-ö}: «“Udihe” соответствует чжурчжэньскому u-di-ö -
“дикая местность” и маньчжурскому wedzi - “лес”; похоже на то, что этот на-
род и был wedzi aiman (название маньчжурского рода) маньчжурских хроник»
(Schmidt 1928: 2).
В работе И.В. Кормушина читаем: “Этнограф В.С. Стариков сближал эт-
ноним удиhе (udıhǝ) с чжурчжэньским словом udıǝ ‛(лесные) дебри’ <…>.
Однако этническое название по местности в удыхейском языке образуется
с помощью афф. -ӈка/-ӈкэ (т.е. в этом случае ожидалось бы слово *удиӈкэ)”
(Кормушин 1998: 5).
Думаю, что в чжурчжэньском языке было не {u-di-ö} - “дикая местность”
и не {udıǝ} - “дебри”, а *удиγэн - “дикий” (напр., в словосочетании *удиγэн
н’арма - “дикий человек, дикие люди” - реконструкция на основе китайcкой
транскрипции, приведенной в работе: Grube 1896). Предполагаемая чжурчжэнь-
ская форма множественного числа *удиγэ-сэ могла быть преобразована в удэ-
гейском языке следующим образом: *удиγэ-сэ > *удиэсэ > *удиэhэ > удиэ ~
удиhэ (именно такая цепочка звуковых изменений была представлена в одной
из моих работ [Певнов 2004: 145]).
В настоящее время я бы предложил другую этимологию, которая основа-
на на том, что самоназвание удэгейцев удиhэ восходит к *удэhэ < *удэсэ <
*удэн-сэ < *удэн сэ - “род(ы) (данной) местности”. Аналогичные звуковые
изменения произошли, например, в следующих удэгейских словах: {силиhэ ~
силеh} - “роса” (< *силэhэ < *силэсэ < *силэӈсэ, ср.: ороч. силэӈсэ - “роса”)
и {ʒэгдеhэ} (самаргинский диалект) - “горелое место в лесу” (оба слова при-
ведены по: Кормушин 1998: 235, 285) - последнее восходит к *ǯэгдэнсэ (ср.:
эвенк. ǯэгдэннэ, ǯэгдэндэ - “гарь, пожарище” < *ǯэгдэнтэ < *ǯэгдэнсэ). Первым
обратил внимание на подобные исторические изменения звуков Е.Р. Шнейдер:
… в удэйском языке из той же комбинации, т.е. интервокального s (или s с другим со-
гласным), развился тип аспирированных гласных дифтонгоидного характера. Процесс
преобразования этого звукового комплекса сопровождался продвижением всей артику-
ляции вперед. При этом начальные элементы оказались более узкими, чем конечные…
(Шнейдер 1937: 11) (подчеркнуто мной. - А.П.).
По моим наблюдениям, восстанавливаемому интервокальному с в этих зву-
ковых комплексах в удегейском языке исторически предшествовали кластеры
нс и ӈс (см. выше: *силэӈсэ и *ǯэгдэнсэ). При отсутствии кластера результат
получался иной: *кэсэ - “слово, речь, язык” > кэhиэ (Цинциус 1975: 483), кэhе
Певнов А.М. Этимология некоторых названий народов бассейна Амура и Сахалина
33
(где фарингальный h является палатализованным) (Кормушин 1998: 63). Таким
образом, бескластерная форма *удэсэ дала бы *удэhиэ (*удэhе), а предлагаемый
в данной статье архетип с кластером (*удэнсэ) закономерно превратился в ныне
существующее самоназвание удиhэ.
Итак, можно предположить, что архетип *удэнсэ является результатом стя-
жения этнонимического словосочетания *удэн сэ. Компоненты этого словосо-
четания связаны друг с другом не при помощи изафета, а посредством примы-
кания (ср. то же самое в нанайских этнонимах нанаи [< *на наи], монаи ~ мӯнэи
[< *мӯ наи]). Отсутствие показателя множественного числа у второго компо-
нента (сэ - “род”) вполне объяснимо: “Категория числа не является обязатель-
ной грамматической категорией для удыхейского языка. Множественность лиц
(неодушевленные предметы вообще не принимают этих показателей) может
быть совершенно не выражена ни в имени, ни в предицируемом глаголе”
(Кормушин 1998: 88).
Первый компонент словосочетания встречается в удэгейском фольклоре:
удэ(н) - “местá”, “местность” (Kyalundzyuga, Simonov 1998: 933) (слово при-
ведено только в этом словаре), ср. ульч. удэ(н) - “область, местность” (Суник
1985: 245), нан. удэ - “местонахождение кого-либо, чего-либо, местность;
место происшествия” (Оненко 1980: 424), уил. удэ - “территория, область, район”
(Цинциус 1977: 249).
Второе слово - сэ - означает “род” (Кормушин 1998: 290). В “Сравнитель-
ном словаре тунгусо-маньчжурских языков” оно включено в словарную статью
“СЭКСЭ кровь” (Цинциус 1977: 138), что не кажется убедительным. Во всяком
случае, слово сэ - “род” есть только в удэгейском языке, так что этноним удиhэ
был образован именно в нем.
Словом удиhэ называет себя только один народ, соседи называют удэгей-
цев киака (орочи), киакара (нанайцы). Этноним удиhэ появился относительно
давно, о чем свидетельствуют произошедшие в нем существенные звуковые
изменения (*удэнсэ > удиhэ). Первый компонент этнонимического словосоче-
тания *удэн сэ сохранился только в удэгейском фольклоре (удэ(н) - “местá”,
“местность”) - это тоже говорит об относительной древности этнонима удиhэ.
Уилта
1. Уил. уилта - “уильта (орок)” (Ikegami 1997: 217), {úil ta, úita, úl’ta} (Magata
1981: 220), уjлта ~ ул’та - “орок (самоназвание)” (Цинциус 1977: 263); ульч.
{ūlča} - “орок” (Schmidt 1923b: 288).
2. Для уильта это актуальный автоэтноним.
3. Было несколько попыток этимологизировать самоназвание уильта.
В “Сравнительном словаре тунгусо-маньчжурских языков” этноним уjлта ~
ул’та помещен в одну словарную статью с названием домашнего оленя ула
(ула. - А.П.) (Цинциус 1977: 262-263). Если этот этноним на самом деле произо-
шел от слова, означающего “домашний олень”, то непонятно, что представляет
собой сегмент -та. Эта гипотеза также не объясняет наличие варианта уjлта
(кстати, трехконсонантные кластеры в уильтинском языке недопустимы, поэто-
му должно быть уилта).
Относительно недавно объяснение происхождения самоназвания уильта пред-
ложил А.Ф. Старцев. По мнению автора, этноним “уильта” восходит к “названию
большой деревни на территории негидальцев” - речь идет об “ойкониме Uil (Уил)”
(Старцев 2015: 126). А.Ф. Старцев ссылается при этом на работу Л.Я Штернбер-
га, в которой упоминается “большая деревня” с таким названием; жители ее, как
уточняет Л.Я. Штернберг, “лет двадцать назад все вымерли” (Штернберг 1933:
34
Этнографическое обозрение № 2, 2022
532, 548). Надо сказать, что больших деревень в тех краях до прихода русских не
было и быть не могло, поскольку занятия местного населения никоим образом не
способствовали появлению крупных поселений.
Далее А.Ф. Старцев пишет: «Если ойконим уил объединить с суффиксом
принадлежности -та, то мы получим термин уилта (уильта), что в переводе
будет означать “жители селения Уил”» (Старцев 2015: 126). Однако в уильтин-
ском языке, как и в других тунгусо-маньчжурских, нет “суффикса принадлеж-
ности -та”26, поэтому гипотеза А.Ф. Старцева с лингвистической точки зрения
некорректна.
Ближе к истине была Т.И. Петрова:
Этимология слова ул’та ~ уjл’та (как и ульча) неясна. Сами ороки своего самоназвания
никак не поясняют и употребляют слово ул’та ~ уjл’та как неразложимый термин для
обозначения своей народности. Если бы мы слово ул’та ~ уjл’та разложили предполо-
жительно на морфемы (основную ул’ ~ уjл’ и суффиксальную -та), то для них в языке
ороков соответствующих живых значений не найти. Правда, фонетические закономер-
ности орокского языка позволяют сопоставить суффикс -та с весьма продуктивными
суффиксами -нкã в нанайском языке и -нча в ульчском: -нкã ~ -нча ~ -нта > -тта >
-та. Суффиксы -нкã и -нча в языках нанай и ульчей образуют от соответствующих имен
существительных имена, обозначающие название жителя данной местности. Если при-
давать такое же значение суффиксу -та в слове ул’та ~ уjл’та, следует ожидать, что
основа ул’ ~ уил’ ~ уjл’ будет связана с названием какой-либо местности, возможно, реки,
по типу: Валетта - название орокского рода, Валу ~ Вал - название реки (Петрова 1967: 6).
В другой работе Т.И. Петровой читаем: “А.Н. Липский считает, что корень
слова ульча происходит от слова уль ‛река’, и переводит все слово как поречане,
живущие на реке”. И дальше Т.И. Петрова пишет: «…слова уль в ульчском языке
для обозначения реки не встречалось. Есть: uni ‛река’, ulan ‛полынья’» (Петрова
1936: 6).
При реконструкции самоназвания уильта я исходил из того, что в кластере
лч звук ч мог перейти в т, но не наоборот: т не мог перейти в ч. На наличие
н в исходе реконструируемого этнонима указывает один из вариантов его фор-
мы винительного падежа: наряду с уилта допустима форма уилтамба (Ikegami
1997: 217), которая восходит к *уилтан-ба.
По-видимому, самоназвание уильта (уилта ~ улта), ульч. улча - “орок, ороки”
(Суник 1985: 247), нег. олчан (“низовской” говор) - “удэ, удэгеец” (Цинциус
1982: 258) восходят к архетипу *улинчан, относящемуся к ульчско-уильтинско-
му праязыку. Звуковые изменения, которые произошли уже в уильтинском язы-
ке, можно реконструировать так: *улинчан > *улинтан > *улиттан. Именно эта
последняя форма (*улиттан) непосредственно предшествовала двум засвиде-
тельствованным вариантам: улта и уилта(н).
Указанием на то, что в инлауте одного из реконструируемых вариантов был
звук и (*улиттан), является отмечаемая Х. Магатой и Т.И. Петровой палатали-
зация звука л: {úl’ta} (Magata 1981: 222), ул’та ~ уjл’та (Петрова 1967: 6)27.
Подтверждением того, что в этнониме {úl’ta}, ул’та ~ уjл’та палатализация
не является позиционной, может служить фонетически максимально близкое
к самоназванию уильта слово {pul tā} -“одеяло”, в нем в позиции перед {t} от-
мечено оглушение интересующего нас согласного {l}, но не его палатализация
(Magata 1981: 174).
Появление в этнониме у↑илта(н) звука и перед л является своего рода
компенсацией утраченного и после этого л - *ули↓тта(н). Возможность та-
кого “перемещения” звука и из позиции непосредственно после согласного в
позицию непосредственно перед ним подтверждается наличием типологически
сходного явления, например, в ливском языке: {keiž} - “рука” < {*käsi}28.
Певнов А.М. Этимология некоторых названий народов бассейна Амура и Сахалина
35
Форма *улинчан, предшествовавшая реконструируемой уильтинской форме
*улиттан (< *улинтан), относилась, вероятно, к ульчско-уильтинскому прая-
зыку, при этом она была заимствована либо из предка орочского языка, либо из
орочско-удэгейского праязыка, в котором выступала в несколько ином виде -
*улинкан (переход нк > нч закономерен для ульчско-уильтинского праязыка).
В орочско-удэгейском праязыке (или же в праорочском) слово *улинкан име-
ло значение “речной житель, поречанин”. В орочском и удэгейском языках ули
означает “река”29 (в удэгейском еще и “вода”); вспомним, что «А.Н. Липский
считает, что корень слова ульча происходит от слова уль ‛река’» (Петрова 1936: 6).
Суффикс -ӈка(н) (< *-нкан) в орочском и удэгейском языках соответствует, на-
пример, нанайскому -нкã, оформляющему слова, которые обозначают жителя
(жителей) местности, указанной основой.
Таким образом, Т.И. Петрова верно поняла, какой суффикс участвовал в обра-
зовании этнонима, а А.Н. Липский правильно определил значение его основы
(правда, непонятно, к какому языку он относил слово {уль} - “река”).
По мнению некоторых ульчей, “одно из родовых названий нан’и- ныне фа-
милия Ольчи - род орокского или орочского происхождения. <…> По сведени-
ям писателя А.Л. Вальдю, нан’и называют ульчами ороков и орочей, но не себя”
(Суник 1985: 8-9) (подчеркнуто мной. - А.П.). Здесь же О.П. Суник пишет, что
орочей по-ульчски называют “ульча” (Там же: 9). В принципе, не противоречит
этому и нег. олчан (“низовской” говор) - “удэ, удэгеец” (Цинциус 1982: 258),
поскольку по географическим причинам негидальцы могли в большей степени
иметь какое-то представление об орочах, чем об удэгейцах.
Аргументом в пользу того, что самоназвание уильта восходит к архетипу
*улинкан, можно считать наличие точного поморфемного соответствия в нанай-
ском родовом названии он’иӈкã. В.А. Аврорин отмечает, что этот нанайский род
“ведет свое происхождение от удэ, живущих по р. Онюй”, при этом название
рода происходит от слова они - “река, первый приток большой реки, р. Онюй”
(Аврорин 1959: 115). Слово оформлено суффиксом “-нкан ~ -нкэн” (-ӈка˜ ~ -ӈк˜),
который “от существительных топонимического значения образует существи-
тельные, обозначающие людей (одного или всю совокупность), проживающих
на соответствующей территории, в соответствующем населенном пункте”
(Аврорин 1959: 114).
Уильтинское самоназвание улта ~ уилта и нанайское родовое название
он’иӈкã исторически являются взаимными поморфемными соответствиями по-
тому, что у них общий словообразовательный суффикс *-нкан и общая произ-
водящая основа *ули-. Дело в том, что нанайскому слову он’и - “горная река”
(Оненко 1980: 312), ульчскому уни - “горная речка” (Суник 1985: 247) и уиль-
тинскому уни - “река” (Ikegami 1997: 220) соответствует орочское ули - “река”
(Аврорин, Лебедева 1978: 238) и удэгейское ули - “1) вода; 2) река (основная по
отношению к притокам - Самарга, Нельма, Нактаха)” (Кормушин 1998: 301).
Это лексическое соответствие отсутствует в “Сравнительном словаре тунгу-
со-маньчжурских языков” (Цинциус 1977). Правомерность сравнения можно
проиллюстрировать примерами аналогичного исторического нерегулярного
перехода интервокального л в н, ср. уд. илаке ~ илакæ - “лыко, кора (ивняка,
тальника, липы)” и ульч. инахса, уил. синаска, нан. инакса - “лыко, кора (ивняка,
тальника)” (Цинциус 1975: 305).
Таким образом, если принимать во внимание звуковой переход л > н в
интервокальной позиции в слове, означающем “река”, то интересующим нас
этнонимом ульчского (а не орочского) происхождения был бы не улча (< *улинча),
а унинча или унча. Впрочем, слово унин’ча(н) в ульчском языке есть, означает
оно “житель(и) горной реки уни” (Суник 1985: 34).
36
Этнографическое обозрение № 2, 2022
Для тунгусо-маньчжурской этнонимии бассейна Амура и Сахалина харак-
терно образование этнонимов от слов, обозначающих реку, ее низовье или
верховье: маӈгун’ӣ (человек/люди большой реки, т.е. Амура), хэӈгунчэ(н) (амгунец/
амгуньцы - негидальцы, возможно, также эвенки), *улинкан (житель реки),
*бираγар (жители реки), доӈкан (житель реки), *солоγон (житель верховьев реки;
это слово стало экзоэтнонимом солонов), *хэǯӣγэн (житель низовьев реки),
*мӯ наи (человек/люди воды, реки). “Речная этнонимия” ярко проявлялась у
кур-урмийских нанайцев (кили): «Кур-урмийские нанайцы в беседах с русски-
ми называют себя просто нанайцами. Самоназванием они считают термин бiра
гуруни, бiра бэjэни, или реже - бiранi (< *бiра наj), бiраӈкан “речные люди”,
“люди реки”, “жители реки”» (Суник 1958: 13).
История этнонима улта ~ уилта (улча, олчан) дает основание высказать
предположение о том, что какая-то орочско-удэгейская (или орочская) группа
некогда вошла в состав общих предков ульчей и уильта. У этой группы произо-
шла смена языка, однако самоназвание осталось, хотя и подверглось фонетиче-
ским изменениям, характерным для ульчского и уильтинского языков (*-нк- >
*-нч- > *-нт- > *-тт-). Судя по этим звуковым изменениям в самоназвании
уильта, было это относительно давно, вероятно, еще до переселения предков
уильта на Сахалин. Таким образом, уильта называли и называют себя, по-види-
мому, орочским (или орочско-удэгейским) по происхождению этнонимом улта ~
уилта. Кстати, как в лексике, так и в морфологии уильтинского языка сохра-
нились в небольшом количестве следы исторических контактов с орочским
языком (Певнов 2018); эти следы свидетельствуют о том, что контакты были
на Сахалине, однако, судя по заимствованию орочского (орочско-удэгейского)
этнонима *улинкан, они происходили еще и на континенте, до переселения
предков уильта на Сахалин.
Эвэнкӣ
1. Эвенк. эвэнкӣ - “эвенк, эвенки30” (Василевич 1958: 545), {Äwänki} - “тунгус”
(Castrén 1856: 73), {ɛwɛнкī} (Поппе 1927: 44); сол. эвэӈки - самоназвание солонов
(До Дорджи 1998: 189), {eweŋkii} - самоназвание солонов (Tsumagari 2009: 1).
2. Эвэнкӣ для эвенков и эвэӈки (эвэӈкӣ) для солонов - это актуальные авто-
этнонимы.
3. К.А. Новикова считала, что самоназвание эвенов {эвън ~ ъвън ~ эбън ~
ъбън ~ ӭбӭн} первоначально означало “местный”, “здешний” (Новикова 1960:
10, 11). Соглашаясь с автором, хотел бы предложить некоторые уточнения,
основанные на историко-морфологическом анализе этнонима эвэнкӣ, несо-
мненно связанного по происхождению с самоназванием эвенов.
Сегмент -кӣ определенно был аффиксом: он отсутствует в самоназвании
эвенов {эвън}, а также в самоназвании эвэн сымских эвенков31 (Василевич 1958:
545). Кроме этнонима эвэнкӣ, суффикс -кӣ, по-видимому, представлен в эвенкий-
ском слове аӈнакӣ - “чужеродец; человек, относящийся к другому роду”. Слово
аӈнакӣ имеет соответствия в других тунгусо-маньчжурских языках, что свиде-
тельствует об относительной древности словообразовательного суффикса -кӣ.
В этнониме эвэнкӣ представлен необычный для эвенкийского языка кла-
стер нк (естественно было бы ожидать ӈк - как в солонском этнониме эвэӈки).
По-видимому, этот кластер образовался в результате закономерного выпадения
узкого гласного в исходе морфемы - им мог быть, в частности, у, т.е. *эвэнукӣ >
эвэнкӣ. Сегмент *-ну- в этом этнониме первоначально был, вероятно, показате-
лем местного падежа, оформлявшего слова с пространственным значением32.
Есть два надежных свидетельства того, что в этнониме эвэнкӣ можно вычле-
Певнов А.М. Этимология некоторых названий народов бассейна Амура и Сахалина
37
нить основу эвэ-: 1) наличие в эвенкийском языке прилагательного эвэдӣ -
“эвенкийский”; 2) наличие эвенкийского слова эвэмӈӯ - “эвенкийка”. В обоих
случаях выделяется основа эвэ-, к которой были присоединены словообразова-
тельные суффиксы -дӣ и -мӈӯ.
Основа эвэ- состоит из двух компонентов: первый (э-) - это корень слов
со значением “этот”, “здесь”, значение второго (-вэ-) установить пока не уда-
лось. Основа *эвэ- могла оформляться показателями локативных падежей33,
к ней был присоединен, в частности, показатель адвербиального локатива
*-ну; словоформа *эвэну означала “здесь”. Вероятно, первоначально эта сло-
воформа употреблялась в словосочетании *эвэн(у) бисӣ (бэjэ) - “здесь живущий
(человек)”, которое впоследствии подверглось эллипсису. Такого рода описа-
тельные этнонимы использовались, например, нанайцами: {сол’ил б’ӣ наи} -
“нанайцы, живущие вверх по течению реки” (Сем 1976: 184), {хэи бӣ най,
хэй бӣ нӣ} - “так называют нанайцы, живущие в районах массового расселе-
ния по среднему течению нижнего Амура, своих сородичей, живущих в низо-
вьях Амура” (Оненко 1980: 486). Подобный составной этноним мы записали
у негидальцев: солохи биси бээсэл - “ульчи” (букв. “вверх по реке живущие
люди”) (ПМА 1999).
Итак, предположительно составной этноним сначала подвергся эллипсису34 -
от словосочетания осталось только слово эвэн, впоследствии в языке предков
эвенков и солонов к этнониму эвэн был присоединен словообразовательный суф-
фикс -кӣ.
Примечания
1 Эндоэтнонимом принято считать самоназвание, однако буквальный смысл
этого слова (“внутреннее” название народа) допускает расширительное толко-
вание: не только самоназвание данного народа, но также используемые им на-
звания других народов.
2 В англоязычной литературе используется термин “xenonym” как синоним
“exonym” - оба относятся не только к этнонимам, но и к топонимам.
3 Вместо теперь уже устарелого этнонима “ороки” в данной статье исполь-
зуется этническое название “уильта”.
4
“Духа - близкие отношения между родами, при которых взаимные бра-
ки запрещены; родственный род, находящийся под покровительством другого
рода; союз родов (акуӈка духан’и ‘род, покровительствуемый родом Акунка’)”
(Аврорин, Лебедева 1978: 179).
5 Елкан бэjэнин (один из автоэтнонимов негидальцев), лӯча (“русский” -
эвенкийский ксеноэтноним), монаи (автоэтноним бикинских [уссурийских]
нанайцев), на бээн (один из автоэтнонимов негидальцев), нанаи (один из авто-
этнонимов нанайцев), орокко (так сахалинские айны называли уильта), орочен
(автоэтноним ороченов Китая, а также некоторых групп эвенков Забайкалья и
Приамурья), орочи (искусственный автоэтноним орочей), самаγи (“нанаец” -
ксеноэтноним западной группы негидальцев), хэǯэн (один из автоэтнонимов
негидальцев, гипоэтноним).
6 Н’еγида (один из автоэтнонимов негидальцев), н’ивх (автоэтноним нивхов),
пэрхинчэ(н) (“негидалец” - ульчский ксеноэтноним), хамниγан (один из автоэт-
нонимов эвенков), хэӈгунчэ(н) (“негидалец” - ульчский ксеноэтноним), эмӈун
бэjэлтин (один из автоэтнонимов негидальцев).
7 Акан’и (“так называют нанайцы, живущие в районах массового расселе-
ния по среднему течению нижнего Амура, своих сородичей, живущих по верх-
ним притокам Амура: Уссури, Сунгари, Кур, Урми” [Оненко 1980: 31]), амал
38
Этнографическое обозрение № 2, 2022
(“русский” - нивхский ксеноэтноним, наряду с {лоти, лочʻа}), гилэми (“нивх,
нивхи” - ксеноэтноним орочей, нанайцев и ульчей), даγӯр (автоэтноним дагуров),
jанд (“нанаец” - нивхский ксеноэтноним), киака (“удэгеец, удэгейцы” - орочский
ксеноэтноним), манǯу (автоэтноним маньчжуров), н’икан
(“китаец” -
маньчжурский ксеноэтноним), ӈандугу (удэгейский гиперксеноэтноним), ӈатку
(“нанаец” - негидальский ксеноэтноним), рэгу (“негидалец” - нивхский ксено-
этноним), хоӈкур (“эвенк” - дагурский ксеноэтноним).
8 По всей видимости, венгерский этнограф Б. Баратоши-Балог в начале
XX в. делал словарные записи у негидальцев, говоривших на уже, вероятно, ис-
чезнувшем идиоме, который можно назвать усть-амгуньским (или хэденским -
от негидальского гипоэтнонима хэǯэн).
9 Слово, которое переводится только как “народ”, есть не во всех тунгусо-
маньчжурских языках: напр., в эвенском есть (ӈөнмин), а в эвенкийском - нет:
эвенк. тэγǝ имеет значения “1) народ; 2) род; 3) люди другого рода, чужеземцы”;
в нанайском и ульчском есть (голо), а в орочском и негидальском - нет: ороч.
хала имеет значения «1) род; 2) родовое имя, фамилия; 3) народ - луча халан’и
“русский народ”; 4) порода, разновидность, вид - сугǯаса халан’и “разновид-
ность рыб”» (Аврорин, Лебедева 1978: 243). Судя по нашим экспедиционным
материалам, в восточном диалекте негидальского языка семантика слова хала
совпадает с орочской.
10 Ср. употребление уильтинского суффикса -ǯи (< *-ди), оформляющего не-
которые этнонимы: уилтаǯи - “уильтинский” (уилтаǯи утта - “уильтинская
обувь”) (Majewicz 2001: 300), гилэǯи - “нивхский” (гилэǯи угда - “нивхская лодка”),
кӯjиǯи (кӯjиǯи угда - “айнская лодка”) (Ikegami 1997: 216).
11 Ср. синкопирование гласного в аналогичной фонетической позиции: т.-м.
*горо-ми(н) - “длинный” (от *горо - “далекий, далеко; давний, давно”) >
*горми(н) > маньчж. голмин, эвенк. ӈоним, нан. ӈон’ими ~ ван’ими ~ он’ими ~
орми - “длинный”.
12 Удлинение согласного перед долгим гласным является актуальным зако-
ном уильтинского языка.
13 В последнее время тунгусо-маньчжурские языки стали именовать тунгус-
скими, что мне кажется неправильным: это то же самое, что называть индоев-
ропейские языки европейскими или финно-угорские финскими. К тунгусской
ветви тунгусо-маньчжурской языковой семьи относятся следующие языки и
идиомы: эвенкийский, хамниганский, орочéнский, солонский, негидальский,
эвенский и áрманский (П. Шмидт к тунгусским языкам относил “собственно
тунгусский, т.е. эвенкийский, ламутский (эвенский), самагирский, орочонский,
а также язык манегров” [Schmidt 1923a: 1]).
14 Здесь и далее аффиксы приводятся в одном сингармоническом варианте -
с “а-гармонией”.
15 Ссылки на источники в цитате опущены.
16 Наличие деривационного суффикса *-γэн указывает на то, что по происхо-
ждению этноним (а также родовое название) *хэǯӣ-γэн является эвенкийским.
Однако звук х в анлауте свидетельствует о том, что основа *хэǯӣ- должна была
принадлежать амуро-сахалинскому финальному праязыку, поскольку в нем,
как и в трех его потомках (в нанайском, ульчском и уильтинском), сохранился
анлаутный х, отсутствующий во всех остальных тунгусо-маньчжурских языках.
Впрочем, похоже на то, что в ряде эвенкийских диалектов в анлауте некото-
рых слов представлен в виде h рефлекс пратунгусоманьчжурского *kh- (> нан.,
ульч., уил. х-), ср. эвенк. hэрэкӣ (сымский, зейский, алданский, учурский, ур-
мийский и сахалинские диалекты) - “лягушка (коричневая)”. Можно, конечно,
считать этот h протетическим, однако примеров с бесспорной протезой (типа
Певнов А.М. Этимология некоторых названий народов бассейна Амура и Сахалина
39
эвенкийских диалектных hабун - “шапка” и hуллӣча - “татуированное лицо [букв.
шитое]”) меньше, чем примеров, в которых допустимо предполагать сохране-
ние согласного, давно отпавшего в большей части эвенкийских диалектов и в
некоторых родственных языках (ср., напр., эвенк. диал. hамаски - “обратно” и
нан. хамаси - “обратно”, эвенк. диал. hак- - “причалить” и ульч. ха(г)- - “прича-
лить”, эвенк. диал. hэрку- - “заехать к кому-либо по пути” и нан. хэjку- - “зайти,
заехать [мимоходом]”).
17 Вибрант был устранен в соответствующих словах ульчского языка (эj -
“этот”, ти - “тот”, н’и - “человек”), однако этого не произошло в уильтинском -
генетически наиболее близком к ульчскому и нанайскому (ср. уил. эри - “этот”,
тари - “тот”, нари - “человек”).
18 Возможно, к этому айнскому слову имеет отношение упоминаемое
Л. Шренком {оронгта} - так нивхи западного берега Сахалина называли уильта
(ороков) (Шренк 1883: 136).
19 В “Нивхско-русском словаре” В.Н. Савельевой и Ч.М. Таксами (Савельева,
Таксами 1970: 415) нивх. (амур.) {Хыӈгр} переведено как “Хынгр, Амгунь
(река)”, что не совсем точно: в наших экспедиционных записях р. Амгунь - это
хэӈк (ПМА 1994), так что хэӈгр (< хэӈг эр) - это “устье Амгуни”.
20 В речи нивхов, говорящих на амурском диалекте, происходит выпадение
заднеязычного проточного звонкого согласного после гласного перед плавным
(напр.: тhуγр - “огонь” > тhуур, паγла - “красный” > паала), но это не относится
к фонологии.
21 За графемой {ы} скрывается гласный среднего ряда среднего подъема (шва).
22 Имеются в виду собственно тунгусские языки: эвенкийский, хамниган-
ский, орочéнский, солонский, негидальский, эвенский и áрманский.
23 В нанайском языке есть основа орондола- - “1) вместо кого-либо или
чего-либо; 2) вместо того, чтобы” (Оненко 1980: 315) с тем же корнем, заим-
ствованным из маньчжурского.
24 Согласно Л. Шренку, нивхи долины р. Тымь ороков (уильта) называли
{ороко} (Шренк 1883: 136). В нивхском языке нет долгих согласных, поэтому
нивхское {ороко} вполне соответствует айнскому {orókko} (Magata 1981: 159).
Не думаю, что айны заимствовали этот этноним у нивхов или, наоборот, нивхи
у айнов. Скорее всего, и нивхи долины р. Тымь, и сахалинские айны заимство-
вали этнонимы {ороко} и {orókko} у какой-то группы уильта.
25 В уильтинском языке есть “своё” (т.е. не соответствующее ни эвенкийскому
орон, ни эвенскому орън) название домашнего оленя - ула. По всей вероятности,
уильтинское (и орочское) слово ула связано по происхождению с маньчжурским
улха - “скот, домашние животные” (Цинциус 1977: 263) (уил., ороч. ула < *улаγар;
маньчж. улха < *улаγа; ср. маньчж. илха - “цветок” и нег. елаγа - “цветок”).
26 В маньчжурском языке есть аффикс -та (один из трех сингармонических
вариантов), оформляющий “почти исключительно термины родства” (Аврорин
2000: 90). В промежуточном тунгусо-маньчжурском праязыке (после отделения
от базисного праязыка предка чжурчжэньского, маньчжурского и сибинского)
был составной аффикс собирательности со вторым компонентом -та (*=ӈи-та >
*-ӈта > -кта). Если даже допустить, что соответствующий аффикс -та само-
стоятельно употреблялся в уильтинском языке, то по семантическим причинам
он не мог быть присоединенным к ойкониму.
27 В словаре Дз. Икэгами (Ikegami 1997) транскрипция фонологическая,
поэтому палатализация не фиксируется.
28 Благодарю М.З. Муслимова за примеры таких звуковых изменений, в том
числе за приведенный ливский.
29 Так река называется только в орочском и удэгейском языках.
40
Этнографическое обозрение № 2, 2022
30 Непонятно, является ли здесь “эвенки” формой множественного числа;
вполне может быть, что в данном случае слово не имеет форм числа и падежа,
ср. коми, манси, нанай.
31 На сымском диалекте, который сохранил некоторые архаичные особен-
ности, говорит (говорила?) самая западная группа эвенков в Томской области.
32 Приведу примеры адвербиального локатива с реликтовым показателем
-ну (-н) в тунгусо-маньчжурских языках: уд. {bagænu} - “на противополож-
ной стороне”, {ӡuliǝnu} - “впереди” (Шнейдер 1936: 30, 116); уил. {баӡӡену} -
“на том берегу”, {дуллéну} - “впереди” (Петрова 1967: 82); эвен. баргин
(< *барги-ну) - “на той стороне”, ǯулин (< *ǯули-ну) - “впереди” (Новикова
1980: 123); эвенк. тулин (< *тули-ну) - “внешнее пространство, двор, улица”
(Василевич 1958: 399).
33 Основа эвэ- представлена, например, в эвенкийском слове эвэ-скӣ - “сюда”.
34 Приведу пример эллипсиса в эвенкийском языке: тулин! - “вон! (так кри-
чат собаке)” (Василевич 1958: 399). Вероятно, это междометие появилось в
результате эллипсиса словосочетания *Тулин бикэл! - “Снаружи будь!”.
Сокращения
маньчж. - маньчжурский язык;
монг. письм. - монгольский письменный язык;
нан. - нанайский язык;
нан. (кур-урм.) - кур-урмийский диалект нанайского языка (смешанный
язык кили);
нег. - негидальский язык;
нивх. - нивхский язык;
нивх. (амур.) - амурский диалект нивхского языка;
нивх. (сах.) - восточносахалинский диалект нивхского языка;
ороч. - орочский язык;
т.-м. - тунгусо-маньчжурский праязык;
уд. - удэгейский язык;
уил. - уильтинский (орокский) язык, язык уильта;
ульч. - ульчский язык;
чж. - чжурчжэньский язык;
эвенк. - эвенкийский язык.
Источники и материалы
Василевич
1958
- Василевич Г.М. (сост.) Эвенкийско-русский словарь.
М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1958.
До Дорджи 1998 - До Дорджи (сост.) Солонско-китайский словарь. Хайлар:
Культура Внутренней Монголии, 1998.
Захаров 1875 - Захаров И. (сост.) Полный маньчжурско-русский словарь.
СПб, 1875.
Оненко 1980 - Оненко С.Н. Нанайско-русский словарь. М.: Русский язык, 1980.
ПМА 1994 - Полевые материалы автора. Экспедиция в Ульчский район
Хабаровского края, 1994 г. Информант М.Н. Пухта, родилась в с. Коль-
Никольск Хабаровского края.
ПМА 1999 - Полевые материалы автора. Экспедиция в пос. Маго Николаевско-
го р-на Хабаровского края, 1999 г. Информант Д.Л. Кини.
Савельева, Таксами 1970 - Савельева В.Н., Таксами Ч.М. (сост.) Нивхско-
русский словарь. М.: Советская энциклопедия, 1970.
Цинциус 1975 - Цинциус В.И. (ред.) Сравнительный словарь тунгусо-маньчжур-
Певнов А.М. Этимология некоторых названий народов бассейна Амура и Сахалина
41
ских языков. Материалы к этимологическому словарю. Т. I. Л.: Наука, 1975.
Цинциус 1977 - Цинциус В.И. (ред.) Сравнительный словарь тунгусо-маньчжур-
ских языков. Материалы к этимологическому словарю. Т. II. Л.: Наука, 1977.
Шнейдер 1936 - Шнейдер Е.Р. Краткий удэйско-русский словарь. М.; Л.: Гос.
учебно-педагогическое изд-во, 1936.
Ikegami 1997 - Ikegami J. A Dictionary of the Uilta Language Spoken on Sakhalin.
Sapporo: Hokkaido University Press, 1997.
Kyalundzyuga, Simonov
1998
- Kyalundzyuga V.T., Simonov M.D. (comp.)
A Kyalundzyuga-Simonov Dictionary of the Udeghe (Udihe) Language. Udeghe -
Russian - Udeghe (Preprint). Vol. 2. Stęszew: IIEOS, 1998.
Lessing
1960
- Lessing F.D. (ed.) Mongolian-English Dictionary. Berkeley:
University of California Press; Cambridge University Press, 1960.
Magata 1981 - Magata H. A Dictionary of the Uilta Language. Abashiri: The Society
for the Preservation of Northern Region Culture and Folklore, 1981.
Shirokogoroff 1944 - Shirokogoroff S.M. A Tungus Dictionary: Tungus-Russian and
Russian-Tungus. Photogravured from the Manuscripts. Tokyo: Minzokugaku
kyōkai, 1944.
Научная литература
Аврорин В.А. Грамматика нанайского языка. Т. 1. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959.
Аврорин В.А. Грамматика маньчжурского письменного языка. СПб.: Наука, 2000.
Аврорин В.А., Лебедева Е.П. Орочские тексты и словарь. Л.: Наука, 1978.
Василевич Г.М. Эвенки. Историко-этнографические очерки (XVIII - начало XX в.).
Л.: Наука, 1969.
Кормушин И.В. Удыхейский (удэгейский) язык. М.: Наука, 1998.
Новикова К.А. Очерки диалектов эвенского языка. Ольский говор. Ч. 1. М.;
Л.: Изд-во АН СССР, 1960.
Новикова К.А. Очерки диалектов эвенского языка. Ольский говор. Глагол, слу-
жебные слова, тексты, глоссарий. Л.: Наука, 1980.
Певнов А.М. Рефлексы вибранта в негидальском на фоне родственных ему
языков // Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1994. No. 85. P. 125-147.
Певнов А.М. Чтение чжурчжэньских письмен. СПб.: Наука, 2004.
Певнов А.М. Лингвистические пути решения тунгусо-маньчжурской проблемы
// Вопросы языкознания. 2008. № 5. С. 63-83.
Певнов А.М. Лингвистические свидетельства исторических контактов ороков
и орочей на Сахалине // Труды Института лингвистических исследований.
2018. Т. XIV. Ч. 1. С. 441-464.
Петрова Т.И. Ульчский диалект нанайского языка. М.; Л.: Гос. учебно-
педагогическое изд-во, 1936.
Петрова Т.И. Язык ороков (ульта). Л.: Наука, 1967.
Поппе Н.Н. Материалы для исследования тунгусского языка. Наречие баргузин-
ских тунгусов. Л.: Изд-во АН СССР, 1927.
Сем Л.И. Очерки диалектов нанайского языка. Бикинский (уссурийский) диа-
лект. Л.: Наука, 1976.
Старцев А.Ф. Ороки - орочёны, а не уйльта! К проблеме этногенеза ороков
Сахалина. Владивосток: Дальнаука, 2015.
Суник О.П. Кур-урмийский диалект. Исследования и материалы по нанайскому
языку. Л.: Гос. учебно-педагогическое изд-во Министерства просвещения
РСФСР, 1958.
Суник О.П. Ульчский язык. Исследования и материалы. Л.: Наука, 1985.
Таксами Ч.М. Основные проблемы этнографии и истории нивхов. Середина
XIX - начало XX в. Л.: Наука, 1975.
42
Этнографическое обозрение № 2, 2022
Цинциус В.И. Негидальский язык. Исследования и материалы. Л.: Наука, 1982.
Шнейдер Е.Р. Материалы по языку анюйских удэ. М.; Л.: Гос. учебно-
педагогическое изд-во, 1937.
Шренк Л. Об инородцах Амурского края. Т. I. СПб.: Издание Императорской
академии наук, 1883.
Штернберг Л.Я. Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны. Хабаровск:
Дальгиз, 1933.
Castrén M.A. Grundzüge einer tungusischen Sprachlehre nebst kurzem
Wörterverzeichniss
/ Herausgegeben von A. Schiefner. St. Petersburg:
Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1856.
Grube W. Die Sprache und Schrift der Jučen. Leipzig: Otto Harrassowitz, 1896.
Janhunen J. On the Ethnonyms Orok and Uryangkhai // Studia Etymologica
Cracoviensia. 2014. Т. 19. P. 71-81.
Majewicz A.F. (ed.) Materials for the Study of the Orok (Uilta) Language and Folklore:
The Orok (Uilta) Dictionary: The Collected Works of Bronislaw Pilsudski. Vol. 4
/ Prepared by L.V. Ozoliņa. Stęszew: IIEOS, 2001.
Schmidt P. The Language of the Negidals // Acta Universitatis Latviensis (Rīgā).
1923a. Vol. V. P. 3-38.
Schmidt P. The Language of the Olchas // Acta Universitatis Latviensis (Rīgā). 1923b.
Vol. VIII. P. 229-288.
Schmidt P. The Language of the Oroches // Acta Universitatis Latviensis (Rīgā).
1928. Vol. XVII. P. 17-62.
Tsumagari T. A Sketch of Solon Grammar // Journal of the Center for Northern
Humanities. 2009. No. 2. P. 1-21.
Zhang Paiyu. The Kilen Language of Manchuria: Grammar of a Moribund Tungusic
Language. PhD diss. abstract, University of Hong Kong, 2013.
R e s e a r c h A r t i c l e
Pevnov, A.M. Etymology of Several Ethnonyms in the Amur River
Basin and Sakhalin
[Etimologiia nekotorykh nazvanii narodov basseina
Amura i Sakhalina]. Etnograficheskoe obozrenie, 2022, no. 2, pp. 23-44.
© Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and Anthropology RAS
Institute for Linguistic Studies, RAS (9 Tuchkov pereulok, St. Petersburg, 199053, Russia)
Keywords
ethnonym, etymology, ethnic history, Amur River, Sakhalin
Abstract
The Amur River basin and Sakhalin are rich in historical and actual ethnonyms. The
article deals with etymology of seven “linguistic ethnonyms” which were recorded
in the 20th century by linguists or social anthropologists with linguistic experience.
Etymological analysis of ethnonyms allows us to represent the ethnic map of the
region diachronically. The main conclusions are as follows: Nivkhs and Manchu-
Tungusic tribes were probably separated by an unknown Palaeoasiatic group; the
Evenki influence on the ethnonymy of the region was substantial; the ethnonyms
with the stem oro- ‛place’ (oroŋr, orokko, oročēn, oroči) were coined in Manchuria;
in course of time, they spread eastwards and reached finally Sakhalin.
Певнов А.М. Этимология некоторых названий народов бассейна Амура и Сахалина
43
References
Avrorin, V.A, and Y.P. Lebedeva. 1978. Orochskie teksty i slovar’ [Oroch Texts and
Dictionary]. Leningrad: Nauka.
Avrorin, V.A. 1959. Grammatika nanaiskogo yazyka [Grammar of the Nanai
Language]. Vol. 1. Moscow: Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR.
Avrorin, V.A. 2000. Grammatika man’chzhurskogo pis’mennogo yazyka [Grammar
of Written Manchu]. St. Petersburg: Nauka.
Castrén, M.A. 1856. Grundzüge einer tungusischen Sprachlehre nebst kurzem
Wörterverzeichniss [Outlines of the Tungus Grammar with a Concise Dictionary],
edited by A. Schiefner. St. Petersburg: Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften.
Grube, W. 1896. Die Sprache und Schrift der Jučen [The Jurchen Language and
Script]. Leipzig: Otto Harrassowitz.
Janhunen, J. 2014. On the Ethnonyms Orok and Uryangkhai. Studia Etymologica
Cracoviensia 19: 71-81.
Kormushin, I.V. 1998. Udyheiskii (udegeiskii) yazyk [The Udyhe (Udege) Language].
Moscow: Nauka.
Majewicz, A.F., ed. 2001. Materials for the Study of the Orok (Uilta) Language
and Folklore: The Orok (Uilta) Dictionary: The Collected Works of Bronislaw
Pilsudski. Vol. 4, prepared by L.V. Ozoliņa. Stęszew: IIEOS.
Novikova, K.A. 1960. Ocherki dialektov evenskogo yazyka. Olskii govor [Study
of Dialects of the Even Language: Ola Dialect]. Pt. 1. Moscow; Leningrad:
Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR.
Novikova, K.A. 1980. Ocherki dialektov evenskogo yazyka. Olskii govor: glagol,
sluzhebnye slova, teksty, glossarii [Study of Dialects of the Even Language: Ola
Dialect: Verb, Function Words, Texts, Glossary]. Leningrad: Nauka, 1980.
Petrova, T.I. 1936. Ul’chskii dialekt nanaiskogo yazyka [The Ulcha Dialect of Nanai].
Moscow; Leningrad: Gosudarstvennoe uchebno-pedagogicheskoe izdatel’stvo.
Petrova, T.I. 1967. Yazyk orokov (ul’ta) [The Language of the Oroks (Ulta)].
Leningrad: Nauka, 1967.
Pevnov, A.M. 1994. Refleksy vibranta v negidal’skom na fone rodstvennykh emu
yazykov [Reflexes of “r” in Negidal as Compared with Related Languages].
Journal de la Société Finno-Ougrienne 85: 125-147.
Pevnov, A.M. 2004. Chtenie chzhurchzhen’skikh pis’mion [Reading of the Jurchen
Script]. St. Petersburg: Nauka.
Pevnov, A.M.
2008. Lingvisticheskie puti resheniia tunguso-man’chzhurskoi
problemy [The Problem of the Localization of the Manchu-Tungusic Homeland
(Linguistic Aspect)]. Voprosy yazykoznaniia 5: 63-83.
Pevnov, A.M. 2018. Lingvisticheskie svidetel’stva istoricheskikh kontaktov orokov i
orochei na Sakhaline [Linguistic Evidence of the Orok-Oroch Historical Contacts
on Sakhalin]. Acta Linguistica Petropolitana XIV (1): 441-464.
Poppe, N.N. 1927. Materialy dlia issledovaniia tungusskogo yazyka [Materials for the
Study of the Tungus Language]. Leningrad: Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR.
Schmidt, P. 1923. The Language of the Negidals. Acta Universitatis Latviensis (Rīgā)
V: 3-38.
Schmidt, P. 1923. The Language of the Olchas. Acta Universitatis Latviensis (Rīgā)
VIII: 229-288.
Schmidt, P. 1928. The Language of the Oroches. Acta Universitatis Latviensis (Rīgā)
XVII: 17-62.
Sem, L.I. 1976. Ocherki dialektov nanaiskogo yazyka. Bikinskii (ussuriiskii) dialekt
[Study of Dialects of the Nanai Language: The Bikin (Ussuri) Dialect]. Leningrad:
Nauka.
44
Этнографическое обозрение № 2, 2022
Shneider, Y.R. 1937. Materialy po yazyku aniuiskikh ude [Materials on the Language
of Anyuy Ude]. Moscow; Leningrad: Gosudarstvennoe uchebno-pedagogicheskoe
izdatel’stvo.
Shrenk, L. 1883. Ob inorodtsakh Amurskogo kraia [On the Indigenous Peoples of
the Amur Region]. Vol. I. St. Petersburg: Izdanie Imperatorskoi akademii nauk.
Shternberg, L.Y. 1933. Giliaki, orochi, gol’dy, negidal’tsy, ainy [Gilyaks, Orochs,
Goldis, Negidals, Ainus]. Khabarovsk: Dal’giz.
Startsev, A.F. 2015. Oroki - orochiony, a ne uil’ta! K probleme etnogeneza orokov
Sakhalina [Oroks are Orochons, not Ujlta! On the Problem of Ethnogenesis
of Sakhalin Oroks]. Vladivostok: Dal’nauka.
Sunik, O.P. 1958. Kur-urmiiskii dialekt. Issledovaniia i materialy po nanaiskomu
yazyku [Kur-Urmi Dialect: The Nanai Language: Studies and Materials].
Leningrad: Gosudarstvennoe uchebno-pedagogicheskoe izdatel’stvo Ministerstva
prosveshcheniia RSFSR.
Sunik, O.P. 1985. Ul’chskii yazyk. Issledovaniia i materialy [The Ulcha Language,
Studies and Materials]. Leningrad: Nauka.
Taksami, C.M. 1975. Osnovnye problemy etnografii i istorii nivkhov. Seredina
XIX - nachalo XX veka [Principal Problems of Nivkhs’ Ethnography and History:
From the Middle of 19 Century until the Beginning of 20 Century]. Leningrad:
Nauka.
Tsintsius, V.I. 1982. Negidal’skii yazyk. Issledovaniia i materialy [The Negidal
Language: Studies and Materials]. Leningrad: Nauka.
Tsumagari, T. 2009. A Sketch of Solon Grammar. Journal of the Center for Northern
Humanities 2: 1-21.
Vasilevich, G.M. 1969. Evenki. Istoriko-etnograficheskie ocherki (XVIII - nachalo
XX veka) [Evenkis: History-Ethnographical Studies (18 - the Beginning of the
20 Century)]. Leningrad: Nauka.
Zhang Paiyu. 2013. The Kilen Language of Manchuria: Grammar of a Moribund
Tungusic Language. PhD diss. abstract, University of Hong Kong, 2013.