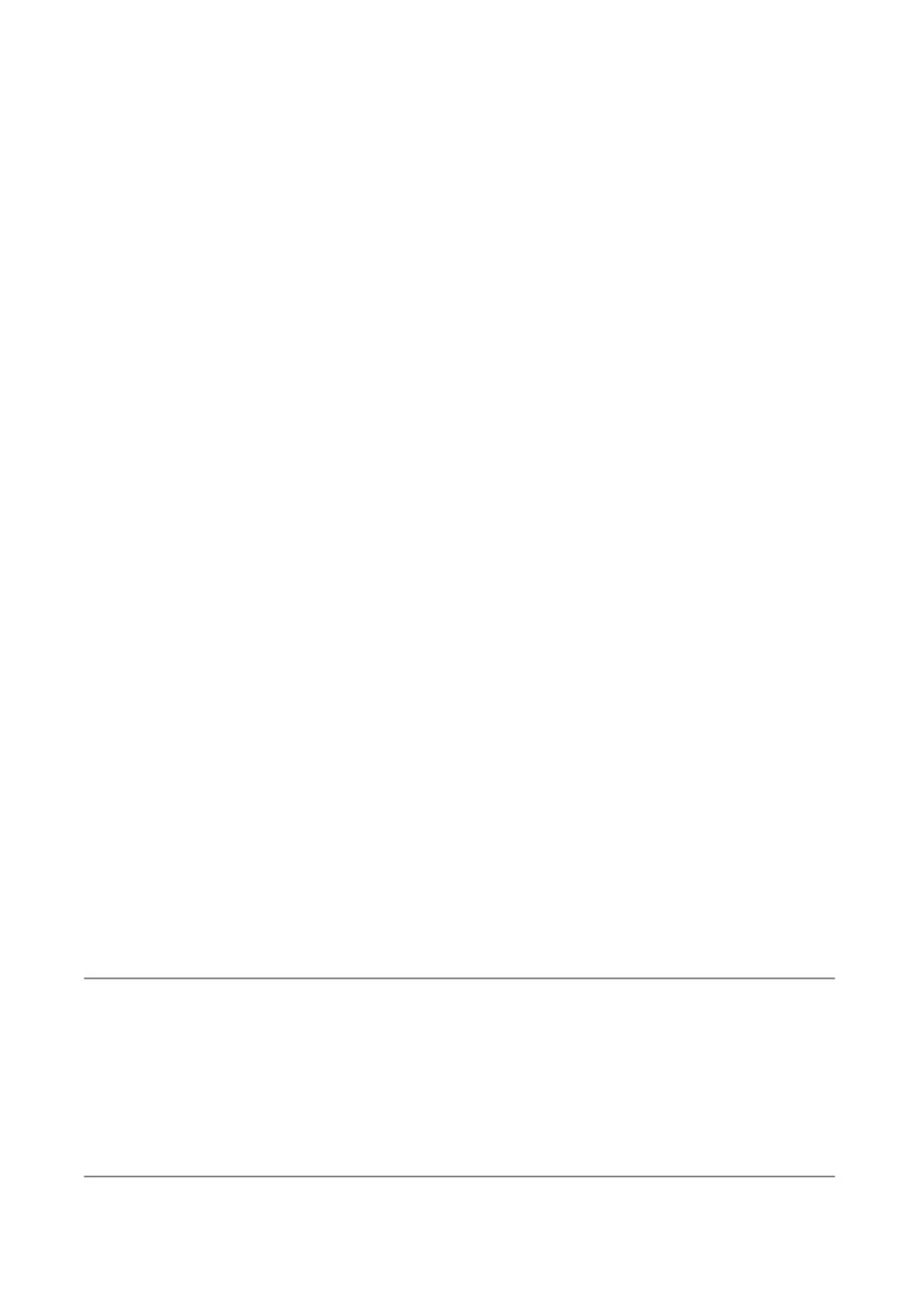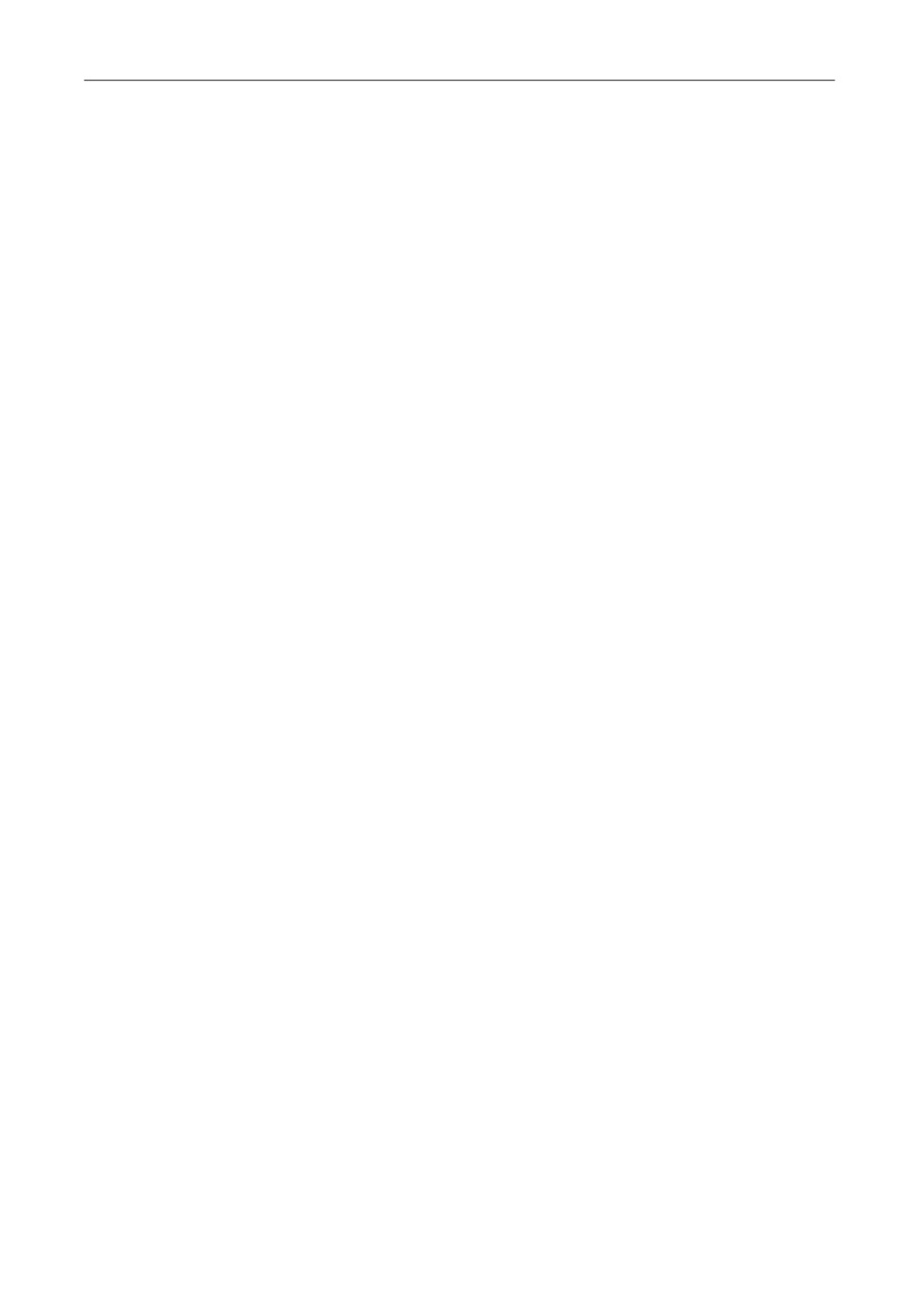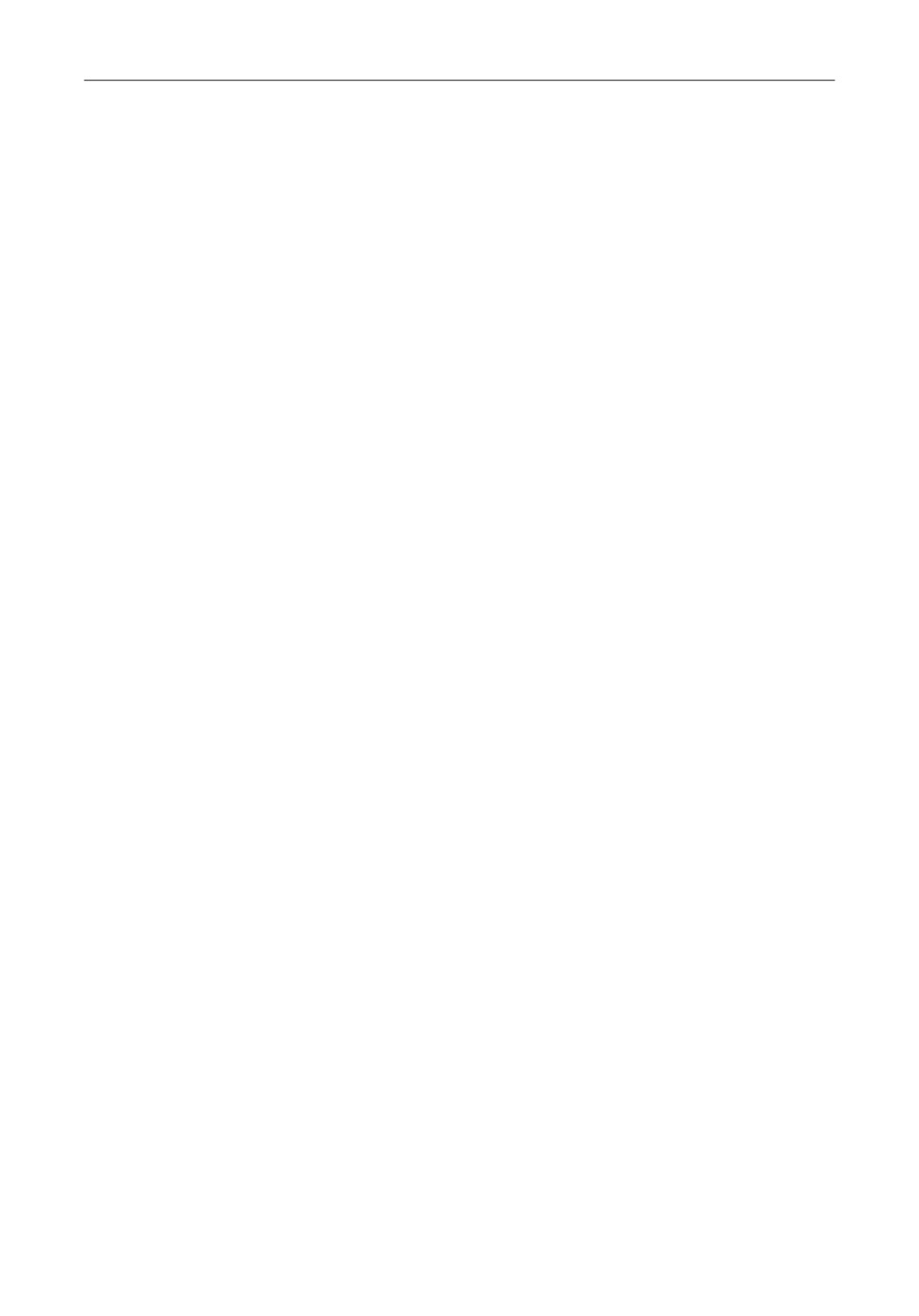НАЗВАНИЯ АЙНОВ У НАРОДОВ АМУРА И САХАЛИНА
Ю. Янхунен
Юха Янхунен
|
|
asiemajeure@yahoo.com
|
PhD, профессор эмеритус | Хельсинский университет (P.O. Box 59, Unioninkatu 38,
FI-00014, Helsinki, Finland)
Ключевые слова
айны, курилы, Сахалин, Курильские острова, этнонимы, этнические контакты
Аннотация
В статье анализируется взаимосвязь этнонимов, которые используются для наимено-
вания айнов народами Амура и Сахалина, а в прошлом также и Камчатки. Результаты
исследования показывают, что экзоэтнонимы, под которыми айны известны амурским
тунгусам (куjи ~ куи), происходят из более ранней формы *кури, существовавшей также
в языке охотских эвенов во время прихода первых русских землепроходцев. От этой же
формы были заимствованы названия для айнов в нивхском (к’уғи) и русском (курилы)
языках. Возможно, хотя и не доказано, что форма *кури происходит, в свою очередь, от
айнского слова кур - “человек”, к которому предположительно восходит также наиме-
нование †кузи, которым камчадалы звали айнов в XVII-XIX вв.
звестно, что, когда русские землепроходцы двигались в сторону Тихо-
го океана и постепенно знакомились с коренным населением Сибири и
И
Дальнего Востока, они давали каждой новой этнической группе то назва-
ние, которое использовали ее ближайшие западные или северо-западные соседи
(Janhunen 1985a). Например, когда в XVI в. русские встретили на нижнем Ени-
сее эвенков, они назвали их тунгусами. Это наименование было заимствовано у
ненцев, в языке которых эвенки - это туӊго” (tuŋko’), мн. ч. туӊгос” (tuŋkos°-’),
а в некоторых диалектах также мн. ч. туӊгус” (tuŋkus°-’), тыӊгус” (tiŋkus°-’)
(Lehtisalo 1956: 498). Само это слово имеет достаточно сложное происхождение
(Helimski, Janhunen 1990). Oно заимствовано из селькупского языка, где име-
ет форму тынӄуп (*tï:-n-qup) - “иноплеменный человек” = “татарин” (Alatalo
2004: 138). Элемент ты (tï:) - “иноплеменный”, в свою очередь, восходит к кет-
скому элементу дə- (də-) с аналогичным значением. В кетском языке последний
используется в составе слова дə-ғит (də-ɣit) - “иноплеменный человек”, мн. ч.
дə-дэӊ (də-dɛŋ) - “иноплеменные люди”, под ними кеты имеют в виду как раз
ненцев (Werner 2002: 217). Позднее термин тунгусы использовался русскими
по отношению ко всем эвенкийским и эвенским группам, которые в зависи-
мости от экологической адаптации исторически делились на оленных, конных,
собачьих и пеших тунгусов.
Статья поступила 18.02.2022 | Окончательный вариант принят к публикации 24.02.2022
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Янхунен Ю. Названия айнов у народов Амура и Сахалина // Этнографическое обозрение. 2022.
Janhunen, J.
2022. Nazvaniia ainov u narodov Amura i Sakhalina
[Appellations of the
Ainu among the Peoples of Amur and Sakhalin]. Etnograficheskoe obozrenie
2:
45-53.
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
46
Этнографическое обозрение № 2, 2022
Достигнув берегов Тихого океана, русские впервые услышали про айнов,
живших на самых далеких островах Охотского моря. Следует помнить, что в
это время ни Амур, ни Сахалин еще не входили в состав Российской империи.
На основании Нерчинского договора (1689), заключенного между российскими
и маньчжурскими властями, бассейн Амура со всеми притоками выше Аргуни,
а также о-в Сахалин оставались во владении Маньчжурской империи вплоть
до Айгунского договора (1858) и Пекинского трактата (1860). Поэтому русские
приближались к Амуру и Сахалину в основном с севера и с востока - с побе-
режья Охотского моря и с п-ва Камчатка. Основная группа айнов уже жила в
это время на о-ве Эдзо (Хоккайдо), однако айны занимали также почти всю
южную половину Сахалина, Курильские острова и самую южную часть Кам-
чатки. Можно предположить, что первые встречи русских с айнами произошли
как раз на Южной Камчатке и на Северных Курилах. С тех пор айны фигуриро-
вали в описаниях русских путешественников и исследователей под названием
курилы. Первым, кто упомянул курилов как отдельную этническую группу, был,
очевидно, якутский казак Владимир Васильевич Атласов (1661/1664-1711),
“Камчатский Ермак”, который в 1700 г. составил рапорт о своем походе на Кам-
чатку в 1698-1699 гг. (Stephan 1974: 8-9).
Означает ли это, что русские именовали айнов курилами на том основании,
что те жили на Курильских островах? По широко распространенной народной
этимологии название этих островов связано со словом курить(ся), которое
якобы характеризует их вулканическую активность. На самом деле русские
назвали острова Курильскими именно потому, что на них жили курилы, т.е.
айны. Также известно, что на Южной Камчатке находится большое кратерное
озеро Курильское, в районе которого найдены археологические следы отно-
сительно недавнего присутствия айнов (Дикова 1983). Несколько десятиле-
тий спустя после походов Атласова о связи названия Курильских островов с
айнами напишет и участник Второй Камчатской экспедиции Степан Петрович
Крашенинников:
Подъ именемъ Курильскихъ острововъ разумҍются всҍ почти островà, которые отъ
Курильской лопатки или южнаго конца землѝ Камчатки грядою лежатъ въ южно-запад-
ную сторону до самой Японïи. Званïе ихъ произошло отъ жителей ближайшихъ остро-
вовъ къ Камчаткҍ, которые отъ тамошнихъ народовъ Куши, а отъ Россïянъ Курилами
называются (Крашенинников 1994 [1755]. T. 1: 103).
Как видно из сообщения Крашенинникова, коренные жители Камчатки, а
именно камчадалы, которые в то время еще разделялись на три географиче-
ские и диалектные группы - западные, восточные и южные, - называли айнов
словом куши. Крашенинников использует также названия кушинъ или кужинъ
(Крашенинников 1994 [1755]. T. 2: 4), где конечный “нъ”, вероятно, является
камчадальским показателем множественного числа (†-’n). Форма кужи (kuži-)
подтверждается материалами, собранными в ХIX в. Бенедиктом Тадеушем
Дыбовским от последних южных камчадалов (Мудрак 2008: 119-120). Следует,
однако, отметить, что в современном ительменском языке, который является
потомком диалекта западных камчадалов, нет фонемных звуков типа “ш” /ʃ/*
или “ж” /ʒ/*, а только “с” /s/ и “з” /z/. Кроме того, фонема “р” /r/ встречается
только в заимствованиях из корякского или русского (Georg, Volodin 1999: 18).
Поэтому можно предполoжить, что за графической формой кужи прячется фо-
немная форма типа †кузи (kuzi), которая достаточно близка к русской форме
курил. Однако, несмотря на очевидное сходство, нельзя автоматически отож-
дествлять формы †кузи и курил. Скорее всего, они связаны между собой только
косвенным образом.
Янхунен Ю. Названия айнов у народов Амура и Сахалина
47
В литературе (см., напр.: Мураяма 1971: 268-280, 347-348), а также в ин-
тернете (см., напр.: Камчатский край б.г.) обращается внимание на сходство
этнонима курил с айнским словом кур (kur), фонетически [kuru] - “человек”.
Это слово может относиться как к мужчинам, так и к женщинам, и оно ча-
сто употребляется вместе с различными определениями, например, поро-кур
(poro-kur) - “большой человек” = “взрослый”, чисе-кор-кур (cise-kor-kur) -
“человек дома” = “хозяин” (Hattori 1964: 34-35, 46). Оно достоверно зафикси-
ровано также в языке тех айнов, которые в XVIII-XIX вв. жили на Северных
Курилах (Мураяма 1971: 56, 181, 332, 334). Действительно, можно предполо-
жить, что айнское слово кур (kur) было заимствовано соседями в качестве экзо-
нима для айнов. Фонетическая адаптация кур (kur) → кузи (kuzi) объясняется,
по-видимому, тем, что фонема “з” /z/ в языке местных камчадалов, также как
и в современном ительменском языке, не встречалась в конце слова (Georg,
Volodin 1999: 35). Однако наличие конечного “л” в русской форме курил нельзя
считать результатом простой фонетической адаптации.
Объяснение для русской формы курил приходится искать в тунгусских язы-
ках. В эвенкийском и эвенском “л” (-l) является показателем множественного
числа для основ, которые оканчиваются на любой звук, кроме “н” (n). Глав-
ной этнической группой, с которой русские контактировали на Охотском по-
бережье, были охотские эвены, их называли также ламутами, поскольку они
жили возле моря (Ламу). Охотский острог был построен в 1649 г. на территории
прибрежных эвенов, служивших русским главными проводниками по пока не
известному им региону. Так, Атласова сопровождала на Камчатке группа мест-
ных воинов, правда, их называли “юкагирами”, но, скорее всего, это были в
основном эвены (в любом случае они были эвеноязычными). Как раз эти эвены,
которые, вероятно, были уже ранее знакомы с айнами, могли называть их экзо-
нимом кури-л (*kuri-l). От них же русские заимствовали это слово уже в фор-
ме множественного числа. Аналогичным образом этноним камчадал пришел в
русский язык из эвенского: от формы камчада-л (*kamca-daa-l), которая, кстати,
по форме похожа на название негидальцев (*ŋie-gi-daа-l - “живущие нижe”).
Таким образом, русские получили название для айнов от охотских эвенов.
Однако этноним кури-л (*kuri-l) в самом эвенском языке впоследствии утратил-
ся, поскольку прямые контакты между эвенами и айнами прекратились. Это
произошло, с одной стороны, в связи с колонизацией Камчатки и исчезнове-
нием айнов из этого региона, а с другой стороны, из-за передвижения ареала
эвенского языка все далее в сторону северо-востока. Современные камчатские
эвены на р. Быстрой, как известно, являются потомками более поздних пере-
селенцев середины XIX в. с Охотского побережья. Таким образом, эвенский
этноним кури, мн. ч. кури-л (*kuri, мн. ч. *kuri-l) остался бы гипотетичным,
если бы у него не было соответствий в других тунгусo-маньчжурских языках.
Однако такие соответствия существуют, поскольку все тунгусo-маньчжурские
народы на Амуре и на Сахалине называют айнов как раз данным этнонимом, с
той единственной разницей, что фонеме “р” /r/ (*r) в этих языках соответствует
“й” /y/ [j] или даже ноль (Ø), т.е. *кури > куjи > куи ~ куj. Итак, для понятий
“айн”, “айны”, “айнский” мы находим в негидальском куjи (kuyi), в уильтинском
куи (kui), в ульчском куи (kui), в орочском куи (kui) ~ куjи (kuyi) и в удэгейском
куи (kui) (Цинциус 1975: 424; Миссонова 2013: 53-54).
Вполне вероятно, что айны были известны амурским народам достаточно
давно, так как, судя по археологическим данным, они появились на Сахалине
еще в средние века. Айнский язык начал свой путь к северу из центральной
Японии (о-в Хонсю), распространился на о-в Эдзо к концу I тыс. н.э. и продол-
жил экспансию, двигаясь на Сахалин и Курильские острова, в первой половине
48
Этнографическое обозрение № 2, 2022
II тыс. н.э., одновременно ассимилируя носителей Охотской культуры (Janhunen
2003; см. также: Bugaeva 2023). Сахалинские айны регулярно посещали также и
материк, где их активность была связана с так наз. Сантанским торговым путем,
который вплоть до первой половины XIX в. соединял Японию с Маньчжурией
и Китаем через Амурский бассейн (Sasaki 1999). Поскольку айны по своему
антропологическому типу довольно сильно отличаются от соседних народов,
их присутствие можно обнаружить и в генетическом фонде коренных жителей
Амурского региона. По данным генетических исследований, айнский компо-
нент особенно силен у ульчей (Jeong et al. 2016), что неудивительно, поскольку
самый короткий путь с Сахалина на Амур проходит через пролив Невельского
и бассейн оз. Кизи, т.е. именно там, где живут современные ульчи.
Память об айнах сохраняется у ульчей в родовом названии Куйсали, кото-
рое переводится как “айны” и происходит от куи (kui) - “айн”, мн. ч. куи-сали
(kui-sali) - “айны”, с типичным для тунгусo-маньчжурских языков Амурского
бассейна комплексным показателем множественного числа -сАл ~ -сАли
(-sА-l ~ sА-l-i), как и в ульчском нии-сэли (nii-se-l-i) - “люди”, наа-ни-сэли
(*naa-nii-se-l-i) - “ульчи”. Из предания рода Куйсали известно, что его айн-
ские родоначальники переселились на Амур с Сахалина (Смоляк 1994: 23).
Правда, это случилось, как кажется, только в середине XIX в. Аналогичные
переселения айнов происходили, впрочем, и раньше и не только к ульчам, но и
к нивхам, нанайцам, орочам и удэгейцам. Действительно, отдельные предста-
вители этого народа и даже целые родовые группы айнского происхождения
фиксировались во многих этнически смешанных поселках на нижнем Амуре
(Штернберг 1933: 285-291; см. подробнее: Осипова 2010). В ономастике от
них осталось не так много следов. Возможно, однако, что название удэгейского
рода Куинка (kuiŋka < *kuyi-ŋka) также связано с его айнским происхождением,
хотя в этом случае надо учитывать и возможную связь с названием местной
р. Куи (Подмаскин, Старцев 1989: 25).
Как нам представляется, этноним *кури стали применять по отношению
к айнам именно жители Амурского бассейна. Скорее всего, и охотские эвены
впервые услышали об айнах на материке, а не на Камчатке. В таком случае
этноним “кужи” = кузи (kuzi), который использовали для айнов камчадалы,
надо рассматривать отдельно от кури (kuri), хотя и не исключено, что оба на-
звания в конечном итоге связаны друг с другом. Развитие *кури > куjи (*kurï >
kuyi) закономерно для негидальского языка (Певнов
1994), но тенден-
ция к элиминации фонемы “р” /r/ наблюдается и во всех остальных тунгусо-
маньчжурских языках Амурского бассейна. Фонемная структура секвенций
с исчезнувшим *р (*r > y > Ø) достаточно сложная (Janhunen 1985b) и не
обязательно одинаковая во всех языках региона. Так, например, исконно тун-
гусское слово няри (*ñarï) - “человек” сохраняется в эвенском в форме няри
(ñarï), а также в уильтинском в форме нари (narï), но дает в нанайском най
(nay), а в ульчском, орочском и удэгейском нū ~ н’ē (nii ~ ñee) (Цинциус 1975:
598-599). Такая вариация может, конечно, частично отражать вторичные
межъязыковые контакты.
Toт факт, что именно форма куjи (kuyi) используется на Амуре достаточно
давно, подтверждается тем, что она уже в XIV-XV вв. была заимствована в ки-
тайский язык. В известной надписи 1413 г. на Тырскиx стелax айны упомина-
ются как раз под китайским названием 苦夷, куjи (kuyi) (Головачев и др. 2011:
98, 125, 216). С этого же времени о-в Сахалин известен китайцам под названи-
ем 庫頁島, Куе дао (Kuye dao) - “айнский остров”. Это означает, что переход
*р > j (*r > y) начался не позже XIII-XIV вв. Приблизительно в такой же фор-
ме, т.е. †куjи, айны упоминаются в монгольской и чжурчжэньской надписях на
Янхунен Ю. Названия айнов у народов Амура и Сахалина
49
тex же Тырскиx стелax (Rykin 2019: 150-156). Возможно, что китайская форма
восходит как раз к чжурчжэньскому оригиналу, который, в свою очередь, был
заимствован из местных языков.
С тунгусо-маньчжурскими формами *кури > куjи (в русских источни-
ках иногда куви) связано также нивхское название айнов к’yғи (k’uɣi, см.:
Крейнович 1955: 214, 245; ошибочно без придыхания куɧи - см.: Савельева,
Таксами 1965: 122). Соответствие нивхского к’ (с придыханием - в оппозиции
к без придыхания) тунгусскому к (без придыхания, но в оппозиции звонкому г)
вполне ожидаемо, тогда как нивхский медиальный согласный, а именно звон-
кий велярный щелевой “ғ” /ɣ/, заслуживает отдельного внимания. Этот соглас-
ный никак не может быть прямым рефлексом более раннего “р” *r, тем более
что нивхский язык имеет фонему /r/ и не демонстрирует никакой тенденции к
ее элиминации. Поэтому нивхское к’yғи может быть только заимствованием
тунгусо-маньчжурской формы *куjи (*kuyi) с заменой полугласного *j перед
гласным *i на согласный /ɣ/, поскольку сочетание jи (yi) в нивхском в середине
слова не встречается.
В итоге получается, что все тунгусо-маньчжурские наименования aй-
нов восходят к единому первоначальному варианту *кури, мн. ч. *кури-л ~
*кури-са-л(и), от которого происходят как русское слово курил, так и нивхское
слово к’yғи. Вполне вероятно, что тунгусо-маньчжурское *кури, в свою оче-
редь, происходит от айнского *кур - “человек”, лежащего также в основе слова
†кузи, которым коренные жители Камчатки называли айнов. Конечный гласный
в тунгусо-маньчжурской форме *кури объясняется фонотактической адаптаци-
ей, поскольку в тунгусо-маньчжурских языках первоначально не было основ
на *р без гласного. Правда, в некоторых северно-тунгусских языках, а именно
в эвенском и негидальском и диалектально в эвенкийском, наблюдается позд-
нее выпадение конечного *и, но даже в этих языках гласный сохраняется перед
суффиксами, например, в форме множественного числа. Учитывая, что слово
*кури в форме *куjи документировано уже в средневековых источниках, нет
сомнения в его достаточно давнем происхождении.
В связи с этим, конечно, удивительно, что нивхи, которые из всех амурских
народов имеют самую долгую историю контактов с айнами, особенно на Саха-
лине, заимствовали название для айнов у тунгусо-маньчжурских соседей. Мож-
но предположить, что нивхский язык распространился на Сахалин приблизи-
тельно в одно время с айнским, т.е. в начале II тыс. н.э. Контактная зона между
нивхами и айнами находилась в центральной части острова, куда орокский язык
вошел с материка уже позже. Скорее всего, у нивхов первоначально для айнов
было какое-то другое название. Если это так, то исходное название, к сожале-
нию, утрачено, и у нас пока нет возможности его восстановить.
В качестве критического замечания ко всему вышесказанному необходимо
добавить, что в то время как этимологическую связь форм курил, куjи и к’yғи
с первоначальной тунгусо-маньчжурской формой *кури (*kurï) - “айн(ский)”
можно считать установленным фактом, предположение о связи формы *кури
с камчадальской формой †кузи и айнским словом кур - “человек” является бо-
лее спорным. Хорошо известно, что многие коренные народы не имеют или
исторически не имели эндонима для своей собственной этнической группы.
Вместо эндонима они предпочитали, говоря о себе, использовать выражения
“наши люди”, “местные люди”, “наш язык” и т.д. Поэтому, например, на-
найцы, ульчи и орочи называют себя нaa-нi < нaa-нaй (*naa+narï) - “люди
(нашего) места”. Те слова, которые выступают в роли эндонимов, чаще всего
переводятся как “человек”. Это относится и к так наз. айнскому самоназванию
айну (aynu) (Hattori 1964: 34), которое является не столько эндонимом, сколько
50
Этнографическое обозрение № 2, 2022
просто выражением общего понятия “человек” в противопоставлении богам и
зверям. Для выделения отдельных групп людей айны использовали слово кур
(kur), как, например, в фольклорных терминах реп-ун-кур (rep-un-kur) - “люди
моря” (= представители Охотской культуры) и jа-ун-кур (ya-un-kur) - “люди
земли” (= айны в противопоставлении представителям Охотской культуры)
(Janhunen 1996: 174-175).
Следует также помнить, что большинство этнических групп мира извест-
ны своим соседям под названиями, которые происходят не из их собственных
языков, а из языков соседей, что хорошо прослеживается на примере Сибири
и Дальнего Востока. Поэтому немного неожиданно то, что соседи айнов стали
именовать их айнским словом, которое к тому же является не настоящим этнони-
мом, а выражением общего понятия “человек”. Также трудно представить, что
одно и то же айнское слово кур (kur) было независимо заимствовано дважды -
камчадалами Камчатки и тунгусами нижнего Амура или Охотского побережья.
Достоверность этого предположения во многом зависит от того, как айны дей-
ствительно называли себя и своих новых северных и западных соседей во время
первых контактов. Об этом, к сожалению, у нас сведений нет. Правда, на вопрос
о том, как курильские айны называют себя, Крашенинников получил загадоч-
ный ответ “Уйпýтъ Éеке” (†uyput yeyeke) (Крашенинников 1994 [1755]. T. 2: 5).
Ни грамматическому, ни семантическому анализу эта фраза не поддается -
скорее всего, она и не является ответом на поставленный вопрос.
Источники и материалы
Камчатский край б.г.
- Камчатский край: краеведческий сайт. http://
Крашенинников 1994 [1755] - Крашенинников С.П. Описание земли Камчатки:
В 2 т. СПб.: Наука; Петропавловск-Камчатский: Камшат, 1994 [1755].
Крейнович 1955 - Крейнович Е.А. Словарь нивхского языкa: В 2 т. Рукопись.
Т. 1. 1955 // Архив Сахалинского областного краеведческого музея, Южно-
Сахалинск. КП-8335-1/2 РК-310/1/2.
Савельева, Таксами 1965 - Савельева В.Н., Таксами Ч.М. (сост.) Нивхско-
русский словарь. М.: Советская энциклопедия, 1965.
Цинциус 1975 - Цинциус В.И. (ред.) Сравнительный словарь тунгусо-маньчжур-
ских языков: В 2 т. Т. 1. Л.: Наука, 1975.
Alatalo 2004 - Alatalo J. Sölkupisches Wörterbuch aus Aufzeichnungen von
Kai Donner, U.T. Sirelius und Jarmo Alatalo. Helsinki: Finnisch-Ugrische
Gesellschaft, 2004.
Hattori 1964 - Hattori S. (ed.) An Ainu Dialect Dictionary with Ainu, Japanese and
English Indexes. Tokyo: Iwanami Shoten, 1964.
Lehtisalo 1956 - Lehtisalo T. Juraksamojedisches Wörterbuch. Helsinki: Suomalais-
Ugrilainen Seura, 1956.
Werner
2002
- Werner H. Vergleichendes Wörterbuch der Jenissej-Sprachen.
Bd. 1. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2002.
Научная литература
Головачев В.Ц., Ивлиев А.Л., Певнов А.М., Рыкин П.О. Тырские стелы XV века:
перевод, комментарии, исследование китайских, монгольского и чжур-
чжэньского текстов. СПб.: Наука, 2011.
Дикова T.M. Aрхеология Южной Камчатки в связи с проблемой расселения
айнов. М.: Наука, 1983.
Янхунен Ю. Названия айнов у народов Амура и Сахалина
51
Миссонова Л.И. Лексика уйльта как историко-этнографический источник.
М.: Наука, 2013.
Мудрак О.А. Свод камчадальской лексики по памятникам XVIII в. М.: Восточная
литература, 2008.
Мураяма С. Айнский язык Северных Курилов: филологические исследования.
Токио: Ёсикава Кобункан, 1971. (на яп. яз.)
Осипова М.В. Потомки айнов на Нижнем Амуре // Известия Института насле-
дия Бронислава Пилсудского. 2010. № 14. С. 204-214.
Певнов А.М. Рефлексы вибранта в негидальском на фоне родственных ему
языков // Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1994. Vol. 85. P. 125-147.
Подмаскин В.В., Старцев А.Ф. Проблема этногенеза и этническая история //
История и культура удэгейцев / Под общ. ред. А.И. Крушанова. Л.: Наука,
1989. С. 15-27.
Смоляк А.В. Этнические процессы и этнический состав // История и культу-
ра ульчей в XVII-XX вв. Историко-этнографические очерки / Отв. ред.
Л.Я. Иващенко. СПб.: Наука - Санкт-Петербургская издательская фирма,
1994. С. 11-25.
Штернберг Л.Я. Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны. Статьи и материалы.
Хабаровск: Дальгиз, 1933.
Bugaeva A. (ed.) Handbook of the Ainu Language. Berlin: De Gruyter Mouton, 2023.
Georg S., Volodin A.P. Die itelmenische Sprache: Grammatik und Texte. Wiesbaden:
Harrassowitz Verlag, 1999.
Helimski E., Janhunen J. Once More on the Ethnonym “Tungus” // Specimina
Sibirica. 1990. Vol. 3. P. 67-72.
Janhunen J. The Tungus Peoples and the Conquest of Siberia // Altaistic Studies
Papers at the 25th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference
at Uppsala June 7-11, 1982. Stockholm: Almqvist & Wicksell, 1985a. P. 73-77.
Janhunen J. On the Diphthongs in Nanay // Bulletin of the Institute for the Study of
Northern Eurasian Cultures - Hoppō Bunka Kenkyū. 1985b. Vol. 17. P. 103-115.
Janhunen J. Manchuria: An Ethnic History. Helsinki: The Finno-Ugrian Society, 1996.
Janhunen J. On the Chronology of the Ainu Ethnic Complex // Bulletin of the
Hokkaido Museum of Northern Peoples - Hokkaidō ritsu Hoppō Minzoku
Hakubutsukan Kenkyū Kiyō. 2003. Vol. 11. P. 1-20.
Jeong C., Nakagome S., Di Rienzo A. Deep History of East Asian Populations
Revealed through Genetic Analysis of the Ainu // Genetics. 2016. Vol. 202 (1).
P. 261-272.
Rykin P. The Mongol Text of the Tyr Trilingual Inscription (1413): Some New
Readings and Interpretations // International Journal of Eurasian Linguistics.
2019. Vol. 1 (1). P. 126-161.
Sasaki S. Trading Brokers and Partners with China, Russia, and Japan // Ainu: Spirit
of a Northern People / Eds. W.W. Fitzhugh, C.O. Dubreuil. Washington: Arctic
Study Center; National Museum of Natural History; Smithsonian Institution,
1999. P. 86-91.
Stephan J.J. The Kuril Islands: Russo-Japanese Frontier in the Pacific. Oxford:
Clarendon Press, 1974.
R e s e a r c h A r t i c l e
Janhunen, J. Appellations of the Ainu among the Peoples of Amur and Sakhalin
[Nazvaniia ainov u narodov Amura i Sakhalina]. Etnograficheskoe obozrenie, 2022,
52
Этнографическое обозрение № 2, 2022
ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and
Anthropology RAS
University of Helsinki (P.O. Box 59, Unioninkatu 38, FI-00014, Helsinki, Finland)
Keywords
Ainu, Kuril, Sakhalin, the Kurile Islands, ethnonyms, ethnic contacts
Abstract
This paper deals with the interconnections of the ethnonyms by which the peoples of
the Amur basin and Sakhalin, as well as, historically, Kamchatka, referred to the Ainu.
It is shown that the exoethnonyms by which the Ainu used to be known to the Amur
Tungus (kuyi ~ kui) derive from the older form *kuri, which was also present in the
language of the Okhotsk Ewen at the time of the arrival of the first Russian explorers.
The appellations of the Ainu in Nivkh (k’uɣi) and Russian (kuríly) were borrowed
from this same form. It is likewise possible, though not confirmed, that the form *kuri
goes back to the Ainu word kur ’man, human being’, which is also the likely source of
the name †kuzi by which the Kamchadal called the Ainu in the 17th to 19th centuries.
References
Bugaeva, A., ed. 2023. Handbook of the Ainu Language. Berlin: De Gruyter Mouton,
2023.
Dikova, T.M. 1983. Arkheologiia Yuzhnoi Kamchatki v sviazi s problemoi rasseleniia
ainov [The Archaeology of Southern Kamchatka and the Problem Concerning
the Settlements of the Ainu]. Moscow: Nauka.
Georg, S, and A.P. Volodin. 1999. Die itelmenische Sprache: Grammatik und Texte [The
Itelmen Language: Grammar and Texts]. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1999.
Golovachev, V.T., A.L. Ivliev, A.M. Pevnov, and P.O. Rykin. 2011. Tyrskie stely
XV veka: perevod, kommentarii, issledovanie kitaiskikh, mongol’skogo i
chzhurchzhen’skogo tekstov [The Tyr Steles of the 15th Century: Translation,
Comments, and a Study of the Chinese, Mongolian and Jurchen Texts].
St. Petersburg: Nauka.
Helimski, E., and J. Janhunen. 1990. Once More on the Ethnonym “Tungus”.
Specimina Sibirica 3: 67-72.
Janhunen, J. 1985. The Tungus Peoples and the Conquest of Siberia. In Altaistic
Studies Papers at the 25th Meeting of the Permanent International Altaistic
Conference at Uppsala June 7-11, 1982, 12: 73-77. Stockholm: Almqvist &
Wicksell.
Janhunen, J. 1985. On the Diphthongs in Nanay. Bulletin of the Institute for the Study
of Northern Eurasian Cultures - Hoppō Bunka Kenkyū 17: 103-115.
Janhunen, J. 1996. Manchuria: An Ethnic History. Helsinki: The Finno-Ugrian Society.
Janhunen, J. 2003. On the Chronology of the Ainu Ethnic Complex. Bulletin of
the Hokkaido Museum of Northern Peoples - Hokkaidō ritsu Hoppō Minzoku
Hakubutsukan Kenkyū Kiyō 11: 1-20.
Jeong, C., S. Nakagome, and A. Di Rienzo. 2016. Deep History of East Asian
Populations Revealed through Genetic Analysis of the Ainu. Genetics 202 (1):
261-272.
Missonova, L.I. 2013. Leksika uil’ta kak istoriko-etnograficheskii istochnik [The
Lexicon of the Uilta Language as a Historical and Ethnographical Source].
Moscow: Nauka.
Янхунен Ю. Названия айнов у народов Амура и Сахалина
53
Mudrak, O.A. 2008. Svod kamchadal’skoi leksiki po pamiatnikam XVIII v. [The
Corpus of Kamchadal Lexicon on the Basis of the Materials of the 18th Century].
Moscow: Vostochnaia literatura.
Murayama, S. 1971. Kita Chishima ainugo. Bunkengakuteki kenkyū [The Ainu
Language of the Northern Kuriles: Philological Studies]. Tokyo: Yoshikawa
Kōbunkan.
Osipova, M.V. 2010. Potomki ainov na Nizhnem Amure [The Descendants of Ainu
on the Lower Amur]. Izvestiia Instituta naslediia Bronislava Pilsudskogo 14:
204-214.
Pevnov, A.M. 1994. Refleksy vibranta v negidal’skom na fone rodstvennykh emu
yazykov [The Reflexes of the Vibrant in Neghidal with a View on Related
Languages]. Journal de la Société Finno-Ougrienne 85: 125-147.
Podmaskin, V.V., and A.F. Startsev. 1989. Problema etnogeneza i etnicheskaia
istoriia [The Problem of Ethnogenesis and Ethnic History]. In Istoriia i kul’tura
udegeitsev [History and Culture of the Udihe], edited by A.I. Krushanov, 15-27.
Leningrad: Nauka.
Rykin, P. 2019. The Mongol Text of the Tyr Trilingual Inscription (1413): Some
New Readings and Interpretations. International Journal of Eurasian Linguistics
1 (1): 126-161.
Sasaki, S. 1999. Trading Brokers and Partners with China, Russia, and Japan.
In Ainu: Spirit of a Northern People, edited by W.W. Fitzhugh and C.O. Dubreuil,
86-91. Washington: Arctic Study Center; National Museum of Natural History;
Smithsonian Institution.
Shternberg, L.Y. 1933. Giliaki, orochi, gol’dy, negidal’tsy, ainy. Stat’i i materialy [The
Ghilyak, Oroch, Gold, Neghidal, and Ainu: Articles and Materials]. Khabarovsk:
Dal’giz, 1933.
Smoliak, A.V. 1994. Etnicheskie protsessy i etnicheskii sostav [Ethnic Processes
and Ethnic Composition]. In Istoriia i kul’tura ul’chei v XVII-XX vv. Istoriko-
etnograficheskie ocherki [History and Culture of the Ulcha in the 17th to 20th
Centuries: Historical and Ethnographic Essays], edited by L.Y. Ivashchenko,
11-25. St. Petersburg: Nauka - Sankt-Peterburgskaia izdatel’skaia firma.
Stephan, J.J. 1974. The Kuril Islands: Russo-Japanese Frontier in the Pacific.
Oxford: Clarendon Press.