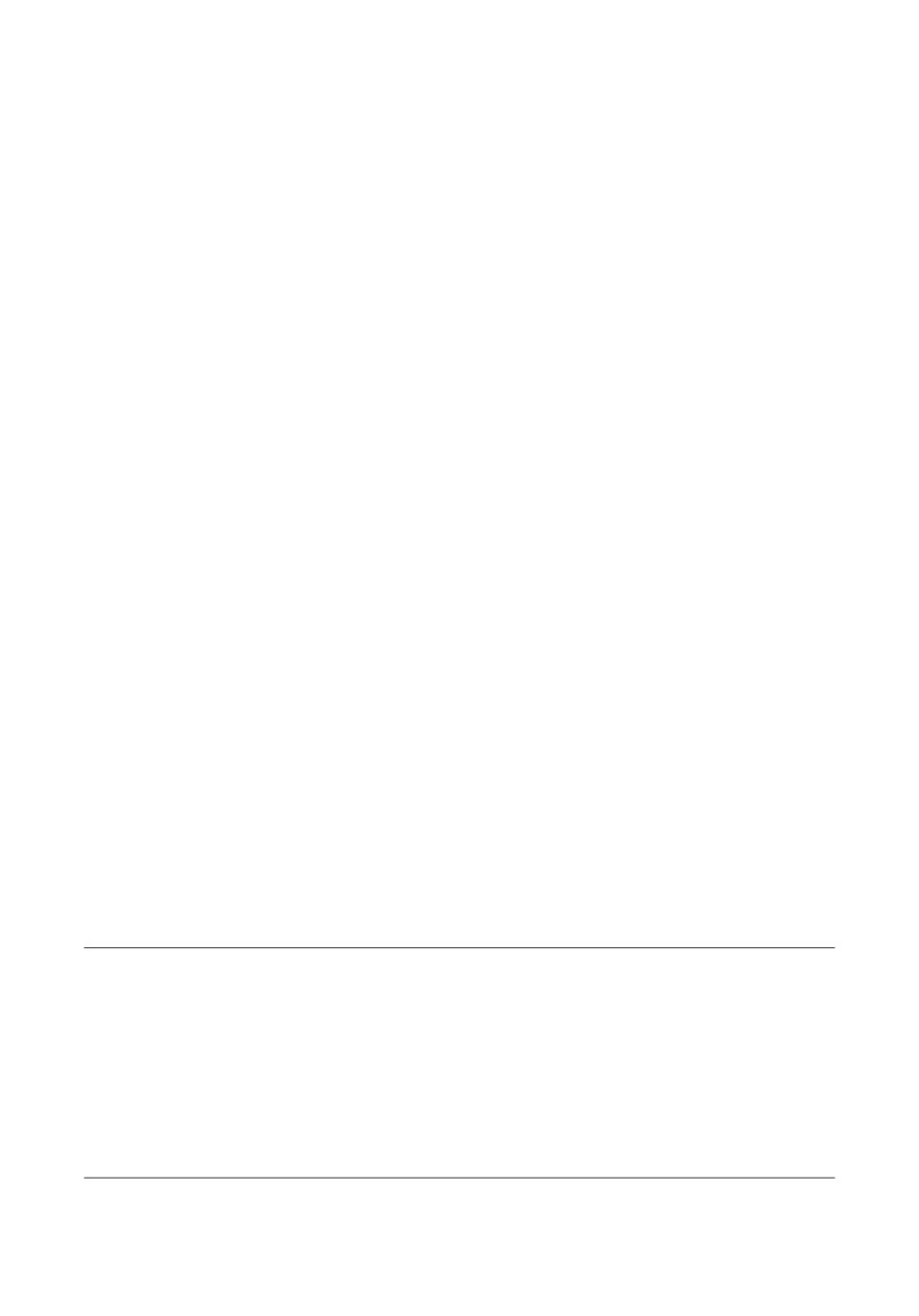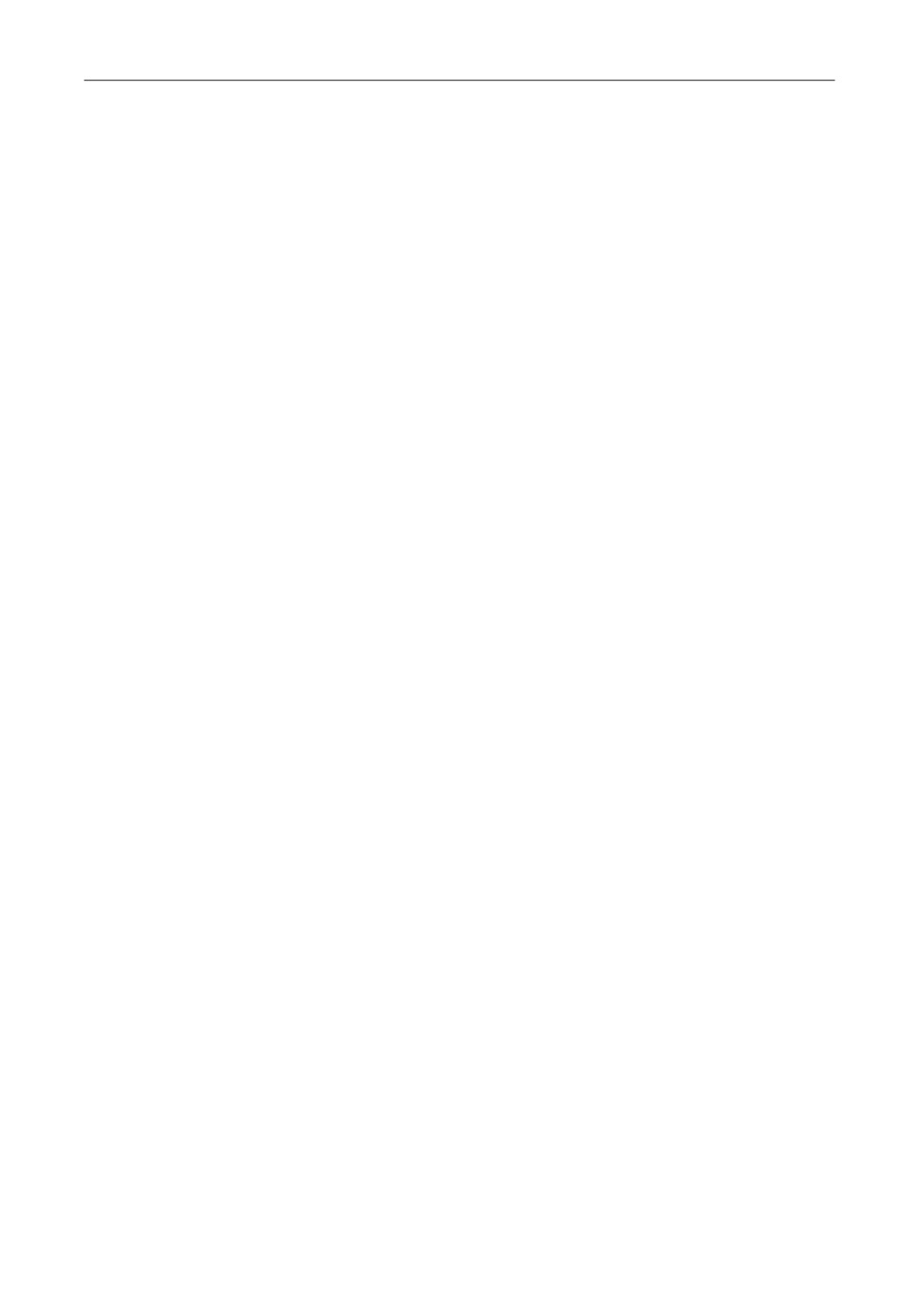САМОВОЛЬНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ И ХОДАЧЕСТВО
СРЕДИ МОРДОВСКИХ КРЕСТЬЯН ПОВОЛЖЬЯ
НА КАЗЕННЫЕ ЗЕМЛИ СИБИРИ В XIX - НАЧАЛЕ XX В.
Л.Н. Щанкина
д.и.н., профессор | кафедра гражданско-правовых дисциплин | Российский экономиче-
ский университет им. Г.В. Плеханова (Стремянный пер. 36, Москва, 117997, Россия)
Ключевые слова
Сибирь, Поволжье, самовольное переселение, ходоки, ходачество, мордва, переселенцы
Аннотация
В данной статье исследуются самовольное переселение и ходачество среди мордвы По-
волжья в XIX - начале XX в., а также влияние политики правительства на этот процесс
с тем, чтобы направить его в “нужное русло”. Также рассматриваются основные при-
чины самовольного переселения и ходачества, численность, участие органов власти в
решении возникавших при переселении проблем. На основе анализа архивных и лите-
ратурных источников определяется, что самовольное переселение мордвы с террито-
рии Поволжья, начавшееся в 1838 г. и продолжавшееся вплоть до конца XIX в., было
численно незначительным и связано с политикой правительства, ориентированной на
сокращение численности самовольцев, прибывавших на территорию Сибири. Хода-
чество на этапе 1860-1880-х годов развивалось слабо и большего размаха достигло в
начале 1890-х. Основные сдерживающие факторы при этом заключались в том, что, с
одной стороны, ходоки считались социально опасными и преследовались властями; с
другой - не каждый крестьянин мог согласиться оставить семью и заняться обществен-
ным делом, несмотря на некоторое финансирование со стороны будущих переселенцев.
Главные вопросы, которые решали ходоки, - это поиск новых территорий для переселе-
ния и выбор подходящих для ведения сельского хозяйства земель. На всем протяжении
существования данного явления преобладала семейная форма ходачества.
еобходимость разработки указанной темы обусловливается фрагментарно-
стью и эпизодичностью существующих работ. В некоторых из них, по-
Н
священных отдельным периодам истории Поволжья, имеются данные о
численности переселенческого движения; о причинах, побудивших крестьян
оставлять родные места; об обратных переселениях и т.д. Отдельные сведения
по изучаемой проблематике нашли отражение в трудах российских исследо-
вателей, таких как: И.Н. Берг, А.М. Беркенгейм, А.А. Исаев, А.А. Кауфман,
В.В. Кирьяков, Л.Ф. Скляров, Д.Н. Белянин и др. Ряд документальных источни-
Статья поступила 11.06.2021 | Окончательный вариант принят к публикации 26.08.2021
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Щанкина Л.Н. Самовольное переселение и ходачество среди мордовских крестьян Поволжья на
казенные земли Сибири в XIX - начале XX в. // Этнографическое обозрение. 2022. № 2. С. 137-153.
Shchankina, L.N. 2022. Samovol’noe pereselenie i khodachestvo sredi mordovskikh krest’ian Povolzh’ia
na kazennye zemli Sibiri v XIX - nachale XX v. [Unauthorized Resettlement and Walking of the
Mordovian Peasants of the Volga Region to the State Lands of Siberia in the 19th - Early 20th Centuries].
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
138
Этнографическое обозрение № 2, 2022
ков, хранящихся в фондах Российского государственного исторического архива
г. Санкт-Петербурга (Ф. 391) и Государственного архива Пензенской губернии
(Ф. 5, 45, 53), содержит немногочисленные статистические сведения о само-
вольных переселенцах и ходоках, главным образом в национальном разрезе.
Кроме того, для анализа переселенческой политики государства исследовались
законодательные акты, представленные в Полном собрании законов Российской
империи, Своде законов Российской империи и Сборнике узаконений и распо-
ряжений о водворении переселенцев и образовании переселенческих участков.
Таким образом, вопрос о самовольных переселениях и ходачестве среди
мордвы в региональной историографии не получил специального рассмотре-
ния. Настоящее исследование является попыткой восполнить этот пробел в рос-
сийской исторической науке.
Реализация исследовательских задач осуществлялась на основе сбора необ-
ходимого материала, а также изучения трудов авторов, посвященных заявлен-
ной проблеме. Методологическую основу исследования составили принципы
историзма, системности и объективности. Использовались проблемно-хроно-
логический метод, что позволило проанализировать становление и развитие
самовольного переселения и ходачества в рассматриваемый период; а также
элементы статистического анализа - для обработки данных о количестве само-
вольных переселенцев и ходоков.
Самовольное переселение - стихийное движение крестьянской бедноты из
центральных районов на свободные российские окраины.
В 1822 г. правительство императорской России издало Указ “О дозволе-
нии крестьянам переселяться на земли Сибирских губерний” (ПСЗРИ 1830:
143-144), что было вызвано стремлением людей к переселению в Сибирь, где
они ожидали найти больший земельный простор, чем у себя на родине. По-
добное намерение отмечалось у крестьян, проживавших не только на террито-
рии российских, но и в пределах сибирских губерний. Так, по свидетельству
В.В. Кирьякова, “крестьяне Тобольской губернии проявили желание пересе-
литься в Томскую губернию. До 1812 г. в Томскую губернию было перечислено
более 700 душ из Пермской и Тобольской губерний, а 1156 душам в прошении
было отказано” (Кирьяков 1902: 73).
Выполнение для желавших переселиться ряда пунктов названного указа
являлось обременительным, и особенно тех, которые ставили обязательными
условиями перемещения предварительные высылку ходоков и уплату недоим-
ки. Первое для крестьян было весьма затруднительным вследствие отсутствия
правительственного содействия и ввиду дороговизны пути; второе же, по сути,
приравнивалось к запрету на переезд, так как недоимка имелась главным обра-
зом за теми, кто хотел бежать от малоземелья. Данное обстоятельство привело
к развитию самовольных переселений (Там же: 73-74).
Кроме того, согласно Указу 1822 г. водворение переселенцев допускалось
при условии, “если поверенные, присланные ими для выбора земель с именны-
ми списками всех желающих переселиться, приискав земли, испросят на присе-
ление к деревням согласие на то старожил, а для водворения на пустопорожних
землях дозволение сибирских казенных палат, и об оном сии палаты уведомят
таковые же внутренних российских губерний” (ПСЗРИ 1830: 144).
В 1840-1850-е годы самовольные переселения не прекращались несмотря
на то, что в 1846 г. правительство ввело строгое их преследование. Однако от-
носительно уже прибывших в Сибирь было принято решение не возвращать
их на родину, поскольку это “привело бы их к совершенному разорению, не
принося при этом никакой пользы казне”, хотя по “Уставу о благоустройстве в
казенных селениях” все семьи тех переселенцев, которые подлежали отбытию
Щанкина Л.Н. Самовольное переселение и ходачество среди мордовских крестьян...
139
рекрутской повинности, равно как не уплатили недоимку, следовало “удержи-
вать на прежних местах”, т.е. высылать обратно - на места приписки (Свод
законов Российской империи 1857: 101-102). Указами предписывалось отвести
им земельные участки, но не предоставлять никаких льгот и пособий, установ-
ленных для переселенцев, получивших надлежащее разрешение. Кроме того,
они обязывались уплатить числившиеся на них недоимки и отбыть рекрутскую
повинность на новых местах.
По свидетельству В.В. Кирьякова, «были такого рода самовольные пересе-
ленцы, о существовании которых начальство не знало десятки лет. Иногда они
основывали целые поселки и жили без всяких “податных тягостей” до тех пор,
пока на них случайно, чаще всего при межевых работах, не натыкались. В дан-
ном случае они приписывались казенными палатами, попадали в оклад и “воль-
ное” житье для них прекращалось» (Кирьяков 1902: 76).
Царское правительство, по мнению Г.В. Глинки, начальника Переселенче-
ского управления Министерства внутренних дел, принимало “драконовские
меры” против самовольных переселенцев, и в самом начале их движения с мест
постоянного жительства, и на местах водворения. Так, в законодательном по-
рядке после 1861 г. предпринимались неоднократные попытки пресечь само-
вольный выход крестьян в Азиатскую Россию. Наряду с лишением их льготно-
го проезда, денежной и продовольственной помощи в пути, отказом им в ссудах
на хозяйственное устройство и получение земельных участков применялись
полицейский сыск и возвращение на старое местожительство, а в некоторых
случаях даже силы воинских команд и арест сроком до трех месяцев и более
(Беркенгейм 1902: 6). Об этом свидетельствует одна из статей Уложения о нака-
заниях уголовных и исправительных 1845 г. “О подговоре к побегу и к неразре-
шенному властями законными переселению”:
Если кто будет распространять среди населения заведомо ложный слух о выгодах пе-
реселения в какую-либо местность в пределах России с целью побудить к оставлению
своего постоянного места жительства и последствием такого распространения будет ра-
зорение хозяйства одного или нескольких выселившихся семейств, то виновный подвер-
гается: лишению некоторых, по статье 53 сего уложения, особенных прав и преимуществ
и заключению в тюрьму от одного года до двух лет (ст. 1174) (ПСЗРИ 1846: 821).
Причины самовольных перемещений крестьянства из числа мордвы Повол-
жья заключались в малоземелье. К примеру, в Мордовии на одно крестьянское
хозяйство приходилось 7,5 дес. всех земель, а пахотных - лишь 4,5 дес., тогда
как для ведения самостоятельного середняцкого хозяйства крестьянину необхо-
димо было иметь не менее 15 дес. земли (Щанкина 2019: 120). В сложившейся
ситуации переселение на новые места представлялось единственным выходом
и началось еще до реформы 1861 г. среди жителей Пензенской, Саратовской,
Симбирской, Тамбовской губерний. Так, из Тамбовской губернии с 1838 по
1846 гг. самовольно выселились 7876 душ (Кауфман 1905: 15). Большинство из
них проживали по просроченным паспортам или без документов, терпя в связи
с этим лишения. Нередко по требованию губернских властей им приходилось
возвращаться обратно.
В 1863 г. 100, а в 1868 г. еще 50 мордовских семей из нескольких селений
Мокшанской волости Саранского уезда Пензенской губернии по временным
паспортам прибыли в Томскую губернию, где основали д. Николаевку. В 1883
г. в д. Николаевку самовольно вновь переселились 15 семей из Саранского уез-
да. В 1883 г. в д. Воскресенское Томской губернии к землякам, проживавшим
здесь с 1853 г., по паспортам выехали 8 семей из Инсарского уезда Пензенской
губернии и 6 семей из Спасского уезда Тамбовской губернии (Кауфман 1895:
140
Этнографическое обозрение № 2, 2022
196-197, 214). А.А. Кауфман, проводивший исследование хозяйственного по-
ложения приезжего населения в Томской области, отмечал, что до 1887 г. это
были “почти исключительно самовольные”. По его подсчетам среди обследо-
ванных семей с разрешения пришли 40, а самовольно - 515. С 1888 по 1891 гг.
преобладали уже легальные переселенцы. Их пришло за это время 1594 семьи, а
самовольных - 933 (Кауфман 1915: 273). В 1891 г. был основан поселок Остров-
ский Томской губернии - 23 семьями, к которым в следующие три года присо-
единилось еще 13 семей из Спасского уезда Тамбовской губернии (25 семей
из д. Лопатино и Гальчевки Спасско-Городской волости и 11 семей из д. Салаз-
гира Дракинской волости). Девять семей из д. Лопатино получили разрешение
на переезд, а другие получили отказ и выехали по паспортам (Кауфман 1895:
250, 252).
Стоит отметить, что подобные самовольные переселения нельзя объяснять
исключительно сознательным игнорированием предписаний администрации.
Часто такого рода передвижение предпринималось лишь после того, как закон-
ные ходатайства крестьян не были удовлетворены. Например, с 1876 по 1881 гг.
в Министерство государственных имуществ поступило около 1000 крестьян-
ских прошений (или более от 11 000 тыс. душ) об отводе участков казенных зе-
мель. Однако большая их часть осталась без удовлетворения. По мнению мини-
стра государственных имуществ П.А. Валуева, к ним надлежало относиться “с
величайшею осторожностью, дабы тем внушить населению, что правительство,
раз устроив поземельный быт сельского населения, не считает себя обязанным
продолжать это устройство и раздавать ценные казенные земли для удовлетво-
рения временных и случайных потребностей” (Кирьяков 1902: 129-130).
Циркуляром от 6 марта 1892 г. выдача разрешений на переселение была прио-
становлена, поэтому в 1892-1893 гг. среди обследованных в Томской губернии пе-
реселенцев преобладали самовольные - 651 семья, легальных насчитывалось 152
(они получили разрешение на переселение до циркуляра) (Кауфман 1915: 273).
В 1891 г. из Кирсановского уезда Тамбовской губернии выехало пять мордов-
ских семей, а в 1892 г. еще две семьи, и поселились в пос. Богословский Том-
ской губернии. Крестьяне переселились с разрешения местных властей. Дан-
ный поселок заселялся постепенно с 1891 по 1894 гг. Мордовское население
из Керенского уезда Пензенской губернии прибыло сюда в 1892 г. самоволь-
но по паспортам. Всего переселилось 12 семей, из них девять семей из д. До-
роховой Ливенской волости и три семьи из д. Можаровой Китской волости.
В этом же году без разрешения прибыли три семьи из Корсунского уезда Сим-
бирской губернии. В 1892 г. в поселок Никулинский Томской губернии прибыло
две семьи, а в 1893 г. - 23. Основную массу населения - 15 семей - составляли
крестьяне из Корсунского уезда Симбирской губернии и четыре семьи из Тем-
никовского уезда Тамбовской губернии. За исключением одной семьи, все пе-
реселенцы шли без разрешения, самовольно, запасаясь лишь краткосрочными
паспортами, “как на заработки”. В связи с этим обстоятельством, большинство
не имело возможности своевременно распродать свое имущество и было вынуж-
дено выезжать по частям: сначала уходил хозяин с частью семьи, а затем уже
его жена или отец с остальными членами семьи (Кауфман 1896: 8-9, 87, 89-90).
Согласно имеющимся сведениям, с 1887 г. по 1 июля 1892 г. всех переселенцев,
как идущих с разрешения, так и самовольных, прошло в Сибирь и в прилегающие
к Уралу местности Европейской России 52 761 семья, в составе 323 962 души обо-
его пола, т.е. на каждый год в среднем 59 000 душ (Сибирские переселения 2006).
Несмотря на принимавшиеся распоряжения и указания, запрещавшие само-
вольное переселение в Сибирь, этот процесс продолжался. Если в 1880-е годы
высочайших повелений, правил и постановлений, касающихся исключительно
Щанкина Л.Н. Самовольное переселение и ходачество среди мордовских крестьян...
141
переселенческого дела, было принято всего пять, то в 1890-е годы - уже 125.
Только в Тобольской губернии разных губернаторских циркуляров насчитыва-
лось около 100 (Беркенгейм 1902: 6), что свидетельствует о пристальном внима-
нии правительства к регулированию этого важного вопроса.
Средством к ограничению перемещения в Сибирь служило требование, про-
веденное законодательным порядком, чтобы каждый желающий получил на то
разрешение от местных властей, после чего выдавалось специальное “проход-
ное свидетельство”. Предполагалось, что таким образом удастся предотвратить
переселение без документов или по простым паспортам. Крестьяне обращались
по месту прописки к губернатору с прошением об отводе казенных земель, но
чаще встречали отказ в удовлетворении ходатайства. Тем не менее, для добив-
шихся на родине увольнительных приговоров, а в Сибири - приемных, в ко-
нечном счете их новое место жительства узаконивалось. Несмотря на строгие
правила, распоряжения и циркуляры относительно самовольных переселенцев
в Тобольскую губернию в 1892-1896 гг., лишавшие их прав на наделы и какую
бы то ни было помощь, все же такие семьи в связи с их крайне бедственным
положением устраивали на казенных землях и оказывали им помощь наравне с
легальными (Беркенгейм 1902: 10-11). Однако, как было показано выше, они не
пользовались льготами по воинской повинности, по отсрочке от уплаты недо-
имок и т.д., какие были установлены для переселенцев, имевших разрешение.
Местные власти также “работали” над способами предупреждения само-
вольных переселений. Например, зная, что крестьяне (переселенцы Тамбовской
губернии) предварительно посылали ходоков в Сибирь, дожидались возвраще-
ния последних и пытались их подкупить, для того чтобы те сообщили о Сиби-
ри такие сведения, которые отбили бы желание переезжать. Так, один ходок,
получив взятку в размере 100 руб., сообщил о сибирской природе и условиях
хозяйствования неверные сведения. Уличенный земляками во лжи, он вызвал
всеобщее возмущение. В большинстве случаев бывало иначе: ходок брал взят-
ку, обещав представить далекие земли в превратном свете, а потом раскрывал
истинное положение дел и пропивал взятку с односельчанами (Исаев 1891: 40).
Другой формой задержки переселенцев была выдача паспортов с различ-
ными оговорками. Так, в течение нескольких лет не разрешалось перемещение
из Спасского уезда Тамбовской губернии. Не имея свидетельств, многие пыта-
лись выехать по паспортам. Тогда местные власти в этих документах стали ука-
зывать: “Отпущены на заработки, а не на переселение в Томскую губернию”.
С такой оговоркой люди отправлялись не в Томскую, а в Енисейскую губернию,
на которую запрет не распространялся. Нередко крестьяне для получения годо-
вого паспорта должны были платить от 6 до 12 руб. (Там же: 41). Кроме того,
к переселявшимся часто предъявлялись незаконные и невыполнимые требова-
ния, в частности предписывалось, что каждая семья еще до продажи имущества
должна иметь не менее 300 руб. наличными деньгами на обзаведение хозяй-
ством на новом месте.
Законом от 13 июля 1889 г. “О добровольном переселении сельских обыва-
телей и мещан на казенные земли и о порядке перечисления лиц означенных
сословий, переселившихся в прежнее время” (ПСЗРИ 1891: 535) губернаторы
предупреждались о необходимости решительно пресекать самовольные пе-
реселения вплоть до возвращения с новых мест в административном порядке.
В обязанность губернаторов вменялись слежка через членов местных по кре-
стьянским делам и полицейских учреждений за приготовлениями крестьян к са-
мовольному переселению и привлечение последних к ответственности. От сель-
ских властей требовалось следить за выдачей паспортов на временную отлучку,
ибо под ее видом нередко предпринималось переселение, а также за продажей
142
Этнографическое обозрение № 2, 2022
имущества и приобретением вещей, необходимых для дальнейшей дороги.
В случае если самовольные переселения все же происходили, сельским властям
грозило наказание. Наряду с этим лиц, добивавшихся разрешительных свиде-
тельств, предписывалось сдерживать “разумными советами” и предостережени-
ями о дороговизне пути, трудностях при устройстве на месте вселения и т.д.
В 1889 г. в Тамбовской губернии наблюдалось массовое самовольное пере-
селение. Однако благодаря действиям губернской администрации переселенцы
были “возвращены тотчас же по отбытии своем в прежнее место жительства и
водворены почти в те же условия жизни, при которых были до ухода”. Против
подстрекателей также были предприняты меры воздействия, а против главного
из них - бывшего волостного писаря Архангельского - возбуждено уголовное
преследование (Обзор Тамбовской губернии 1890: 32).
В 1890 г. в Хилковской волости Спасского уезда Тамбовской губернии при
правлении и у церквей были вывешены объявления, где указывалось, что наме-
ревавшиеся переселиться должны заявить об этом властям. Однако с наступле-
нием весны данные объявления были сорваны и волостное начальство стало
угрожать всем желавшим выселиться наказанием, а некоторые ходоки были по-
сажены под арест. Одновременно было запрещено продавать дома и покупать
избы у тех, кто заявил о желании переселения. В итоге, не засеяв ярового поля,
частью распродав избы, люди были вынуждены уйти на переселение по паспор-
там (Исаев 1891: 40-41), однако и это было непросто. Так, 77 мордовских семей
Спасского уезда посылали ходоков в Сибирь и Петербург, чтобы добиться со-
ответствующего разрешения. После того, как 31 семья его получила, волостная
администрация попыталась отговорить крестьян, запугивая их суровыми кли-
матическими условиями и т.д. В результате таких бесед часть имевших разре-
шение осталась дома, но многие отправились в путь самовольно, по паспортам,
за что старшина брал взятку в размере 3 руб. (Кауфман 1895: 252).
Осенью 1889 г. значительное число крестьян Ардатовского и Карсунского
уездов Симбирской губернии решило воспользоваться Законом 13 июля 1889 г.
и переселиться в Сибирь, о чем были поданы ходатайства. Весной следующе-
го года, когда выяснилось, что озимые почти все погибли и неблагоприятная
погода лишает надежды на урожай яровых хлебов, переселенческое движение
“приняло громадные размеры” (Шапкарин 1959: 147). Симбирский губернатор
М.Н. Теренин писал Александру II, что
в народе частью вследствие неправильного толкования Закона 13 июля 1889 г., частью
же вследствие газетных известий об учреждении Санкт-Петербургского общества для
пособия переселенцам, составилось убеждение, что переселение разрешено на казен-
ный счет, что переселенцы не только перевозятся за счет казны, но высочайше повелено
давать им на местах нового поселения весь инвентарь и что эти дарованные народу ми-
лости монарха скрываются от крестьян местными властями и помещиками из их личных
выгод, причем переселенцы самовольно продавали имущество и скот, отдавали в аренду
свои земельные наделы и с наступлением времени ярового сева совершенно отказыва-
лись от засева своих наделов, требуя немедленно отправить их на место нового поселе-
ния (Там же: 147-148).
Дальше сообщалось, что для разъяснения Закона 13 июля 1889 г. были при-
няты все необходимые меры при посредстве предводителей дворянства, зем-
ских начальников и полиции. Однако крестьяне стояли на своем, волнение на-
растало.
Много труда и энергии пришлось приложить земским начальникам, чтобы ослабить вол-
нение крестьян и заставить их засеять принадлежащие им наделы, но при всем этом
во многих селениях Ардатовского и некоторых селениях Карсунского уездов значитель-
ное число крестьян упорно продолжало держаться своих убеждений и дерзко возражало
Щанкина Л.Н. Самовольное переселение и ходачество среди мордовских крестьян...
143
увещеваниям властей, причем, когда крестьянам объявлялось, что если они будут про-
должать упорствовать, то губернатор придет с военной командой и накажет их. Крестья-
не отвечали, что у губернатора нет ни одного солдата и что без особого высочайшего
повеления ныне наказывать нельзя (Там же: 148).
В названных уездах требования о переселении на казенные земли стали еще
более настойчивыми и упорными. Местные уездные и волостные власти не в
силах были это прекратить. Многие семьи решались на переселение без раз-
решения. Военная команда в составе трех рот Сурского резервного батальона
во главе с симбирским губернатором прибыла в Ардатовский уезд на расправу.
Многие были арестованы. И только после этого здесь “переселенческое движе-
ние утихло, а затем прекратилось” (Там же: 148).
Рост самовольного переселенческого движения заставил правительство
ввести с 1896 г. систематическую регистрацию переселенцев, одновременно
предпринимая усилия по их ограничению. В рамках такой политики, например,
пензенский губернатор предписывал уездным исправникам и волостным стар-
шинам строго следить за крестьянами, принимать решительные меры к само-
вольным, задерживая и возвращая их на прежнее местожительство. В результа-
те, в частности, из д. Кочуново Саранского уезда 9 семей в числе 46 чел. выехали
на поселение в Сибирь, распродав все имущество и не имея соответствующих
документов. Однако чинами полиции на ст. Тимирязево Московско-Казанской
железной дороги 12 апреля 1900 г. они были задержаны и водворены на старое
местожительство (ГАПО: Ф. 5. Оп. 1. Д. 7126. Л. 6).
За нарушение правительственных распоряжений некоторые представители
администрации получали замечания от руководителей центральных ведомств.
Так, 9 апреля 1910 г. главноуправляющий землеустройством и земледелием по-
требовал от тамбовского губернатора объяснений, почему “на глазах у всего
начальства” происходят распродажа имущества самовольными переселенцами
и сборы их в дорогу, предложил обсудить эти факты и принять необходимые
меры. Тут же он отклонил ходатайства земств и землеустроительных комиссий
о разрешении переселить самовольцев (Скляров 1962: 140).
В течение 18 лет, т.е. за 1896-1914 гг., Тамбовская губерния дала 89 243
самовольных переселенца, что составило 56,6% к числу всех переселенцев гу-
бернии; Пензенская - 43 251, или 49,7%; Симбирская - 23 035 переселенцев,
или 57,5%. В 1907 г. с восстановлением пассажирского движения по Трансси-
бирской железной дороге проследовало много семей, получивших документы
еще накануне Русско-японской войны. Например, согласно архивным данным,
в Инсарском, Краснослободском, Наровчатском и Саранском уездах в 1904 и
1905 гг. получили разрешение на переселение 283 семьи, но выехать не смогли
в связи с названным событием. В 1907 г. самовольные переселенцы из Тамбов-
ской губернии составили 46,9%, из Пензенской - 37,8% и Симбирской - 44,6%.
Это больше чем в два раза в сравнении с количеством переселенцев из Европей-
ской России (19,7%) в целом (РГИА. Оп. 2. Д. 376. Л. 1-2).
В 1908-1909 гг., когда правительство ввело новые ограничения для пере-
селенцев, число самовольных возросло почти в два раза. В годы нового рево-
люционного подъема этот показатель оставался на довольно высоком уровне:
в Тамбовской губернии - от 41,1 до 57,0%, в Пензенской - от 29,9 до 47,5%, в
Симбирской губернии - от 31,8 до 51,3% (в Европейской России - от 39,8 до
43,2%). Хотя регистрация самовольных переселенцев велась с 1896 г., это не по-
могает в освещении вопроса о размерах явления на территории Мордовии, т.к.
данные приводились только в губернском масштабе. Известно, что с 1896 по
1914 гг. из Пензенской губернии таким образом выехали на новое местожитель-
ство 43 251 чел. (около 50% всех переселенцев из губернии); из Инсарского,
144
Этнографическое обозрение № 2, 2022
Краснослободского, Наровчатского и Саранского уездов - 32 624 чел. (РГИА.
Оп. 2. Д. 376. Л. 2-7).
Приведенные данные демонстрируют широкие размеры самовольного пе-
реселенческого движения, которое главноуправляющий землеустройством и
земледелием А.В. Кривошеин считал “главным злом”, с которым и впредь при-
дется вести самую энергичную борьбу. Переселение он сравнивал с азартной
игрой, в основе которой лежит желание “легчайшей наживы”. “Это произведет
волнение умов, стремление к несбыточным надеждам и приучит лишь крестьян
к шатанью с места на место, нигде не укрепляясь надолго, обратит их в каких-то
номадов”. Поэтому, настаивал он, следует говорить не о пере-, а о расселении
всех нуждающихся в земле. “Все эти лица, занявшись лично хлебопашеством,
будут государству одинаково полезны и уменьшат пролетариат, уже начинаю-
щий тяготеть и над нашею страною” (Цит. по: Берг 1882: 6-7).
Как отмечалось выше, целым рядом циркуляров и распоряжений принима-
лись меры к сокращению числа самовольных переселенцев. В частности, уста-
навливалось требование отказывать в разрешении тем, кто не пожелал прежде
послать ходока для выбора места и вообще для ознакомления с условиями жиз-
ни в Сибири. Предполагалось, что это сделает переселенческий процесс более
благоразумным, приведет к росту осмысленности и осторожности. Согласно
данным П.А. Столыпина и А.В. Кривошеина, “к 1910 г. уменьшился процент
самовольных переселенцев, и они уже составляют не половину всех переселен-
цев, как бывало в последние годы, а менее трети. Вероятно, это связано с облег-
чением условий ликвидации надельных земель на родине и возможности залога
наделов в Крестьянском Банке. Кроме того, в крестьянскую среду проникало
сознание того, что на переселение лучше подниматься с деньгами, а если денег
нет, то его отложить” (Столыпин, Кривошеин 1910: 4).
Одним из инструментов для распространения среди крестьян правдивых
знаний о Сибири, ее климате, природных и географических условиях стало
ходачество (Белянин 2018: 98). До середины XIX в. ходачество не вызывало
сочувствия в правящих кругах. По свидетельствам современников, “ходоки
признавались администрацией элементом весьма опасным, мутящим населе-
ние” (Куломзин 1896: 24); считались опасными агитаторами и преследовались
(Беркенгейм 1902: 14). При этом крестьянское общество выбирало ходоками
самых надежных, честных и грамотных людей, пользовавшихся у односельчан,
как писал И.А. Исаев, безграничным авторитетом. “Большей частью, это люди
средних лет от 35 до 50, но иногда выбирают людей моложе, особенно из сол-
дат, если они довольно хорошо грамоты” (Исаев 1891: 44). Как относились к
ходокам 126 семей симбирцев, переселившихся в 1891 г. в Томскую губернию,
видно из следующего примера: “Приведя партию на место и положив основа-
ние пос. Симбирскому, ходок был выбран доверенным для хлопот об отводе
участка, причем в вознаграждение ему каждая семья внесла по 1 руб. 60 коп.”;
“ходок служит у своего общества сельским писарем… и представляет собой
бескорыстного труженика для общества; всецело занятый общественными де-
лами, он за два года совершенно не имел возможности наладить свое хозяйство,
так что общество, без всякой просьбы с его стороны, собрало ему, в виде допол-
нительного вознаграждения по 1 рублю с семьи” (Кауфман 1895: 205).
По современному определению ходачество - это процесс отправки одного
из членов семьи или представителя общины на место планируемого переселе-
ния. Он имел целью наиболее подробно разведать место будущего поселения,
убедиться в его пригодности для семьи ходока и семей других членов общины
(Грицай, Яблонский 2019: 115). Такая организация переселенческого процесса
в теории должна была повысить вероятность успешной адаптации новоселов
Щанкина Л.Н. Самовольное переселение и ходачество среди мордовских крестьян...
145
на новых местах поселения. Ходачество должно было способствовать тому,
чтобы переселение стало для крестьян продуманным и взвешенным поступком
(Белянин 2018: 98).
В 1860-1880-е годы ходачество среди мордвы было развито слабо. Из опро-
сных листов переселенцев, проходивших через Симбирск и Батраки, видно, что
в 1882-1885 гг. большинство из них шло по приглашению родных и знакомых,
часть ориентировалась на слухи, и лишь некоторые отправлялись в путь после
предварительной разведки ходоками, действовавшими от семьи или общества
в целом. В частности, в 1867 г. мордва из Мокшалейской волости Саранского
уезда на поиски места для переселения направляла трех ходоков в Томскую
губернию. Они осмотрели территорию, где жили их земляки, выбрали участок,
и туда вскоре прибыли 15 семей (Кауфман 1895: 197). В 1883 г. 28 семей из
Краснослободского уезда Пензенской губернии (ныне Республика Мордовия)
переселились в Томскую губернию. Они также сначала посылали ходока, кото-
рый договорился с обществом об их причислении “за вознаграждение” по 6 руб.
20 коп. с души. В 1884 г. ходок из Темниковского уезда за свой счет предпринял
поездку в Томскую губернию, в результате чего две партии из уезда отправи-
лись на переселение: в 1884 и 1889 гг. (РГИА. Оп. 1. Д. 8. Л. 87-88).
Большего размаха ходачество достигло в начале 1890-х годов. Так, в 1891 г.
крестьяне разных сел Спасского уезда послали в Томскую губернию двух хо-
доков, дав им по 30 руб. на дорогу. Третий же отправился с ними за свой счет.
В результате 77 семей подали прошение о переселении (Кауфман 1895: 252).
В 1892 г. в с. Валериановское Томской губернии прибыли пять ходоков и одна
семья в полном составе из Наровчатского уезда Пензенской губернии (Кауфман
1895: 146), а в п. Калачевский Тобольской губернии по указаниям ходоков пере-
селились 14 семей симбирцев (Материалы для изучения 1895: 387).
Нередко крестьяне отправлялись ходоками под видом занятия отхожими
промыслами. Например, в 1883 г. пять крестьян Рыбкинской волости Крас-
нослободского уезда Пензенской губернии, выхлопотав документы, под видом
найма на работу отправились в Томскую губернию. Главной же их целью было
“подыскать место под поселение” (РГИА. Оп. 1. Д. 8. Л. 12-13). В Тамбовской
губернии подобных ходоков в 1899 г. было зарегистрировано 315, или 6,7% хо-
дачества; в 1900 - 309, или 17,5%; в 1901 - 499, или 28,2%; в 1902 - 53, или
2,6%, и в 1903 г. - 52, или 5,1% (ГАПО: Ф. 53. Оп. 1. Д. 1355. Л. 156-157).
В некоторых случаях местные власти, чтобы задержать самовольное пере-
селение, требовали предварительной посылки ходоков. Так, когда в 1891 г. в
д. Гузынцы Саранского уезда Симбирской губернии (ныне Большеберезников-
ский район Мордовии) в результате пожара сгорел 51 двор, почти вся деревня
стала разъезжаться. Однако земский начальник не дозволял отправляться на пе-
реселение до тех пор, пока кто-либо от каждой семьи не осмотрит “новых мест”
(Кауфман 1895: 198). В 1897 г. два ходока из Засечной Слободы Инсарского уез-
да Пензенской губернии (ныне Инсарский район Мордовии) и два из д. Судосево
Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне Большеберезниковский район
Мордовии) побывали в Тобольской и Томской губерниях соответственно, где за-
числили за собой участки. В 1899-1903 гг. из Спасского уезда прошло 93 ходока
от 926 селян, из Темниковского - 393 от 4 944 (РГИА. Оп. 2. Д. 110. Л. 164-170).
Рост самовольного переселенческого движения вынудил царское правитель-
ство принять некоторые законоположения о предварительной посылке ходоков.
Их учет стал производиться только с 1896 г., также в погубернском разрезе.
В 1896 г. при Министерстве внутренних дел было создано Переселенческое
управление (в мае 1905 г. Переселенческое управление было изъято из подчине-
ния Министерства внутренних дел и поступило в ведение Главного управления
146
Этнографическое обозрение № 2, 2022
землеустройства). В обязанности нового управления входило: ведение общего
руководства переселением и попечение о первоначальном устройстве пересе-
ленцев на местах водворения; выдача разрешений на переселение; заведывание
кредитами на переселенческое дело и т.д.
В конце XIX - начале XX вв. принимается ряд законов, которые оказа-
ли важное влияние на переселенческое движение. В частности, по закону от
15 апреля 1896 г. выдача путевых ссуд на проезд в оба конца гарантировалась
всем следующим на переселение, в том числе тем, кто следовал без официаль-
ного разрешения. Указанный закон уже не грозил самовольным переселенцам
отправкой на родину. Они размещались на отведенных участках, но только в
случае наличия свободных мест. По этому закону самовольные переселенцы
лишались льгот на отбывание воинской повинности и льгот по списанию не-
доимок, но их выплата рассрочивалась на десять лет (ПСЗРИ 1899: 289-290).
6 июня 1904 г. были учреждены “Временные правила о добровольном пе-
реселении сельских обывателей и мещан-землевладельцев”. По данному зако-
ну, согласно ст. 7 лица, получившие разрешение на переселение с содействием
правительства, должны были отправить для выбора и зачисления за ними зе-
мельных участков ходоков по одному от каждой семьи или от нескольких семей
(участки зачислялись за переселенцами на два года) (ПСЗРИ 1907: 604).
В течение 18 лет (с 1896 по 1914 гг.) Тамбовская губерния направила для пред-
варительного осмотра земельных участков 63 146 ходоков, Пензенская - 36 730,
Симбирская - 38 110 ходоков. В период с 1896 по 1905 гг. их было отправлено из
Тамбовской губернии 31,7% от общего числа, из Пензенской - 24,3%, из Сим-
бирской - 33,4%. Они посылались как от своих семей (в абсолютном большин-
стве), так и от групп доверителей. За указанный период семейные ходоки Там-
бовской губернии составляли 90,3%, Пензенской - 86,5%, Симбирской - 95,3%.
В период с 1906 по 1914 гг. семейная форма ходачества также преобладала, хотя
в сравнении с первым периодом эти показатели несколько снизились: в Тамбов-
ской губернии - 89,9%, в Пензенской - 82,7%, в Симбирской - 93,4% (РГИА.
Оп. 3. Д. 1063. Л. 154).
Абсолютное преобладание семейного ходачества над групповым неслучай-
но. Если в 1860-1890-е годы общество крестьян направляло отдельного ходока
или их группу, то можно было быть уверенными, что на огромных просторах
Сибири найдется подходящий участок под переселение, т.е. групповое ходаче-
ство оправдывало себя. Однако к началу XX в. лучшие земли уже были заняты,
и найти участок, пригодный под заселение большой переселенческой парти-
ей, представлялось трудной задачей. Подобрать участок представителю семьи
было легче, в крайнем случае он мог договориться со старожильческим или пе-
реселенческим обществом и получить от них приемный приговор. Таким обра-
зом, сама жизнь заставляла крестьян отказываться от группового ходачества, а
мероприятия правительства, разрешавшие эту форму, на практике способство-
вали ограничению переселенческого движения.
Среди ходоков, как и среди переселенцев, выделялись законные и самоволь-
ные. К первым относились те, которые соглашались идти на осмотр земель в
районы, предложенные администрацией. Они проходили длительную процеду-
ру оформления соответствующих документов, иногда получали незначитель-
ное пособие на проезд. В число вторых попадали остальные, самостоятельно
выбравшие районы для поиска земли. Кроме того, к разряду последних чинов-
ники Переселенческого управления и крестьянские начальники причисляли хо-
доков из числа законных, которые, прибыв на Челябинский переселенческий
пункт и узнав, что свободной земли на отводимой территории уже не осталось,
отправлялись в другие места.
Щанкина Л.Н. Самовольное переселение и ходачество среди мордовских крестьян...
147
При выборе между несколькими ходоками и переселенцами, желающими
получить один и тот же участок, переселенческая организация руководствова-
лась временем прибытия, отдавая предпочтение ранее пришедшим, а в местно-
стях, где производилась продажа переселенческих участков - еще и размерами
предлагаемых в счет покупной цены задатков (Столыпин, Кривошеин 1910: 6).
После зачисления за ходоком душевых долей он мог прибыть на указанный уча-
сток и занять свой надел в течение двух лет. Если же он этого не делал, то его
земельный надел мог быть передан другому. В 1910 г. срок прибытия на пересе-
ленческий участок был сокращен до одного года (Белянин 2003).
Самовольное ходачество не прекращалось ни в конце XIX, ни в начале XX вв.
Всего за период с 1896 по 1914 гг. Пензенская губерния дала 35,2%, Симбирская -
36,2%, Тамбовская - 21% самовольных ходоков. Особенно большой их про-
цент отмечался в 1896-1905 гг.: соответственно 88,2%; 73,8% и 22,0%. В годы
Первой мировой войны эти показатели резко снизились: из Пензенской губер-
нии за 1915-1917 гг. пришли в Сибирь только 158 ходоков, из Тамбовской - 24,
из Симбирской - 11 ходоков (РГИА. Оп. 3. Д. 1063. Л. 158-161).
10 марта 1906 г. вышли временные правила, по которым посылка ходоков
для осмотра и зачисления в Азиатской России разрешалась беспрепятственно.
Ходоки имели право на льготный железнодорожный проезд и беспрепятствен-
ное получение документов для такого проезда (Сборник узаконений и распоря-
жений 1907: 22). П.А. Столыпин признал систему организованного ходачества
непрактичной и пришел к выводу, что ее не улучшить, что она тяготит крестьян
и должна быть отменена и что необходимо восстановить свободу ходаческого
движения. Предложение П.А. Столыпина о восстановлении свободы ходачества
было выполнено - 4 марта 1911 г. положением Совета Министров полная свобода
ходачества была восстановлена. В августе ГУЗиЗ подтвердило право посылать
ходоков для всех крестьянских или мещанских семей. Ходокам предоставлялся
льготный проезд в избранные места и обратно. В целях устранения затруднений
в получении надлежащих документов для ходоков 12 июля 1912 г. было утверж-
дено положение о порядке переселения за Урал. Теперь ходаческие свидетельства
должны были выдаваться всем крестьянам беспрепятственно как по месту при-
числения, так и по месту временного проживания (Белянин 2018: 103).
Отсутствие поуездных данных затрудняет определение размеров ходачества
из Мордовии. Тем не менее, установлено, что в 1906 г. 29 семей в числе 202 душ
обоего пола из с. Папулева Ардатовского уезда Симбирской губернии (ныне
Ардатовский район Мордовии) посылали ходоков в Енисейскую губернию и
по их возвращении подали ходатайство о зачислении за ними участка (РГИА.
Оп. 3. Д. 1063. Л. 130). В том же году жители сел Луньг-Майдан и Папулева
Ардатовского уезда, в количестве пяти чел., подали ходатайство о выдаче им
необходимых документов на следование в Уральскую и Енисейскую губернии
(РГИА. Оп. 3. Д. 997. Л. 7). В 1907 г. 30 ходоков из Спасского и девять из Темни-
ковского уездов получили путевые ссуды в различных пунктах Сибири (ГАПО:
Ф. 45. Оп. 1. Д. 40. Л. 13, 15).
В период с 1908 по 1910 гг., т.е. за три года, из Инсарского, Краснослобод-
ского, Наровчатского и Саранского уездов на территорию Сибири прибыли 868
ходоков для зачисления 6 896 долей. Кроме того, в разные годы было отправ-
лено из Ардатовского 180 ходоков, Спасского - четыре, Темниковского - 16,
Алатырского - 75, Карсунского - 42, из Лукояновского уезда - 35 ходоков.
По данным Обзора Симбирской губернии за 1911 г., 643 ходока были посланы из
Ардатовского уезда (РГИА. Оп. 3. Д. 1064. Л. 273-274, 337, 516, 537). В 1912 г.
по двум земским участкам Спасского уезда было выдано 94 ходаческих свиде-
тельства, по Темниковскому - 138 (РГИА. Оп. 3. Д. 1599. Л. 287, 295). В 1913 г.
148
Этнографическое обозрение № 2, 2022
из Инсарского, Краснослободского, Наровчатского и Саранского уездов насчи-
тывалось 3 803 ходока от 5 517 семей и 38 899 душ обоего пола, что составило
около 2/3 ходоков Пензенской губернии. Кроме того, на 1913 г. Ардатовская
землеустроительная комиссия запросила 1000 ходаческих свидетельств, Кар-
сунская - 1000, Спасская - 370, Темниковская - 220 (ГАПО: Ф. 45. Оп. 1. Д. 398.
Л. 6-7, 12, 14).
В 1914 г. Симбирская губернская землеустроительная комиссия затребовала
у Переселенческого управления 19 700 ходаческих свидетельств, из них для Ар-
датовского уезда 1500, Алатырского - 3800, для Карсунского - 300. По Спасско-
му уезду было получено около 1000 ходаческих свидетельств, по двум земским
участкам Темниковского уезда - 130. Аналогичные документы были предостав-
лены и трем другим земским участкам Темниковского уезда, но начальники не
сообщили их количество. На запрос Тамбовского губернатора о количестве не-
обходимых документов Спасская землеустроительная комиссия ответила, что
на 1915 г. потребуется 100 ходаческих свидетельств и удовлетворений к ним,
Темниковская - что “остатка переселенческих документов для удовлетворе-
ния полугодовой потребности будет вполне достаточно” (РГИА. Оп. 4. Д. 368.
Л. 2-3, 7-9, 14-16). Таким образом, только за 1908-1913 гг. по далеко не пол-
ным данным из уездов Мордовии было отправлено около 6000 законных ходо-
ков. Однако в большинстве случаев они возвращались на родину без зачисления
земельных участков.
Следует отметить, что история крестьянских переселений тесно связана со
строительством Сибирской железной дороги, которое потребовало заселения
огромной территории и дало возможность безземельному крестьянству дви-
нуться к просторам Сибири.
Существенную роль в развитии переселенческого дела сыграл Комитет Си-
бирской железной дороги (учрежден 10 декабря 1892 г.), одним из направле-
ний деятельности которого стало оказание планомерного правительственного
содействия переселенцам. Согласно данным С.К. Канн, «Витте предлагал от-
водить участки переселенцам, ориентируясь на местоположение будущих стан-
ций, делать их “центрами новых поселений”, “заблаговременно производить
межевые и съемочные работы”, “с соответственными изысканиями в отноше-
нии качества земли и воды и других условий, имеющих первостепенное значе-
ние для благосостояния поселенцев”» (Канн 2020: 96).
Закон от 15 апреля 1896 г. ввел льготный железнодорожный тариф для пе-
реселенцев и ходоков (ПСЗРИ 1899: 290). Кроме того, Комитет организовал
снабжение переселенцев необходимыми предметами хозяйственного обихода;
занимался сопровождением переселенческих поездов санитарными вагонами и
проведением медицинских осмотров на некоторых станциях; проявлял заботу о
духовной жизни переселенцев (при канцелярии Комитета был открыт сбор по-
жертвований на образование капитала для постройки церквей и школ в районе
сибирской железной дороги); занимался оказанием материальной помощи пе-
реселенцам (ссуда на хозяйственное устройство, на общеполезные надобности).
Комитет был закрыт “в виду Манифеста” 17 октября 1905 г. и “завершения глав-
нейших трудов, возложенных на Комитет Сибирской железной дороги” (Зуева
2016: 53-55, 74).
В России 1880-1890-е годы известны как период перехода правительства к
консервативно-реакционному курсу, что выразилось, в том числе, в обострении
переселенческого вопроса. Самовольное переселение крестьян не приветство-
валось, однако этот процесс не прекращался на протяжении всей имперской
истории, и в Сибири постоянно выявлялись новые люди, самовольно пришед-
шие сюда из центра страны.
Щанкина Л.Н. Самовольное переселение и ходачество среди мордовских крестьян...
149
Запретительная политика не могла остановить набиравшее силу пересе-
ленческое движение. В XIX и даже в начале XX в., не считаясь с запретами,
крестьяне не переставали прибывать на все еще официально закрытые “вну-
тренние” земли Сибири. По решению правительства все подобные самовольцы,
пришедшие на указанную территорию с 1895 г., наделялись казенной землей и
обеспечивались пособиями.
На регулирование этого важного вопроса правительство обратило присталь-
ное внимание только в 1890-е годы, в связи с чем были изданы многочисленные
распоряжения и циркуляры. Руководство страны разными способами препят-
ствовало самовольному переселению: введением требования о предваритель-
ной посылке ходоков, которых по возвращении подкупали; выдачей паспортов с
разнообразными оговорками; возвращением на прежнее местожительство; взи-
манием денежных средств; привлечением к ответственности (административ-
ной, уголовной) не только крестьян, но и местной власти, которой, в том числе,
предписывалось сдерживать людей беседами и советами. Предполагалось, что
это сделает переселенческий процесс более благоразумным, приведет к росту
осмысленности и осторожности. Однако, несмотря на все эти меры, с конца
XIX в. количество самовольных переселенцев и ходоков возросло.
Переселенческая кампания сопровождалась возникновением института хо-
дачества. Ходоками назывались люди, которые выбирались сельскими общи-
нами или отдельными семьями и посылались к уездным, губернским и другим
администрациям с поручением добиваться решения тех или иных социальных,
экономических, культурных и других вопросов. Помощь государства, оказы-
ваемая в первую очередь скооперировавшимся хозяйствам, и взаимопомощь
членов переселенческих товариществ являлась немаловажной и существенной
опорой в деле обустройства и адаптации переселенцев к новым условиям жиз-
недеятельности.
Источники и материалы
ГАПО - Государственный архив Пензенской области.
Кауфман А.А. Хозяйственное положение переселенцев, водворенных на казен-
ных землях Томской губернии, по данным произведенного в 1894 г., по по-
ручению г. Томского губернатора, подворного исследования. Т. 1: Описания
отдельных поселков и поселенные таблицы, ч. 1: [Хозяйственное положе-
ние переселенцев в поселках и приселениях Мариинского округа]: [опи-
сания поселков и приселений, поселенные таблицы]. СПб.: Типография В.
Безобразова и Кo, 1895.
Кауфман А.А. Хозяйственное положение переселенцев, водворенных на казен-
ных землях Томской губернии, по данным произведенного в 1894 г., по по-
ручению г. Томского губернатора, подворного исследования. Т. 1: Описания
отдельных поселков и поселенные таблицы, ч. 3: [Хозяйственное положение
переселенцев в поселках и приселениях Каинского округа]. Т. 2: Итоговые и
комбинационные таблицы, ч. 1. СПб.: Типография В. Безобразова и Кo, 1896.
Материалы для изучения 1895 - Материалы для изучения быта переселенцев, во-
дворенных в Тобольскую губернию за 15 лет (с конца 70-х годов по 1893 год).
Т. 1.: Историко-статистическое описание: 100 поселков / Предисл. А. Станке-
вича. М.: Типография Общества распространения полезных книг, 1895.
Обзор Тамбовской губернии 1890 - Обзор Тамбовской губернии за 1889 г. При-
ложение ко всеподданейшему отчету Тамбовского губернатора. Тамбов:
Типография Губернского правления, 1890.
ПСЗРИ 1830 - Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Пер-
150
Этнографическое обозрение № 2, 2022
вое собрание. Т. 38 (1822-1823). Санкт-Петербург: Типография II Отделения
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. № 28997.
ПСЗРИ 1846 - Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе.
Т. 20. Отделение первое 1845. Санкт-Петербург: Типография II Отделения
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1846. № 19283.
ПСЗРИ 1891 - Полное собрание законов Российской империи. Собрание тре-
тье. Т. 9. 1889. Санкт-Петербург: Типография II Отделения Собственной Его
Императорского Величества Канцелярии, 1891. № 6198.
ПСЗРИ 1899 - Полное собрание законов Российской империи. Собрание
третье. Т. 16. 1896. Отделение 1. Санкт-Петербург, 1899. № 12777.
ПСЗРИ 1907 - Полное собрание законов Российской империи. Собрание
третье. Т. 24. 1904. Отделение 1. Санкт-Петербург, 1907. № 24701. РГИА -
Российский государственный исторический архив. Ф. 391.
Сборник узаконений и распоряжений 1907 - Сборник узаконений и распоряже-
ний о водворении переселенцев и образовании переселенческих участков.
Санкт-Петербург: Типография Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1907.
Свод законов Российской империи 1857 - Свод законов Российской империи,
издания 1857. Т. 13. Ч. 2. Уставы о городском и сельском хозяйстве, о бла-
гоустройстве в казенных и казачьих селениях, и о колониях иностранцев в
империи. Санкт-Петербург: Типография Второго Отделения Собственной
Его Императорского Величества Канцелярии, 1857. С. 1-102.
Сибирские переселения 2006 - Сибирские переселения. Вып. 2: Комитет Сибир-
ской железной дороги как организатор переселений. Сборник документов.
Столыпин, Кривошеин 1910 - Столыпин П.А., Кривошеин А.В. Записка Пред-
седателя Совета Министров и главноуправляющего землеустройством и
земледелием о поездке в Сибирь и Поволжье в 1910 году: (приложение к
всеподданнейшему докладу). СПб.: Государственная типография, 1910.
Шапкарин 1959 - Крестьянское движение в России в 1890-1900 гг.: сборник
документов / Под ред. А.В. Шапкарина. М.: Соцэкгиз, 1959.
Научная литература
Белянин Д.Н. Организованное ходачество как инструмент государственно-
го регулирования переселенческого движения в Сибирь в начале XX в. //
Сибирь в изменяющемся мире. История и современность: материалы все-
российской научно-теоретической конференции с международным участи-
ем, посвященной 105-ой годовщине со дня рождения доктора исторических
наук, профессора Всеволода Ивановича Дулова и 90-летию его ученика,
доктора исторических наук, профессора Виктора Григорьевича Тюкавкина
(Иркутск, 25 апреля 2018 г.) / Отв. ред. Л.В. Занданова. Иркутск: Оттиск,
2018. С. 97-104.
Белянин Д.Н. Столыпинская переселенческая политика в Томской губернии
(1906-1914 гг.). Кемерово: ГУ КузГТУ, 2003.
Берг И.Н. По вопросу о переселении крестьян. СПб.: Типография товарищества
“Общественная польза”, 1882.
Беркенгейм А.М. Переселенческое дело в Сибири: (По личным наблюдениям и
официальным данным). М.: Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнарев
и Ко, 1902.
Грицай В.В., Яблонский И.В. Основные тенденции развития миграционных про-
цессов в Российской империи в конце XIX - начале ХХ в. // Общество и
право. 2019. № 1(67). С. 114-118.
Щанкина Л.Н. Самовольное переселение и ходачество среди мордовских крестьян...
151
Зуева Н.С. Переселенческая политика российского правительства на Дальнем
Востоке в период столыпинских реформ. Дисс. … канд. ист. наук. Москов-
ский педагогический государственный университет. Москва, 2016.
Исаев А.А. Переселения в русском народном хозяйстве. СПб.: А.Ф. Цинзерлинг, 1891.
Канн С.К. Комитет Сибирской железной дороги и научное обеспечение пересе-
ленческого дела // Иркутский историко-экономический ежегодник. Иркутск,
2020. С. 93-102.
Кауфман А.А. Переселение и колонизация. СПб.: Типография товарищества
“Общественная польза”, 1905.
Кауфман А.А. Сборник статей: Община. Переселение. Статистика. М.: Изда-
тельство Г.А. Леман и Б.Д. Плетнев, 1915.
Кирьяков В.В. Очерки по истории переселенческого движения в Сибирь (в свя-
зи с историей заселения Сибири). М.: Книжное дело, 1902.
Куломзин А.Н. Всеподданейший отчет статс-секретаря Куломзина по поездке в
Сибирь для ознакомления с положением переселенческого дела. СПб.: Госу-
дарственная типография, 1896.
Скляров Л.Ф. Переселение и землеустройство в Сибири в годы столыпинской
аграрной реформы. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1962.
Щанкина Л.Н. Мордва на территории Западной Сибири во второй половине
XIX - начале XX века: некоторые проблемы переселения и обустройства //
Археология, этнография и антропология Евразии. 2019. Том 47. № 3.
R e s e a r c h A r t i c l e
Shchankina, L.N. Unauthorized Resettlement and Walking of the Mordovian
Peasants of the Volga Region to the State Lands of Siberia in the 19th - Early 20th
Centuries [Samovol’noe pereselenie i khodachestvo sredi mordovskikh krest’ian
Povolzh’ia na kazennye zemli Sibiri v XIX - nachale XX v.]. Etnograficheskoe
EDN: HSCZVA ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute of
Ethnology and Anthropology RAS
Plekhanov Russian University of Economics (Stremyanny lane 36, Moscow, 117997, Russia)
Abstract
The article examines unauthorized resettlements and walking among the Mordovians
of the Volga region in the 19th - early 20th centuries, as well as the influence exerted
by government policies on this process in order to steer it in the “right direction”.
I discuss the main reasons for unauthorized resettlement and walking, the numbers, and
the participation of authorities in solving problems that arose during the resettlement.
Drawing on the analysis of archival and literary sources, I argue that the unauthorized
relocation of the Mordovians from the Volga region, which began in 1838 and lasted
until the end of the 19th century, was numerically insignificant and was associated
with the government’s policy aimed at reducing the number of unauthorized people
who arrived in Siberia. Walking during the period of the 1860-80s developed poorly
and did not reach a greater extent until the early 1890s. The principal constraints
were that, on the one hand, walkers were considered socially dangerous and were
persecuted by the authorities; on the other hand, not every peasant could agree to
leave his family and engage in public affairs, despite some funding from future
immigrants. The main issues that walkers tried to solve were the search for new
152
Этнографическое обозрение № 2, 2022
territories for resettlement and the choice of land suitable for agriculture. Throughout
the existence of this phenomenon, the family form of walking prevailed.
Keywords
Siberia, Volga region, unauthorized resettlement, walkers, walker movement,
Mordovians, immigrants
References
Belyanin, D.N. 2018. Organizovannoe khodachestvo kak instrument gosudarstvennogo
regulirovaniia pereselencheskogo dvizheniia v Sibir’ v nachale XX v. [Organized
Walking as an Instrument of State Regulation of the Resettlement Movement to
Siberia at the Beginning of the XXth Century]. In Sibir’ v izmeniaiushchemsia
mire. Istoriia i sovremennost’: materialy vserossiiskoi nauchno-teoreticheskoi
konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, posviashchennoi 105-oi godovshchine
so dnia rozhdeniia doktora istoricheskikh nauk, professora Vsevoloda Ivanovicha
Dulova i 90-letiiu ego uchenika, doktora istoricheskikh nauk, professora Viktora
Grigor’evicha Tiukavkina (Irkutsk, 25 aprelia 2018 g.) [Siberia in a Changing
World. History and Modernity: Proceedings of the All-Russian Scientific and
Theoretical Conference with International Participation Dedicated to the 105th
Anniversary of Doctor of History, Professor Vsevolod Ivanovich Dulov and the
90th Anniversary of His Disciple, Doctor of History, Professor Viktor Grigoryevich
Tyukavkin (Irkutsk, 25.04.2018)], edited by L.V. Zandanova, 97-104. Irkutsk:
Ottisk.
Belyanin, D.N. 2003. Stolypinskaia pereselencheskaia politika v Tomskoi gubernii
(1906-1914 gg.)
[Stolypin Resettlement Policy in the Tomsk Province
(1906-1914)]. Kemerovo: GU KuzGTU.
Berg, I.N. 1882. Po voprosu o pereselenii krest’ian [On the Question of the Resettlement
of Peasants]. St. Petersburg: Tipografiia tovarishchestva “Obshchestvennaia
pol’za”.
Berkengeim, A.M. 1902. Pereselencheskoe delo v Sibiri: (Po lichnym nabliudeniiam
i ofitsial’nym dannym) [Resettlement Case in Siberia: (According to Personal
Observations and Official Data)]. Moscow: Tipo-litografiia Tovarishchestva
I.N. Kushnarev i Ko.
Gritsai, V.V., and I.V. Yablonskii. 2019. Osnovnye tendentsii razvitiia migratsionnykh
protsessov v Rossiiskoi imperii v kontse XIX - nachale XX v. [The Main Trends
in the Development of Migration Processes in the Russian Empire in the Late
XIX - Early XX Centuries]. Obshchestvo i pravo 1 (67): 114-118.
Zueva, N.S. 2016. Pereselencheskaia politika rossiiskogo pravitel’stva na Dal’nem
vostoke v period stolypinskikh reform [Resettlement Policy of the Russian
Government in the Far East during the Stolypin Reforms]. PhD diss., Moskovskii
pedagogicheskii gosudarstvennyi universitet.
Isaev, A.A. 1891. Pereseleniia v russkom narodnom khoziaistve [Resettlement in the
Russian National Economy]. St. Petersburg: A.F. Tsinzerling.
Kann, S.K. 2020. Komitet Sibirskoi zheleznoi dorogi i nauchnoe obespechenie
pereselencheskogo dela [Siberian Railway Committee and Scientific Support for
Resettlement]. In Irkutskii istoriko-ekonomicheskii ezhegodnik, 93-102. Irkutsk.
Kaufman, A.A. 1915. Sbornik statei: Obshchina. Pereselenie. Statistika [Collection
of articles: Community. Relocation. Statistics]. Moscow: Izdatel’stvo G.A.
Leman i B.D. Pletnev.
Kaufman, A.A. 1905. Pereselenie i kolonizatsiia [Resettlement and colonization].
St. Petersburg: Tipografiia tovarishchestva “Obshchestvennaia pol’za”.
Kir’iakov, V.V.
1902. Ocherki po istorii pereselencheskogo dvizheniia v Sibir’
Щанкина Л.Н. Самовольное переселение и ходачество среди мордовских крестьян...
153
(v sviazi s istoriei zaseleniia Sibiri) [Essays on the history of the resettlement
movement in Siberia (in connection with the history of the settlement of Siberia)].
Moscow: Knizhnoe delo.
Kulomzin, A.N.
1896. Vsepoddaneishii otchet stats-sekretaria Kulomzina po
poezdke v Sibir’ dlia oznakomleniia s polozheniem pereselencheskogo dela
[The Most Recent Report of State Secretary Kulomzin on a Trip to Siberia to
Familiarize Himself with the Situation of the Resettlement Case]. St. Petersburg:
Gosudarstvennaia tipografiia.
Skliarov, L.F. 1962. Pereselenie i zemleustroistvo v Sibiri v gody stolypinskoi
agrarnoi reformy [Resettlement and Land Management in Siberia during the
Years of Stolypin Agrarian Reform]. Leningrad.: Izdatel’stvo Leningradskogo
universiteta.
Shchankina, L.N. 2019. Mordva na territorii Zapadnoi Sibiri vo vtoroi polovine
XIX - nachale XX veka: nekotorye problemy pereseleniia i obustroistva
[Mordvins in Western Siberia in the Late 19th to Early 20th Century: Certain
Issues in the Migration and Settlement]. Arkheologiia, etnografiia i antropologiia