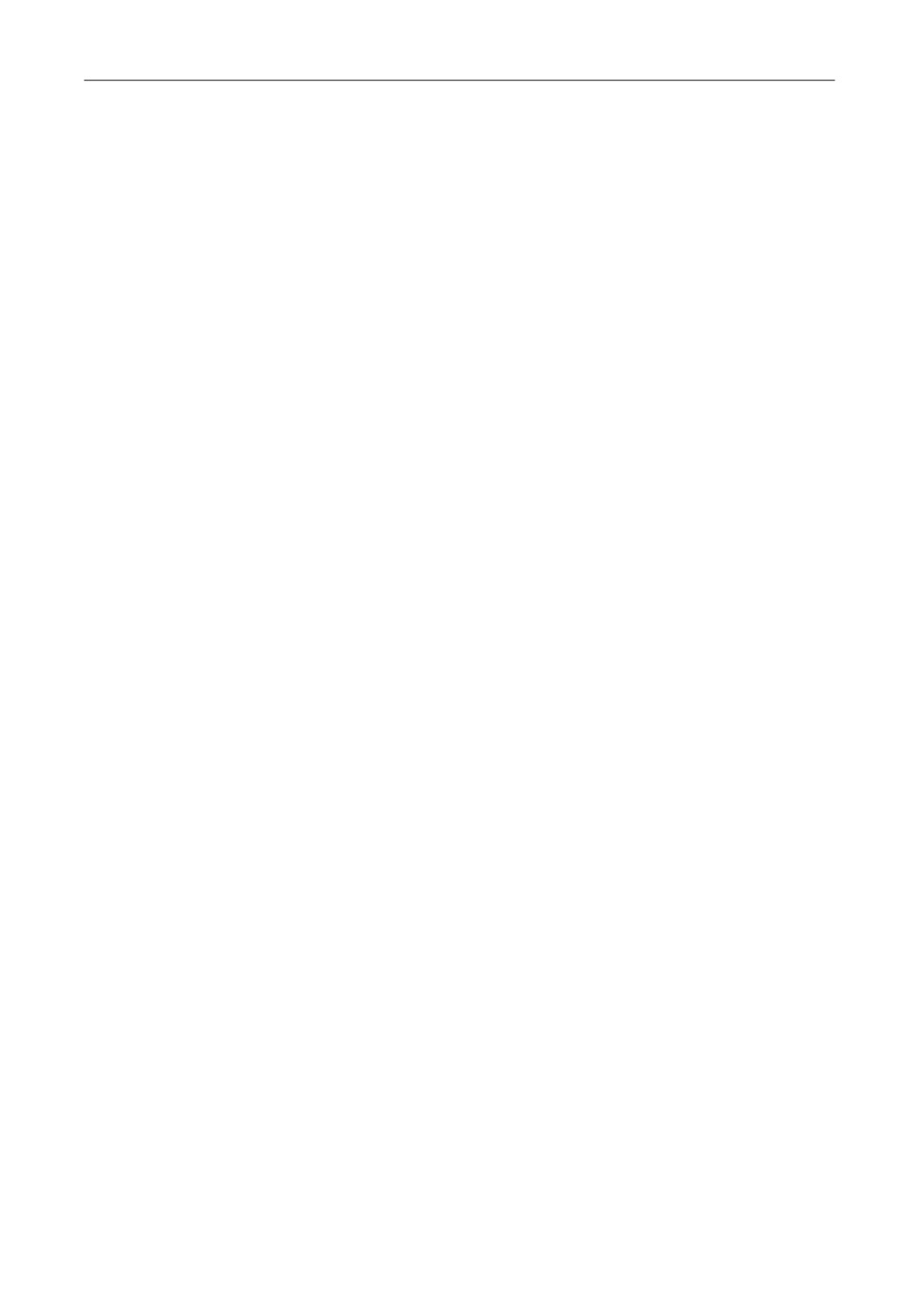ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТИ
ТРАНСФОРМАЦИЯ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА В СССР:
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО СОВРЕМЕННЫМ ВОСПОМИНАНИЯМ
О СОВЕТСКОМ ДЕТСТВЕ
Б.В. Куприянов, А.А. Порохова
yandex.ru | д. пед. н., профессор департамента педагогики Института педагогики и психоло-
гии образования | Московский городской педагогический университет (2-й Сельскохозяй-
ственный проезд 4, Москва, 129226, Россия)
gmail.com | студентка Института педагогики и психологии образования | Московский город-
ской педагогический университет (2-й Сельскохозяйственный проезд 4, Москва, 129226,
Россия)
Ключевые слова
СССР, история детства, советское детство, мемуары, антропология праздника, устная
история
Аннотация
Изучая историю советского детства, особое внимание следует обратить на ключевые
события, сопровождавшие ребенка в течение годового цикла (в отечественной тради-
ции на первом месте находится празднование Нового года). Длительная эволюция этого
главного праздника и оформление соответствующих культурных практик завершается
во второй половине ХХ в. Значение исследования празднования Нового года советски-
ми детьми состоит в том числе и в его определяющем влиянии на повседневную жизнь
нескольких поколений - как в семьях, проживающих на постсоветском пространстве,
так и в семьях эмигрантов из СССР. В этом смысле становится чрезвычайно интерес-
ным изучение трансформации культурного содержания и символического выражения
празднования Нового года в контексте сложного взаимодействия дореволюционных
городских традиций и влияния советского праздничного проекта. Эмпирическая часть
исследования включает интерпретацию 139 полуструктурированных нарративно-ориен-
тированных интервью, собранных в восьми городах РФ у лиц 1946-1977 г.р., и анализ
мемуарной литературы. В результате изучения широкого круга источников в культурном
содержании празднования Нового года удалось выявить преобладание семейного и дет-
ского контекстов, представляющих модификацию рождественской традиции.
Статья поступила 04.09.2021 | Окончательный вариант принят к публикации 14.11.2021
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Куприянов Б.В., Порохова А.А. Трансформация новогоднего праздника в СССР: реконструкция
по современным воспоминаниям о советском детстве // Этнографическое обозрение. 2022. № 3.
Kupriyanov, B.V., and A.A. Porokhova. 2022. Transformatsiia novogodnego prazdnika v SSSR:
rekonstruktsiia po sovremennym vospominaniiam o sovetskom detstve [Transformation of the New
Year’s Holiday in the USSR: Reconstruction Based on Modern Memories of Soviet Childhood].
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
Куприянов Б.В., Порохова А.А. Трансформация новогоднего праздника в СССР...
177
разднование Нового года занимает особое положение в жизни наших со-
отечественников как минимум в последние полвека. Этот праздник обра-
П
щает на себя внимание следующим обстоятельством: он являлся самым
партикулярным из всех отмечавшихся в СССР общенародных торжеств. Упо-
рядоченная новогодним праздником реальность последние полвека определяет
жизнь населения на постсоветском пространстве и на других территориях, где
поселились выходцы из СССР, поэтому чрезвычайно интересным представля-
ется изучение трансмиссии соответствующих культурных практик, которые до
сих пор существенно влияют на модели поведения и идентичность многих мил-
лионов людей, носителей памяти о советском периоде истории России.
Методологические ориентиры изучения данной проблематики заложила
Н.Б. Лебина, осветив культурные практики празднования Рождества и Нового
года жителями крупных российских городов в ХХ в., определив обусловленные
политикой большевиков изменения в быту населения, изложив этапы отноше-
ния советской власти к Новому году (Лебина 2019: 129). Существенный вклад в
изучение представленной темы вносит книга А.А. Сальниковой, где автор рас-
сматривает историю новогодней елочной игрушки как трансформацию русских
рождественских традиций в процессе насаждения советской праздничной куль-
туры, предлагает определение цели празднования Нового года - “дарить людям
духовную и телесную радость”, описывает общую детско-взрослую празднич-
ную повседневность и т.д. (Сальникова 2011: 8-9). Исследованию новогодних
праздников в СССР посвящен широкий круг работ: так, Е.В. Шульга на основе
анализа публикаций в педагогических журналах представила эволюцию празд-
нования Рождества и Нового года, которая происходила последние два столе-
тия, уделив большое внимание новогодним мероприятиям, организуемым на
публичных площадках. История и мифология рождественской елки исследова-
на Е.В. Душечкиной на основе мемуарных и других исторических и литератур-
ных источников (Душечкина 2002). Диалектика неизменности-изменяемости,
вариативности-инвариантности Нового года и его атрибутики на примере со-
ветских и постсоветских учебников показана Т.С. Симяном. В работах этого ав-
тора рассматривается трансформация праздника в советскую и постсоветскую
эпохи (Симян 2018б: 54). А. Прашинская раскрыла содержательные аспекты
Нового года, проанализировав культурные практики, которые реализуют в Из-
раиле выходцы из СССР, вынужденные отстаивать актуальные праздники в
ситуации противоречивого отношения к ним сторонников традиционной изра-
ильской культуры (Prashizky 2020). Общие подходы к пониманию праздника в
СССР как объекта проектирования представила в своей монографии Е.В. Ба-
рышева (Барышева 2020). В статье Т.Н. Козиной и Н.В. Ларюшкиной эволю-
ция отечественной праздничной культуры трактуется как наслаивание новой,
формирующейся культуры на культуру предыдущего этапа, авторы различают в
неожиданных переплетениях языческий, православный (христианский), совет-
ский слои праздничной культуры (Козина, Ларюшкина 2015:12).
Для понимания народной традиции (прежде всего сельской), которая, не-
сомненно, играла важную роль в оформлении образа и практик празднования
Нового года в позднем Советском Союзе, актуальным представляется исполь-
зование этнокультурной панорамы, созданной Т.Н. Золотовой, которая рисует
своего рода святочный праздничный комплекс, начинающийся в канун Рожде-
ства и завершающийся Крещением (день зимнего солнцестояния). Существо-
вало и празднование собственно Нового года - Васильев вечер (31 декабря),
которое включало украшение дома ветками хвойных деревьев, приготовление
178
Этнографическое обозрение № 3, 2022
обильного праздничного застолья, шитье новой одежды, а также ряд маги-
ческих действий (“зазывание мороза”, “сожжение старого года”). На основе
собранного фольклорного материала Т.Н. Золотова описывает карнавальные
практики колядования - как на Святки, но в специальных нарядах (“ходили
ряженные” в масках), в ходе которых не только гуляли по деревням с песнями
и танцами, но и совершали символические действия (били кнутом прохожих,
окунали в снег, примораживали двери, снимали калитки с петель и т.д.) (Золо-
това 2002: 57-65).
Осмысление работ Я. Ассмана, М.М. Бахтина, Р. Белла, П. Бергера, К. Жигуль-
ского, О. Конта, Г. Лассуэла, Т. Лукмана, И. Ханиповой позволяет рассматривать
празднование Нового года как результат социального и культурного конструиро-
вания, причем как советской властью, так и населением СССР: культурные прак-
тики испытывали влияние советского идеологического проекта, и сам проект,
в свою очередь, перенастраивали с учетом имеющихся и складывающихся тра-
диций празднования (Лебина 2019: 115; Рольф 2009: 10; Ханипова 2012: 224).
Советский идеологический проект имел цивилизационный характер (был ори-
ентирован на повышение уровня культуры населения) и атеистическую на-
правленность (предусматривал вывод населения из-под влияния церкви и ре-
лигии, обеспечение властной монополии коммунистической партии) (Смолкин
2021: 103). М. Рольф полагает, что в 1960-е годы в СССР происходило “рас-
шатывание идеологической праздничной системы, наблюдался заметный рост
партикулярных праздничных культур, празднования все больше перемещались в
параллельно развивающуюся сферу частной жизни советских граждан… [появ-
лялись] новые формы празднования в семейном и дружеском кругу… советский
праздник все больше перемещался в небольшие компании близких людей, заво-
евывая частное пространство” (Рольф 2009: 343). А.А. Сальникова характеризу-
ет середину 1960-х годов в СССР как период «окончательного “затвердения”»
советских праздничных практик (Сальникова 2011: 8).
Новогодние празднества и ритуалы прошли длительную эволюцию, в кото-
рой особую роль сыграло празднование в Российской империи Рождества Хри-
стова - как в рамках святочной народной традиции (Золотова 2002: 53), так и
с сильным влиянием европейских (германских) традиций в крупных городах
(Лебина 2019: 115). Для интерпретации воспроизводства рождественских тра-
диций в культурных практиках советского населения представляется возмож-
ным использовать теоретические положения М.А. Розова о “социальных эста-
фетах” (воспроизводимые образцы форм поведения или деятельности, которые
передаются от одного поколения к другому). Важно, что, согласно теории соци-
альных эстафет, каждый конкретный результат воспроизведения отличается от
исходного образца (Розов 2017: 230-239).
Эволюция новогодних праздников в СССР представляет собой сложный
процесс, в ходе которого в массовых культурных практиках отразились эле-
менты празднования Рождества, хотя и в модифицированном виде. Правомер-
ность постановки вопроса о своеобразной культурной мутации праздничных
практик в определенной мере подтверждается ретроспективой празднования
Нового года в Литовской Республике. Как утверждает Р. Паукштите-Шакнене,
в городах Литвы до Первой мировой войны происходила своеобразная инте-
грация празднований Рождества и Нового года (например, в Новый год повто-
рялся ужин Сочельника с дублированием некоторых религиозных рождествен-
ских ритуалов) (Паукштите-Шакнене 2016: 131). Н.Б. Лебина прямо пишет,
Куприянов Б.В., Порохова А.А. Трансформация новогоднего праздника в СССР...
179
что у советского Нового года и Рождества были общие знаковые признаки,
автор в этом отношении особо указывает на новогоднюю (рождественскую)
елку (Лебина 2018: 219): именно Н.Б. Лебина предлагает трактовку Нового
года как праздника, “очищенного” властью от клерикального содержания, но
сохранного в качестве нормы жизни (Там же: 223). Трактовка рассматрива-
емого праздника как “секулярно-политизированного, с новой кремлевской
символикой” нам представляется излишнее прямолинейной применительно
к празднованию Нового года в СССР в период с конца 1940-х по конец 1980-х
годов (Симян 2018б: 65).
Методологический ключ к позиционированию метаморфоз празднования
Нового года в СССР с конца 1940-х годов до 1990 г. обнаруживается в извест-
ной работе А.В. Юрчака: прежде всего это - положение о том, что в середине
1960-х годов произошла своего рода “дистилляция советского авторитетного
дискурса”, когда значения этого дискурса можно было “наделять смыслами из
своего собственного мира” (Юрчак 2017: 256). Исходя из этого, рискнем пред-
положить, что рассматриваемое нами календарное событие лишь отчасти при-
обрело значение советского идеологического проекта и постепенно вернулось
к существовавшей традиции, хотя и в переформатированном виде. Еще один
тезис из указанной работы А.В. Юрчака может быть перефразирован следую-
щим образом: в ходе празднования Нового года происходило смещение челове-
ческого существования в иное измерение, которое представляло собой совокуп-
ность специфических “отношений с формами и смыслами советской системы”
(Там же: 258). Иными словами, празднование Нового года (в отличие от 7 ноября
и Первого мая) советскими людьми было идейно инобытийным.
В настоящей статье осуществляется попытка реконструировать целост-
ность празднования Нового года в СССР во второй половине ХХ в. как мо-
дифицированного праздника, традиционного для культуры дореволюционной
России. Другими словами, мы пытались ответить на вопрос: как эта трансфор-
мация отразилась на форматах, содержании, культурных практиках, атри-
бутике праздника? Реконструкция этого явления возможна на основе детских
впечатлений, так как советские дети, сами того не осознавая, были свидетелями
любопытного явления взаимовлияния социальной эстафеты празднования Рож-
дества и “советского идеологического проекта”.
Хронологическими рамками выступают: 1947 г. - объявление Нового года
в СССР официальным днем отдыха и соответственно декабрь 1991 г. - распад
Советского Союза; традиционно этот исторический период разделяется на
несколько эпох, однако в данном тексте в центре внимания - процесс медлен-
ной эволюции, где явные изменения просматриваются на значительном времен-
ном отрезке.
Анализ работ Н.Б. Лебиной, Е.В. Шульги, А. Прашинской, М. Рольфа
позволил зафиксировать в формате празднования советского Нового года как
публичной, так и приватной части (время и место, состав участников празднич-
ного события) (Байбурин, Пиир 2008: 236). Интерпретация трактовок праздни-
ка, приведенных в монографии Е.В. Барышевой, дает возможность определить
в качестве содержания празднования Нового года социокультурные отноше-
ния, которые воспроизводятся в ходе этого общественного события (Барышева
2020: 7), “эстетическое отношение к миру сквозь призму культуры как спо-
соба обретения гармонии с миром” (Гужова 2006: 7), (“систематизированные
образцы” у П. Бергера и Т. Лукмана, “ценности культуры” у К. Жигульского
180
Этнографическое обозрение № 3, 2022
[Жигульский 1985: 69], “элементы воспроизводимого социального порядка” у
О. Конта и т.д.). Воспроизводимые социокультурные отношения представим
как четыре контекста новогоднего праздника: официальный идеологический
(“веха в социалистическом строительстве”); индивидуальное экзистенциальное
восприятие календарного события - своего рода жизненный рубеж; семейный
контекст; модифицированный контекст детского праздника. К каждому из на-
званных контекстов могут быть отнесены культурные практики подготовки к
празднику и собственно празднование; при этом отдельного внимания заслужи-
вает символика советского Нового года указанного периода.
Эмпирическое исследование предусматривало сбор и интерпретацию полу-
структурированных нарративно-ориентированных интервью (Арапова 2018).
В своих ответах на вопросы и свободных повествованиях респонденты вспоми-
нали свое советское детство (1950-1980-е годы). Интервью можно разделить на
несколько содержательных частей. В первой респонденту предлагалось восста-
новить в памяти и артикулировать детские воспоминания о праздновании Ново-
го года в своей семье (начиная с возраста, когда рассказчик мог в своей памяти
восстановить события). Вопросы побуждали опрашиваемого вспомнить наибо-
лее яркие обстоятельства, связанные с этим праздником, семейные новогодние
традиции (место проведения, украшение елки и т.д.). Второй блок вопросов ка-
сался практик одаривания детей в Новый год (характер подарков, процедура
дарения, участие в ритуале дарения Деда Мороза и т.д.). Третья часть касалась
практик празднования Нового года за пределами семьи (в школе, в компании
сверстников, друзей). Необходимо отметить, что использование полуструкту-
рированных интервью имеет ряд ограничений: респонденты способны вспом-
нить собственные детские переживания, мысли, поступки, а значительная часть
“взрослой жизни” (жизни старших поколений) остается вне поля зрения иссле-
дователя.
В интервью приняли участие 139 человек, из которых 77% - женщины,
23% - мужчины. Несколько больше половины (52%) опрошенных в детстве
проживали городах, 48% - в деревнях, селах или поселках. Если использовать
отечественную интерпретацию теории поколений, то выборка представляет
почти равные части: 53% участников опроса можно отнести к поколению Baby
Boomers (1946-1967 г.р.), а 47% - к Generation X (1968-1977 г.р.). В детстве 88%
респондентов проживали на территории РСФСР (остальные 12% - в других
союзных республиках), причем 53% - это жители центра Европейской части
России, 21% - Поволжья.
Материалы полуструктурированных интервью были дополнены сведе-
ниями из мемуаров лиц, чье детство прошло в советские годы в крупнейших
городах СССР: москвичей Сергея Петровича Никоненко (1941 г.р.), Виталия
Товиевича Третьякова (1953 г.р.), ленинградца Сергея Сергеевича Гречишкина
(1971 г.р.). В текстах Третьякова и Гречишкина новогодний сюжет локализо-
ван, а у Никоненко он периодически возникает в ретроспективе воспоминаний
за календарный год (Никоненко 2020: 33, 42, 59, 71, 79-81, 90, 126, 146-147,
166-167,181,196). Воспоминания о праздновании Нового года находятся в той
части мемуаров, где воспроизводятся события детства; объем текста, посвя-
щенного этому событию, у Гречишкина составляет шесть страниц и озаглавлен
“Самый лучший день” (Гречишкин 2020: 182-187), у Третьякова - примерно
столько же (рассказы “Елка” и “Другие праздники”) (Третьяков 2014: 120-123,
144-147). Стоит указать на социальные различия семей авторов мемуаров. Так,
Гречишкин воспитывался в семье ленинградских интеллигентов (бабушка,
Куприянов Б.В., Порохова А.А. Трансформация новогоднего праздника в СССР...
181
отчим и мама - преподаватели университета, отец - писатель,), учился в элит-
ной школе (с углубленным изучением английского языка). Социальный статус
семей Никоненко и Третьякова был более скромным: матери у обоих авторов
трудились на промышленных предприятиях простыми рабочими, отец Третья-
кова, хотя и не сразу, но все же получил высшее образование, а у Никоненко -
работал водителем в пожарной части, а затем в охотничьем хозяйстве.
Нам представилось допустимым включение в исследование воспоминаний
А.Б. Зензинова (1961 г.р.) о его детстве, озаглавленные “Елки нашего детства”
и “Дед Мороз и грипп” (Наблюдения наблюдателя 2020а, б) и опубликованные
на платформе “Яндекс. Дзен”. В исследовании использованы также материалы
из книги воспоминаний “Детство 45-53: а завтра будет счастье” (Улицкая 2016).
Тексты интервью изучались с помощью метода контент-анализа (частотная и
нечастотная модели), отдельные предположения формулировались на основе
интерпретации текста “методом внимательного чтения”.
Остановимся на характеристике празднования Нового года. В своей книге
Гречишкин таким образом описывает формулу новогоднего счастья советского
мальчика-школьника 1970-1980-х годов: “подарки, самый лучший в году ужин,
долгожданные новогодние телепередачи, полуночные посиделки со взрослыми
и - самое главное - начало десятидневных каникул” (Гречишкин 2020: 184).
Характеризуя результаты анализа интервью, необходимо отметить, что в 6%
советских семей Новый год отмечался достаточно скромно или вообще не от-
мечался1 (в основном речь идет о жителях сельских поселений и поселков).
Представители этой категории мотивировали отказ родителей от празднования
религиозными взглядами (отмечались религиозные праздники, прежде всего -
Рождество) либо бедственным материальным положениям (“особо не отмечали…
не было денег”; “не праздновали Новый год, потому что жила я с мамой. Мама
моя работала, приходила поздно, поэтому праздновать было некогда”) (ПМА 1:
Шенченко).
Официальный контекст в праздновании Нового года
Человечество в целом слишком
стационарная система, ее ничем не проймешь
(А.Н. и Б.Н. Стругацкие “Пикник на обочине”).
Дорогие товарищи, друзья!
Через несколько минут Кремлевские куранты начнут отсчет
нового, 1982 года. Каждый советский человек сейчас мысленно
оглядывается на прожитый год и с надеждой всматривается в
будущее. 1981 год особенно значителен тем, что это был год XXVI
съезда партии, который открыл перед советским народом новые
исторические перспективы, год большой творческой работы,
напряженной борьбы за сохранение и упрочение мира. Решения съезда
получили всенародное одобрение и успешно претворяются в жизнь
(Из Новогоднего поздравления советскому народу в 1982 г.).
Официальная советская идеология реализовывалась через множество кана-
лов: СМИ, тексты учебников (Симян 2018а: 1416), организацию празднований
по месту работы (учебы) и т.д. Советская власть целенаправленно формировала
специфическую культурную традицию, которая встраивалось в советский иде-
ологический проект - Новый год презентовался как веха социалистического
182
Этнографическое обозрение № 3, 2022
строительства. Средства массовой информации СССР показывали советскому
народу успехи минувшего года, а, главное, внушали, что в следующем году все
будет намного лучше. Трудовые коллективы должны были к Новому году завер-
шить выполнение планов и принять новые обязательства. Новый год также про-
пагандировался как коллективное событие, культивировалось его празднование
в трудовых коллективах (на производстве). Однако, как отмечают Р. Паукштите-
Шакнене и А. Прашинская, несмотря на усилия власти, “в Советском Союзе
Новый год был менее идеологизированным по сравнению с другими праздника-
ми” (Паукштите-Шакнене 2016: 129-134; Prashizky 2020: 23).
Параллельно с официальной идеологической формулой Новый год на ин-
дивидуальном уровне воспринимался как экзистенциальная веха человеческой
жизни - “прощание с прошлым и приветствие будущего… [в этом празднике
выражались] надежда и оптимизм - общечеловеческие ценности” (Prashizky
2020: 29). В данном контексте находило свое место желание оставить в про-
шлом все неудачи, негативные события и т.д.
Примечательной составляющей празднования Нового года в Советском
Союзе была телевизионная передача “Голубой огонек”: с одной стороны -
в рамках реализации идеологического вектора в программе принимали участие
известные в стране люди (Герои Социалистического Труда, космонавты, уче-
ные и т.д.), которые добились в минувшем году ощутимых успехов; с другой
стороны, они сидели за столиками и непринужденно общались, а благодаря те-
левидению они как бы становились участниками застолья в каждой советской
семье, усиливая таким образом семейный контекст в праздновании Нового года
в СССР.
Гречишкин (воспитанный в СССР, а потом долгие годы проживавший за
рубежом) писал о сходстве Нового года (как главного семейного торжества)
с Днем благодарения и Рождеством (Гречишкин 2020: 182). Эмигранты из ре-
спублик бывшего СССР, по мнению А. Прашицкой, характеризуют идеологию
празднования Нового года такими ценностями, как “единство семьи” и “дружба”
(Prashizky 2020: 29). Действительно, празднование Нового года воспринима-
лось населением страны как часть семейного уклада, в котором объективно
сохранились, хотя и несколько в модифицированном виде, традиционные эле-
менты празднования Рождества, при этом фактором этого “заражения рожде-
ственским семейным духом” выступила хронологическая близость этих двух
событий (Paukštytė-Šaknienė 2013: 303-322). Празднование Нового года в общ-
ности родственников обеспечивало воспроизводство отношений семейной кон-
солидации, укрепление корпоративности семьи и ближайшего окружения через
переживание солидарности празднующих, естественную интеграцию предста-
вителей микросоциума (родственников, знакомых, близких) (Круглова, Саврас
2010; Байбурин, Пиир 2008: 238). Нормой стала встреча этого праздника рас-
ширенным составом семьи (поэтому накануне 31 декабря множество людей от-
правлялось в гости к родственникам) (Никоненко 2020: 42). Непосредственной
культурной формой (ритуальным сплочением) выступало объединение семьи за
праздничной трапезой в прослушивании новогоднего обращения руководства
страны (Круглова, Саврас 2010: 12; Гречишкин 2020: 186).
Основываясь на материалах опроса, обратимся к анализу наиболее тради-
ционных пространств, в рамках которых разворачивалось празднование Нового
года. В отличие от Первого мая и 7 ноября (во время празднования которых
преобладала публичность, совершались массовые шествия по городским ули-
Куприянов Б.В., Порохова А.А. Трансформация новогоднего праздника в СССР...
183
цам, народные гуляния и проч.), площадкой празднования Нового года для 91%
семей становились приватные пространства, в том числе исключительно своего
дома или своей квартиры - 73%, преимущественно дома или квартиры ближай-
ших родственников - 8%, для 10% - попеременно своего дома и дома родствен-
ников, друзей семьи.
Новый год в публичных пространствах (сельский или городской клуб, по-
мещения предприятий, учреждений - “работа родителей”) встречали всего 5%,
а в 4% случаев празднование проходило и в публичных, и в приватных про-
странствах. Весьма интересный нюанс отмечают авторы реконструкции прак-
тик празднования Нового года в публичном пространстве сельского клуба: “…
клуб напоминал увеличенную копию домашнего зала, что придавало ему осо-
бенный уют и приятную обстановку” (Ахметханова, Зеленская 2016: 191-200).
Для понимания изменений, происходивших в форматах новогоднего праздно-
вания, можно обратить внимание на две культовые киноленты: “Карнавальная
ночь” (1956 г.) и “Ирония судьбы, или С легким паром” (1976 г.). Если в первом
фильме события разворачиваются в публичном пространстве Дома культуры,
то во втором - в приватном (в квартирах главных героев). Причинами осла-
бления публично-общественного и усиления приватно-семейного контекста в
культурных практиках празднования Нового года стала произошедшая за два
десятилетия трансформация образа жизни советских людей.
Среди культурных практик празднования Нового года в СССР отдельное
место занимали приглашение гостей или посещение родственников и друзей
(не менее 18% от числа семей, в которых праздновали Новый год). Подводя
итог, можно утверждать, что празднование Нового года имело семейный фор-
мат (по месту действия и составу участников). Проведенное исследование
зафиксировало особое значение новогоднего праздничного застолья (упо-
мянуто 41% респондентов), при этом наиболее часто упоминаемой (26%) и,
несомненно, актуальной для детей была десертная составляющая угощения
(торты, сладкие пироги, конфеты). Кроме того, на новогоднем столе в советских
семьях были салаты (традиционный советский оливье, реже винегрет) - 16%,
разнообразные пироги (16%), холодец (5%), фрукты, прежде всего мандари-
ны (11%). Вообще у советских людей мандарины стойко ассоциировались с
Новым годом. Представляется весьма существенной (21% от общего числа
зафиксировавших празднование Нового года) оценка новогоднего застолья
как чего-то особенного, исключительного. Стоит отметить, что 11% участ-
ников опроса обратили внимание на представленность на новогоднем столе
советских семей дефицитных продуктов. По данным, приводимым Т.Н. Зо-
лотовой, многие из кушаний, упомянутых респондентами (пироги, запечен-
ный гусь, жаренное мясо и т.д.), традиционно готовились на Васильев вечер
(31 декабря) (Золотова 2002: 58).
Отдельного внимания заслуживают развлечения, которые практиковались
при праздновании Нового года: застольное пение взрослых (ПМА 2: Карповни-
на), самодеятельные детские концерты для взрослых (ПМА 2: Екимовская),
катание всей семьей на лыжах (ПМА 1: Аруева). Важную роль в новогодних
развлечениях, как уже указывалось, играл просмотр телевизионных передач и
кинофильмов (младшие смотрели мультфильмы, более взрослые - “Голубой
огонек” [ПМА 4: Зуб; ПМА 5: Иванов; ПМА 3: Остроушко], бальные танцы,
“Мелодии и ритмы зарубежной эстрады”, кинофильмы “Карнавальная ночь”,
“Ирония судьбы” [ПМА 2: Махова]).
184
Этнографическое обозрение № 3, 2022
Новый год как детский праздник
К нам на елку — ой-ой-ой!
Дед Мороз идет живой.
- Ну и дедушка Мороз!..
Что за щеки! Что за нос!..
Борода-то, борода!..
А на шапке-то звезда!
На носу-то крапины!
А глаза-то… папины!
(А. Шибаев “Дед Мороз”)
Еще одним советским новогодним контекстом можно считать его детскость
(если центральной фигурой Рождества выступал младенец Христос, то главным
героем Нового года в СССР был Ребенок, дети). Существует мнение, согласно
которому в официальном контексте сталинского времени забота о детях вы-
ступала символом заботы партии и вождя обо всем народе (своего рода “детях
партии”) (Симян 2018а: 14). Как отмечает М. В. Ромашова, образ новогоднего
празднования в восприятии советских граждан “обязывал” взрослых сделать
все, чтобы поддержать в сознании ребенка праздничную атмосферу (Ромашова
2012: 172-179). Вообще детскость как новогодний контекст корреспондирова-
лась со всеобщим повседневным детоцентризмом советских граждан - ино-
странцы, побывавшие в Советском Союзе, отмечали этот факт (Shipler 1983).
Можно утверждать, что в праздновании Нового года происходило утверждение
родителей в своей социальной роли (они инициировали и организовывали дет-
ский праздник - праздник для детей). Для детей празднование Нового года вы-
ражалось в таком режимном послаблении, как разрешение долго не ложиться
спасть и смотреть телевизор со взрослыми (ПМА 2: Махова). От рождествен-
ской традиции советский Новый год взял также во многом контекст наивной
веры детей в сверхъестественное, новогодние чудеса, реализацию тайных и,
казалось бы, неисполнимых желаний. Новый год сохранил идеологию рож-
дественского чуда - “чудесного мгновения”, дарящего надежду на будущее
(Лашевская 2015: 77-83; Ромашова 2012: 172-179, Шульга 2012: 161-182).
Дарение новогодних подарков советским детям в 1950-1980-е годы также
было аналогом дарения подарков рождественских. Анализ материалов интер-
вью позволяет зафиксировать следующую тенденцию увеличения массовости
дарения детям новогодних подарков: в 1970-1980-е годы подарки детям дарили
чаще, чем в 1950-1960-е годы (согласно полученным данным, среди поколения
Х в сравнении с их сверстниками из предыдущего поколения доля тех, кто не
получал новогодние подарки, уменьшилась в восемь раз). Указанное обстоя-
тельство можно вполне увязать с увеличением доходов населения и широким
распространением соответствующих культурных практик. Тот факт, что, со-
гласно материалам интервью, в городе практика дарения была более массовой,
нежели чем в селах, также объясняется тем, что доходы городского населения
были выше, чем сельского; кроме того, дарение подарков - скорее всего более
городская традиция, чем сельская. Согласно данным С.М. Гареевой, в башкир-
ских селах празднование Нового года с украшением елки в 1950-1960-е годы
практиковалось “в школах, и только в 1970-х гг. - в сельских домах” (Гареева
2011: 151). Собранные данные позволяют реконструировать варианты одарива-
ния советских детей:
- подарки, приобретенные родителями (родственниками, близкими);
Куприянов Б.В., Порохова А.А. Трансформация новогоднего праздника в СССР...
185
- подарки, полученные близкими родственниками по месту работы
(от предприятия и/или от профсоюзной организации);
- подарки, вручаемые ребенку по месту учебы, но приобретенные за счет
средств родителей (покупка осуществлялась родительскими комитетами);
- подарки, вручаемые ребенку в ходе праздничных представлений в уч-
реждениях культуры, приобретенные за счет бюджета (областного, городского,
сельского и т.д.).
Позиционирование дарителя менялось по мере взросления ребенка: у ма-
леньких детей к подаркам от родителей добавлялись “подарки от Деда Мороза”,
у подростков этот даритель уже не фигурировал.
В сознании одариваемых парадоксальным образом уживались подарки от
сказочного персонажа с подарками от завкома, от родителей (“при советских
временах, была такая организация профсоюз, отец всегда ходил получал подар-
ки на всех детей, и приносил нам, говорил, что Дед мороз передал” [ПМА 2:
Азизов]). 86% участников интервью свидетельствуют, что они, как советские
дети, исправно получали новогодние подарки каждый год, из них треть - только
подарки, которые, по мнению респондентов, были организованно закуплены
профсоюзными комитетами или администрациями предприятий, большинство
же подарков воспринимались как родительские. Представляется весьма показа-
тельным, что дети осознавали, что их родители в целом ряде случаев лишь пе-
редают подарок от фабрики, колхоза, профсоюза (обобщенного коллективного
взрослого). Новогодний подарок во время детского праздника в общественном
месте (школа, дом культуры, театр, клуб) могли получить 27%. 14% участников
опроса утверждают, что вообще не получали подарки: можно допустить, что
родители не могли купить ребенку подарок; можно также предположить, что
подарки, полученные ребенком на новогодних елках (представлениях) в учреж-
дениях образования и культуры, не воспринимались (не воспринимаются сегод-
ня) как полноценный подарок.
Как показывают результаты опроса, чаще всего детям дарили сладости
(51%) и фрукты (17%), в мемуарной литературе также имеются соответству-
ющие свидетельства (Улицкая 2016: 285)2. Скорее всего, это обстоятельство
связано с дефицитом сладостей и фруктов, их дороговизной, а также обуслов-
ленным этим порядком употребления сладостей и фруктов (в зимний период)
детьми в СССР - преимущественно по праздникам. Об исключительности кон-
фет в жизни советских детей свидетельствуют и данные других интервью (Бай-
бурин, Пиир 2008: 248). На втором месте по частоте дарения были игрушки
(чаще всего это куклы, машинки, мягкие игрушки) и настольные игры (22%).
А вот одежду, спортивный инвентарь, книги дарили реже (10%) - вполне воз-
можно, “полезные” подарки не воспринимались как подарки вовсе, скорее были
чем-то обыденным. Обращает на себя внимание не массовая и не ежегодная
практика дарения актуальных, дорогих и дефицитных вещей - в воспоминани-
ях Никоненко зафиксированы яркие переживания в связи с дарением на Новых
год коньков. Весьма показательно в практике дарения отношение советских лю-
дей к деньгам: 94% опрошенных утверждают, что в их детстве дарить деньги на
Новый год было не принято. Те же, кому дарили деньги, объяснили эту ситуа-
цию чисто организационными обстоятельствами (“родители просто не успева-
ли купить подарки”). Гречишкин, чье детство пришлось на 1970-1980-е годы,
утверждает, что родители стали дарить ему деньги с десятилетнего возраста
(“и я сам выбирал, что мне на них купить”).
В значительном числе случаев (41%) подарки вручались без особой таин-
186
Этнографическое обозрение № 3, 2022
ственности, т.е. из рук в руки: “Мама приносила эту коробку с конфетами нам:
мне и моему старшему брату”; “Когда часы били 12 мы начинали поздравлять
друг друга, а потом родители нам дарили эти кульки”. Однако чаще респон-
денты отмечали, что практика дарения подарков детям имела ритуальный ха-
рактер (59%), т.е. подарки втайне складывались взрослыми под елку, в валенки
(“С вечера под елку подкладывался большой старый валенок и, когда мы про-
сыпались рано утром, то в этом валенке или рядом лежал новогодний пода-
рок”, “я, отвлекалась… в этот момент клали подарки под елку”). Помещение
новогоднего подарка в валенок упоминается респондентами, проживавшими
в детстве в Костромской, Московской, Рязанской, Ульяновской областях. Об
использовании родителями ритуалов при дарении новогодних подарков свиде-
тельствуют 60% представителей поколения Baby Boomers и 82% - советских
Generation X. Данное обстоятельство также можно расценивать как постепен-
ное, с 1940-х годов по 1980-е годы, укоренение этой культурной практики. Срав-
нение распространенности ритуального дарения в различных типах поселений
показывает, что размещение новогодних подарков под елкой или совершение
иных символических действий чуть более характерно для горожан и жителей
поселков городского типа, чем для сельских семей. В мемуарах о празднова-
нии Нового года в послевоенных сельских школах сама процедура одарива-
ния выглядела как ритуал официального награждения (Улицкая 2016: 286).
О стремлении привнести таинственность и сказочность в ритуал вручения но-
вогодних подарков свидетельствуют методические рекомендации 1950-1960-
х годов для организаторов новогодних утренников в школах: «…не выдавать
подарки в общей очереди, а получить подарок из рук Деда Мороза или Снегу-
рочки, организовать “таинственное” место для выдачи подарков - Избушку»
(Шульга 2012: 178).
Следует обратить внимание на использование в советских семьях легенды
о Деде Морозе - с этим персонажем связывали практики одаривания в семье,
говоря детям, что подарки принес Дед Мороз: “Там дедушка Мороз принес вам
подарки под елочку” (ПМА 2: Батырева; ПМА 4: Колосова); “Ой, форточка от-
крылась! Дед Мороз прилетел!” (ПМА 3: Солопанова), в нескольких интервью
имеются воспоминания о переодевании отца в Деда Мороза (ПМА 2: Конда-
кова, Голубева) - своего рода семейный перфоманс. Есть упоминания о доста-
точно сложных процедурах, которые устраивали взрослые, чтобы поддержать
атмосферу волшебства: «дедушка придумал в форточку привязать гвоздик. И за
этот гвоздик он дергал, стучал по стеклу. “Это ребята Дед Мороз идет к нам!”
Он открывал форточку, и из форточки, в которую заранее положил в сетку по-
дарки, нам вручал» (ПМА 4: Бышева).
Использования мифа о Деде Морозе в семьях весьма примечательно, так как
этот персонаж являлся результатом культурного микса. В образе этого персона-
жа объединились черты европейского святого Николая и русского народного,
фольклорного Мороза, первые упоминания о котором относятся еще к дорево-
люционной эпохе (Шульга 2012: 166; Душечкина 2002). Весьма любопытные
параллели между Дедом Морозом и дедушкой Лениным просматриваются в со-
ветских учебниках (Симян 2018а: 13). В книге писателя А.А. Васькина приво-
дится подобного рода отождествление Деда Мороза с пожилым Л.И. Брежневым
(Васькин 2018). В символике советского Нового года благодаря целенаправлен-
ному внедрению Дед Мороз вытеснил Иисуса Христа (Гурьянов, Шатило 2019:
49-63). Обращает на себя внимание тот факт, что в послевоенные десятилетия
Дед Мороз перешел в повседневность советских семей из специально сконстру-
Куприянов Б.В., Порохова А.А. Трансформация новогоднего праздника в СССР...
187
ированных общественных пространств (где культивировался как главный герой
праздничного перфоманса).
В Новогодних ритуалах, как ни в одном другом из советских праздников,
присутствовала бытовая магия. Вот какие ритуалы вспомнили участники ин-
тервью: “Всегда загадывали желание, записывали записки” (ПМА 2: Хмелев-
ская), “…печенье с предсказаниями, которые мы потом сжигали и бросали
в бокал с шампанским” (ПМА 4: Гнездилова), “…нужно загадать желание и
прокричать его сильно-сильно в сторону леса, то Дед Мороз услышит и обяза-
тельно желание мое исполнит. Я помню … кричала даже очень сильно-сильно”
(ПМА 2: Федотова). Следует также отметить, что телефильм “Ирония судьбы,
или С легким паром” в полной мере отражал идею новогоднего волшебства,
надежды на чудо, даже в жизни взрослых. Волшебство как специфический кон-
текст был характерен для рождественской традиции и противоречил атеисти-
ческой идеологии СССР. Надо отметить, что в материалах, полученных нами,
традиционные святочные ритуалы практически не упоминались - исключени-
ем является действо, о котором упоминает один из респондентов: “Мой отец...
сжигал покрышку, туда мы бросали старые вещи, так мы провожали Старый
год и встречали новый” (ПМА 1: Соловьева). Данная традиция позициониру-
ется специалистами по региональной культуре как привнесенный в Поволжье
святочный обряд сжигания уходящего года в канун Рождества, Нового года и
Крещения “непременно на дворе или напротив липовых веников” (Алехина и др.
2013: 188); Т.Н. Золотова полагает, что у ритуала сжигания ареал распростране-
ния был очень широк. Вообще следы святочных ритуалов в массиве собранных
интервью просматриваются не очень явно, однако встречаются упоминания
святочный ритуал колядования (ПМА 6: Кедяркин).
Не менее интересна Снегурочка, которая в качестве помощницы Деда Мороза
впервые появилась в 1937 г. на празднике в Доме Союзов в Москве (Гурьянов,
Шатило 2019: 49-63). А в Башкортостане Снегурочка как участница новогод-
него перфоманса “укореняется” в 1970-е годы (Гареева 2011: 151). Образ этого
персонажа восходит к народным сказкам и был многократно использован в оте-
чественной культуре. В качестве героини новогодних представлений советского
периода Снегурочка по отношении к Деду Морозу выполняла второстепенную,
служебную роль (Симян 2018а: 28-31, 64). Согласно контекстному анализу вос-
поминаний, Дед Мороз упоминается в 51% интервью, а Снегурочка только -
в 15%, чаще всего вместе с Дедом Морозом, при этом всего в шести случаях
Снегурочка выступает как участница представления, в остальных воспомина-
ниях речь идет об новогодней игрушке (елочной или напольной). Дед Мороз в
текстах интервью представлен в трех ипостасях: как игрушка, как воображае-
мый персонаж, приносящий подарки, и как главный герой праздничного пер-
фоманса.
Возвращаясь к характеристике праздничных событий как структуры в жиз-
ни ребенка, стоит заметить, что для советских школьников празднование имело
сложносоставной формат: новогодний утренник (или вечер) в детском саду/
школе, домашний праздник (с родителями в семейном кругу), посещение но-
вогодних представлений в домах культуры, театрах, цирках и проч. (Никоненко
2020). Начиная с подросткового возраста к вышеназванным добавлялось встре-
ча Нового года в компании сверстников (ПМА 2: Немченко; ПМА 4: Горохов).
Е.В. Шульга полагает, что в дореволюционный период домашний рождествен-
ский праздник для детей из приватного (семейного) модифицировался в пу-
бличный (Шульга 2012: 164). Именно эти детские рождественские праздники
188
Этнографическое обозрение № 3, 2022
стали называться “Ёлка” - это обстоятельство, ссылаясь на словарь В.И. Даля,
отмечает Н.Б. Лебина (Лебина 2019: 115). В этом отношении весьма показатель-
но воспоминание Никоненко о встрече Нового года в 1950 г.: все хлопоты по
подготовке к праздничному представлению в школе взяла на себя мама одно-
го из учеников, т.е. ситуация напоминала дореволюционную традицию. Также
отмечается, что в этот период именно родители становились организаторами
детских рождественских праздников (Никоненко 2020).
Новогодняя елка как главный артефакт праздника
Встанем под елочкой
В дружный хоровод.
Весело, весело
Встретим Новый год!
(З.Н. Александрова “Ёлка”)
Судя по результатам интервью, главным символом Нового года выступала
новогодняя елка (37% упоминаний от общего числа опрошенных; при этом,
даже если новогодний праздник не устраивался, елку в доме ставили). На это
обстоятельство обращает внимание Н.Б. Лебина, которая указывает, что к 1917 г.
украшение елки жителями крупных городов в Рождество “воспринималось как
устойчивая бытовая норма, как народная традиция” (Лебина 2019: 115). В визу-
альной символике, создаваемой в рамках советского идеологического проекта,
украшенная елка с красной звездой на верхушке, изображавшаяся на фоне ба-
шен Московского Кремля, стала частью эстетической композиции.
Установка елки воспринималась как непременный атрибут праздника (ре-
спондентами используются слова “естественно”, “ежегодно”, “в доме ставили
елку, всегда”). В интервью и в мемуарах образ новогодней елки отражен через
такие характеристики, как “пышная, пушистая, до самого потолка” (Гречишкин
2020; Третьяков 2014). Названные параметры праздничного дерева (его высота
и пышность) символизировали благополучие. Эту социальную эстафету стар-
шие поколения “несут” до сих пор (выбирая елки по указанным критериям,
ставшим традиционными) (Третьяков 2014).
С новогодней елкой был связан ряд культурных практик, прежде всего это
процедура выбора хвойного дерева, традиции совместного (всей семьей) укра-
шения новогодней елки. В крупных городах новогодние елки покупались на
елочных базарах, в населенных пунктах меньшего масштаба за елкой отправля-
лись в лес (в интервью зафиксирован преимущественно этот вариант обретения
елки). Как правило, выбор, рубка и доставка елки являлись задачей мужчины -
отца (деда), иногда вместе с детьми. В семье обсуждалось, что это будет за
дерево (в одних случаях - большая елка, в других наоборот). Традицией было
закреплено, что елка появлялась в доме за несколько дней до праздника - при-
мерно 29-30 декабря. Процедуры подготовки елки к установке были выверены
годами на основе опыта (с улицы в домашнее тепло дерево переносили не сразу,
а оставляли на некоторое время в относительно прохладном месте). По воспо-
минаниям очевидцев, такие действия рождали у детей свои иррациональные
объяснения: “…мне казалось, что ели нужно время, чтобы почувствовать себя
своей в нашей квартире, полюбить ее и перестать дичиться - ведь в лесу все
дикие, и звери, и деревья” (Наблюдения наблюдателя 2020а).
Украшение елки выступало в советских семьях своего рода объединяющим
Куприянов Б.В., Порохова А.А. Трансформация новогоднего праздника в СССР...
189
символическим действием: судя по полученным данным, в 54% семьях этим
занимались все члены семьи. Сама по себе процедура украшения елки вклю-
чала несколько шагов: коробка с игрушками доставалась из мест долговремен-
ного хранения, игрушки пересматривались, в некоторых семьях обсуждались,
припоминались истории; игрушки размещали на елке - при этом прикрепить
игрушку разрешалось даже совсем маленьким детям; завершалось украшение
елки так наз. дождиками, вырезанными из бумаги снежинками; на вершину
елки прикреплялась пятиконечная красная звезда (ПМА 2: Чухраев, Шабарова)
или какое-то специальное навершие. В воспоминаниях Третьякова указывается,
что на украшение елки затрачивалось несколько часов, все процедуры осущест-
влялись по порядку и с большой тщательностью.
*
*
*
Анализ празднования Нового года во второй половине ХХ в. в СССР выпол-
нен в рамках истории детства, развивающейся в нашей стране исследователь-
ской линии, - и представляет собой реконструкцию проведения самого массо-
вого торжества как важного элемента мира детей, рассматриваемых в качестве
исторических объектов и субъектов (Ромашова 2012: 110).
Детский опыт нескольких поколений, праздновавших Новый год в совет-
ское время, обусловил устойчивость советской культурной схемы, которая со-
храняется и в настоящее время на постсоветском пространстве и на территори-
ях, где проживают выходцы из Советского Союза. Особое место Нового года в
цикле советских праздников состоит еще и в том, что он, хотя и в модифициро-
ванном варианте, стал единственным сохранившемся аналогом дореволюцион-
ного праздника. Во второй половине ХХ в. советские дети, не осознавая этого,
были свидетелями любопытного явления взаимовлияния социальной эстафеты
празднования традиционных Святок, Рождества, с одной стороны, и “советско-
го праздничного проекта” - с другой.
Анализ полуструктурированных нарративно-ориентированных интервью и
мемуарных источников представителей двух поколений, чье детство прошло
в СССР, позволяет реконструировать культурную целостность Нового года,
включающую в себя форматы празднования, содержание (социокультурные от-
ношения, которые воспроизводятся в ходе этого общественного события), куль-
турные практики празднования, специфическую атрибутику праздника.
В значительно большей степени в детских ретроспекциях нашли отра-
жение модифицированный рождественский семейный контекст и контекст
празднования Рождества детьми (площадкой празднования для 91% семей ста-
новились приватные пространства дома или квартиры). Празднование Ново-
го года взрослыми происходило в приватных форматах (встреча Нового года
в кругу родных и близких) и в публичных (вечер по месту работы, участие в
массовых гуляниях после, реже - вместо семейного застолья). Детские форма-
ты, кроме приватного семейного, включали участие в публичных праздниках
в школе (по месту учебы), а также посещение елок в учреждениях культуры
(клубы, дома культуры предприятий, театры, дома пионеров и т.д.). Публичные
форматы празднования Нового года детьми начинались до календарной даты
(31 декабря), а заканчивались после нее, растягиваясь на почти две недели.
Вариант семейного детского праздника, характерный для дореволюционной
России, в 1950-1980-е годы в качестве распространенного явления обнаружить
не удалось.
190
Этнографическое обозрение № 3, 2022
Атрибутика празднования Нового года в СССР, судя по детским воспомина-
ниям, включала:
- традицию украшения новогодней елки, которая была заимствована совет-
ским праздничным проектом и массово воспроизводилась в жизни подавляю-
щего большинства семей в Советском Союзе;
- присутствие главного героя детского праздника - Деда Мороза (дорево-
люционный образ был несколько модифицирован и активно внедрялся офици-
альным праздничным проектом, после чего воспроизводился в пространствах
семьи через магические практики, ритуалы и инсценирования);
- новогодние подарки для детей и для всех участников праздника (в полной
мере рождественская традиция, которая была заимствована из дореволюцион-
ного опыта, поддерживалась за счет распространенной практики подготовки
новогодних подарков детям от предприятий и профсоюзов по месту работы ро-
дителей, а также от учреждений культуры и образования).
Анализ полуструктурированных интервью и мемуаров позволяет выде-
лить следующие культурные практики празднования Нового года: в советских
семьях было принято принимать гостей и ходить в гости, накрывать богатый
праздничный стол, готовить традиционные новогодние блюда и приобретать
(доставать) редкие и дорогие продукты питания, а также организовывать раз-
личные развлечения. Ряд культурных практик связан с новогодней елкой (выбор
и доставка дерева, приготовление игрушек, украшение елки, рассматривание
игрушек и проч.).
Согласно полученным данным, 1940-1980-х годах в СССР существовали две
культурные практики одаривания детей родителями по случаю празднования
Нового года. Первая (59%) предполагала следование рождественской традиции
(дарение новогодних подарков представляло собой ритуал: поиск подарков под
елкой, в валенках), ритуал дарения сопровождался сказочными объяснениями
их появления. В то же время значительное число семей (41%) обходилось без
какого-либо ритуала (детям подарки вручались без символических действий и
сказочных историй). С чем были связаны такие культурные практики родите-
лей, установить пока не удалось.
Подводя итоги исследования такого явления, как советский новогодний
праздник в 1940-1980-е годы, можно утверждать, что религиозное содержание
удалось искоренить, но идеологический формат не сложился. Содержательной
основой новогоднего праздника стали те общественные потребности, на кото-
рых базировались в прошлом идеология Рождества и народные традиции свя-
точных действий.
Примечания
1 Во второй половине ХХ в. день рождения детей не праздновали в 20%
советских семей (Илюшина, Лихоманова 2019).
2 Показательно, что для обозначения новогодних подарков, состоящих из
сладостей и фруктов, как в интервью, так и в мемуарах используется понятие
“гостинцы”.
Источники и материалы
Гречишкин 2020 - Гречишкин С.С. Все нормально: жизнь и приключения совет-
ского мальчика. М.: Захаров, 2020.
Куприянов Б.В., Порохова А.А. Трансформация новогоднего праздника в СССР...
191
Наблюдения наблюдателя 2020 - Наблюдения наблюдателя. Елки нашего
elki-nashego-detstva-5feb094a5fec142ae9a93328
Наблюдения наблюдателя 2020 - Наблюдения наблюдателя. Дед Мороз и грипп //
i-gripp-5fec3ddb9801494ed8c746f5
Никоненко 2020 - Никоненко С.П. Далекие милые были: мемуары актера театра
и кино. М.: Эксмо, 2020.
ПМА 1 - Полевые материалы автора. Экспедиция в г. Саратов, февраль 2020 г.
(информанты: Е.А. Аруева, 1970 г.р.; И.А. Соловьева, 1973 г.р.; Т.П. Шен-
ченко, 1953 г.р.).
ПМА 2 - Полевые материалы автора. Экспедиция в г. Кострома, март - июнь
2020 г. (информанты: М.М. Азизов, 1967 г. р.; Н.Н. Батырева, 1973 г.р.; Н.М.
Голубева, 1973 г.р.; Т. А. Екимовская 1964 г.р.; Е.Н. Карповнина, 1954 г.р.;
В.Е. Кондакова, 1962 г.р.; С.А. Махова, 1968 г.р.; С.Н. Немченко, 1953 г.р.;
Т.С. Федотова, 1972 г.р.; О.А. Хмелевская, 1973 г.р.; С.В Чухраев, 1973 г.р.;
В.Н. Шабарова, 1954 г.р.).
ПМА 3 - Полевые материалы автора. Экспедиция в г. Краснодар, май 2020 г.
(информанты: О.Ю. Солопанова, 1960 г.р.; Г.Ф. Остроушко, 1952 г.р.).
ПМА 4 - Полевые материалы автора, г. Москва, февраль-апрель 2020 г. (инфор-
манты: Л.М. Бышева, 1947 г.р., Е.А. Гнездилова, 1973 г.р.; Н.А. Зуб, 1967 г.р.;
С.В. Горохов, 1964 г. р.; Н.А. Колосова, 1973 г.р.).
ПМА 5 - Полевые материалы автора. Экспедиция в г. Челябинск, февраль 2020 г.
(информант А.В. Иванов, 1973 г.р.).
ПМА 6 - Полевые материалы автора. Экспедиция в г. Ульяновск, сентябрь 2020 г.
(информант А.В. Кедяркин, 1969 г.р.).
Третьяков 2014 - Третьяков В.Т. Из СССР в Россию и обратно: воспоминания.
Кн. 1. Ч. 2, 3: Детство и отрочество. М.: Ладомир, 2014.
Улицкая 2016 - Улицкая Л. (авт.-сост.) Детство 45-53: а завтра будет счастье.
М.: Изд-во АСТ, 2016.
Научная литература
Алехина Н. В., Лепешкина Л.Ю., Овсянникова Н.В. Региональная повседневная
культура: учеб. пособ. для студентов вузов. М.: ИНФРА-М, 2013.
Арапова П.И. Нарративное интервью как метод исследования внешкольной по-
вседневности советских школьников// Сибирский педагогический журнал.
Ахметханова А.В., Зеленская Т.В. Семейные праздники советского времени
(воспоминания семьи А.) // Современные тенденции развития науки и об-
разования. Материалы международной научно-практической конференции /
Гл. ред. А.И. Вострецов. Нефтекамск: Научно-издательский центр “Мир
науки”, 2016. С. 191-200.
Байбурин А.К., Пиир А.М. Счастье по праздникам// Антропологический форум.
2008. № 8. С. 227-258.
Барышева Е.В. “В веселом грохоте, в огнях и звонах”: советский праздник в
социальном конструировании нового общества. М.: РГГУ, 2020.
Васькин А.А. Повседневная жизнь советской столицы при Хрущеве и Брежневе.
М.: Молодая гвардия, 2018.
Гареева С.М. Новогодние обряды и праздники в Башкортостане: эволюция
192
Этнографическое обозрение № 3, 2022
традиций // Научные ведомости Белгородского государственного университе-
та. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. 2011. № 13 (108).
Вып. 19. С. 150-157.
Гужова И.В. Праздник как феномен культуры в контексте целостного подхода.
Автореф. дис. … канд. филос. наук. Томский государственный педагогиче-
ский университет, Томск, 2006.
Гурьянов К.В., Шатило Я.С. Новый год и елка: становление современных тра-
диций // Базис. 2019. № 2 (6). С. 49-63.
Душечкина Е.В. Русская елка: История. Мифология. Литература. СПб.:
Норинт, 2002.
Жигульский К. Праздник и культура: праздники старые и новые. Размышления
социолога. М.: Прогресс, 1985.
Золотова Т.Н. Русские календарные праздники в Западной Сибири (конец ХIХ-
ХХ вв.). Омск: Издатель-Полиграфист, 2002.
Илюшина Н.Н., Лихоманова М.С. Исследование особенностей празднования
детского дня рождения в СССР во второй половине ХХ века // Известия
Воронежского государственного педагогического университета.
2019.
№ 1 (282). С. 68-72.
Козина Т.Н., Ларюшкина Н.В. Формирование праздничной культуры русско-
го народа: от истоков - к современности // Инновационная наука. 2015.
№ 12-13. С. 249-251.
Круглова Т.А., Саврас Н.В. Новый год как праздничный ритуал советской эпохи
// Известия Уральского государственного университета. Серия 2: Гумани-
тарные науки. 2010. № 2 (76). С. 5-14.
Лашевская А.Д. Значение государственных праздников для россиян // Дискус-
сия. 2015. № 8 (60). С. 77-83.
Лебина Н.Б. Пассажиры колбасного поезда: этюды к картине быта российского
города: 1917-1991. М.: НЛО, 2019.
Лебина Н.Б. Советская повседневность: нормы и аномалии: от военного комму-
низма к большому стилю. М.: НЛО, 2018.
Паукштите-Шакнене Р. Понятие семейного праздника в современном горо-
де Литвы // Праздники и обряды в Урало-Поволжье: традиции и новации
в современной культуре / Отв. ред. Е.А. Ягафова. Самара: СГСПУ, 2016.
С. 129-134.
Розов М.А. Что такое теория социальных эстафет // Эпистемология и филосо-
Рольф М. Советские массовые праздники. М.: Фонд Первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина; РОССПЭН, 2009.
Ромашова М.В. Занимательное источниковедение: история детства // Вестник
пермского университета. Серия: История. 2012. Вып. 3 (20). С. 172-179.
Сальникова А. История елочной игрушки, или как наряжали советскую елку.
М.: НЛО, 2011.
Симян Т.С. Новый год и его атрибуты в советских и постсоветских учебниках
(на примере Армении и России) // Праксема. Проблемы визуальной семиоти-
Симян Т.С. Трансформация празднования Нового года в Армении и России
(опыт исторического описания) // Идеи и идеалы. 2018б. № 1 (2). С. 53-74.
Смолкин В. Свято место пусто не бывает: история советского атеизма.
М.: НЛО, 2021.
Куприянов Б.В., Порохова А.А. Трансформация новогоднего праздника в СССР...
193
Ханипова И. “Да здравствует новый советский год” (политизация новогодней
елки в Советской России) // Гасырлар авазы - Эхо Веков. 2012. № 3-4.
С. 224-232.
Шульга Е.В. Праздник Новогодней елки в школах России: век вчерашний - век
нынешний // Историко-педагогический журнал. 2012. № 2. С. 161-182.
Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось: последнее советское поколе-
ние. М.: НЛО, 2017.
Paukštytė-Šaknienė R. Tradicija šiuolaikinių kalendorinių ir gyvenimo ciklo švenčių
kontekste // Res humanitariae. 2013. Т. 14. P. 303-322.
Prashizky A. Homeland Holidays as Anchors of Immigrant Identity: New Year (Novy
God) Celebration among Young Russian Israelis // Social Identities Journal for
the Study of Race, Nation and Culture. 2020. V. 26 (1). P. 16-30. https://doi.org/
10.1080/13504630.2019.1667761
Shipler D.K. Russia: Broken Idols, Solemn Dreams. N.Y.: Times Books, Cop. 1983.
R e s e a r c h A r t i c l e
Kupriyanov, B.V., and A.A. Porokhova. Transformation of the New Year’s
Holiday in the USSR: Reconstruction Based on Modern Memories of Soviet
Childhood [Transformatsiia novogodnego prazdnika v SSSR: rekonstruktsiia
po sovremennym vospominaniiam o sovetskom detstve]. Etnograficheskoe
EDN: HVYLDV ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute of
Ethnology and Anthropology RAS
Moscow City University (4 Vtoroy Selskohoziajstvenny proezd, Moscow, 129226,
Russia)
Moscow City University (4 Vtoroy Selskohoziajstvenny proezd, Moscow, 129226,
Russia)
Keywords
USSR, Soviet Union, Soviet childhood, everyday life, holiday, oral history, memoirs
Abstract
When studying the history of Soviet childhood, one needs to specifically focus
on the key events encompassing the child’s life during the annual cycle, and
the New Year celebration has been of paramount significance in that sense. The
long evolution of this holiday and the shaping of its cultural practices reached a
culmination point in the second half of the twentieth century. What is important
is that these practices exerted decisive influence on the daily life of several
generations including both families of those who stayed in the post-Soviet space
and those of emigrees. It is therefore necessary to examine the transformations in
the cultural and symbolic load of the New Year celebration that occurred in the
context of complex interactions of pre-revolutionary Russian urban traditions and
Soviet cultural projects. The study is based on the outcome of 139 semi-structured
interviews conducted in eight Russian cities among persons born in 1946-1977, as
well as the analysis of memoir literature. We argue that in the cultural load of the
194
Этнографическое обозрение № 3, 2022
New Year celebration, there is a preponderance of family-oriented and children-
oriented content, which can be seen as a modification of the older Christmas
tradition.
References
Akhmetkhanova, A.V., and T.V. Zelenskaia. 2016. Semeinye prazdniki sovetskogo
vremeni (vospominaniia sem’i A.) [Family Holidays of the Soviet Time (Memoirs
of the A. Family)]. In Sovremennye tendentsii razvitiia nauki i obrazovaniia.
Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Modern Trends
in the Development of Science and Education], edited by A.I. Vostretsov,
191-200. Neftekamsk: Nauchno-izdatel’skii tsentr “Mir nauki”.
Alekhina, N.V., L.Y. Lepeshkina, and N.V. Ovsiannikova. 2013. Regional’naia
povsednevnaia kul’tura [Regional Everyday Culture]. Moscow: INFRA-M.
Arapova, P.I. 2018. Narrativnoe interv’iu kak metod issledovaniia vneshkol’noi
povsednevnosti sovetskikh shkol’nikov [Narrative Interview as a Research Method
for Studying the Out-of-School Everyday Life of Soviet Schoolchildren]. Sibirskii
Baiburin, A.K., and A.M. Piir. 2008. Schast’e po prazdnikam [Happiness on Holidays].
Antropologicheskii forum 8: 227-258.
Barysheva, E. V. 2020. “V veselom grokhote, v ogniakh i zvonakh”: sovetskii prazdnik
v sotsial’nom konstruirovanii novogo obshchestva [“In a Cheerful Roar, in Lights
and Bells”: A Soviet Holiday in the Social Construction of a New Society].
Moscow: RGGU, 2020.
Dushechkina, E.V. 2002. Russkaia elka: Istoriia. Mifologiia. Literatura [Russian
Christmas tree: History, Mythology, Literature]. St. Petersburg: Norint.
Gareeva, S.M. 2011. Novogodnie obriady i prazdniki v Bashkortostane: evoliutsiia
traditsii [New Year’s Rites and Holidays in Bashkortostan: Evolution of
Traditions]. Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta.
Seriia: Istoriia. Politologiia. Ekonomika. Informatika 13/108 (19): 150-157.
Gurianov, K.V., and Y.S. Shatilo. 2019. Novyi god i elka: stanovlenie sovremennykh
traditsii [New Year and the Christmas Tree: The Formation of Modern Traditions].
Bazis 2 (6): 49-63.
Guzhova, I.V. 2006. Prazdnik kak fenomen kul’tury v kontekste tselostnogo podkhoda
[Holiday as a Phenomenon of Culture in the Context of a Holistic Approach].
PhD diss. abstract, Tomsk State Pedagogical University.
Iliushina, N.N., and M.S. Lihomanova. 2019. Issledovanie osobennostei prazdnovaniia
detskogo dnia rozhdeniia v SSSR vo vtoroi polovine ХХ veka [Investigation of
the Peculiarities of Children’s Birthday Celebrations in the USSR in the Second
Half of the Twentieth Century]. Izvestiia Voronezhskogo gosudarstvennogo
pedagogicheskogo universiteta 1 (282): 68-72.
Khanipova, I. 2012. “Da zdravstvuet novyi sovetskii god” (politizatsiia novogodnei
elki v Sovetskoi Rossii) [“Long live the new Soviet Year” (Politicization of the
New Year Tree in Soviet Russia)]. Gasyrlar avazy - Ekho Vekov 3-4: 224-232.
Kozina, T.N., and N.V. Lariushkina. 2015. Formirovanie prazdnichnoi kul’tury
russkogo naroda: ot istokov - k sovremennosti [Formation of the Festive Culture
of the Russian People: From the Origins to the Present]. Innovatsionnaia nauka
12-13: 249-251.
Kruglova, T.A., and N.V. Savras. 2010. Novyi god kak prazdnichnyi ritual sovetskoi
epokhi [New Year as a Festive Ritual of the Soviet Era]. Izvestiia Ural’skogo
gosudarstvennogo universiteta. Seriia 2: Gumanitarnye nauki 2 (76): 5-14.
Куприянов Б.В., Порохова А.А. Трансформация новогоднего праздника в СССР...
195
Lashevskaia, A.D. 2015. Znachenie gosudarstvennykh prazdnikov dlia rossiian [The
Meaning of State Holidays for Russians]. Diskussiia 8 (60): 77-83.
Lebina, N.B. 2018. Sovetskaia povsednevnost’: normy i anomalii: ot voennogo
kommunizma k bol’shomu stiliu [Soviet Everyday Life: Norms and Anomalies:
From War Communism to the Big Style]. Moscow: NLO.
Lebina, N.B. 2019. Passazhiry kolbasnogo poezda: etiudy k kartine byta rossiiskogo
goroda: 1917-1991 [Passengers of the Sausage Train: Sketches for a Picture of
the Life of a Russian City: 1917-1991]. Moscow: NLO.
Paukštytė-Šaknienė, R. 2013. Tradicija šiuolaikinių kalendorinių ir gyvenimo ciklo
švenčių kontekste [Tradition in the Context of Modern Calendar and Life Cycle
Holidays]. Res humanitariae 14: 303-322.
Paukštytė-Šaknienė, R. 2016. Poniatie semeinogo prazdnika v sovremennom
gorode Litvy [The Concept of a Family Holiday in a Modern Lithuanian City].
In Prazdniki i obriady v Uralo-Povolzh’e: traditsii i novatsii v sovremennoi kul’ture
[Holidays and Rituals in the Ural-Volga Region: Traditions and Innovations in
Modern Culture], edited by E.A. Yagafova, 129-134. Samara: SGSPU.
Prashizky, A. 2020. Homeland Holidays as Anchors of Immigrant Identity: New Year
(Novy God) Celebration among Young Russian Israelis. Social Identities Journal
13504630.2019.1667761
Rolf, M. 2009. Sovetskie massovye prazdniki [Soviet Mass Holidays]. Moscow: Fond
Pervogo Prezidenta Rossii B.N. Eltsina; ROSSPEN.
Romashova, M.V.
2012. Zanimatel’noe istochnikovedenie: istoriia detstva
[Entertaining Studying of Primary Sources: History of Childhood]. Vestnik
permskogo universiteta. Seriia: Istoriia 3 (20): 172-179.
Rozov, M.A. 2017. Chto takoe teoriia sotsial’nykh estafet [What is the Social
Relay Theory]. Epistemologiia i filosofiia nauka 51 (1): 230-239. https://doi.
org/10.5840/eps201751121
Salnikova, A. 2011. Istoriia elochnoi igrushki, ili kak nariazhali sovetskuiu elku
[The History of the Christmas Tree Toy, or How the Soviet Christmas Tree Was
Decorated]. Moscow: NLO.
Shipler, D.K. 1983. Russia: Broken Idols, Solemn Dreams. New York: Times Books.
Shulga, E.V. 2012. Prazdnik Novogodnei elki v shkolakh Rossii: vek vcherashnii -
vek nyneshnii [New Year’s Tree Holiday in Russian Schools: The Century of
Yesterday is the Century of Today]. Istoriko-pedagogicheskii zhurnal 2: 161-182.
Simyan, T.S. 2018. Novyi god i ego atributy v sovetskikh i postsovetskikh
uchebnikakh (na primere Armenii i Rossii) [New Year and Its Attributes in Soviet
and Post-Soviet Textbooks (On the Example of Armenia and Russia)]. Praksema.
7899-2018-1-10-33
Simyan, T.S. 2018. Transformatsiia prazdnovaniia Novogo goda v Armenii i Rossii
(opyt istoricheskogo opisaniia) [Transformation of New Year Celebrations in
Armenia and Russia (Experience of Historical Description)] Idei i idealy 1 (2):
Smolkin, V. 2021. Sviato mesto pusto ne byvaet: istoriia sovetskogo ateizma
[The Holy Place is Never Empty: The History of Soviet Atheism]. Moscow: NLO.
Vaskin, A.A. 2018. Povsednevnaia zhizn’ sovetskoi stolitsy pri Khrushcheve i
Brezhneve [Everyday Life of the Soviet Capital under Khrushchev and Brezhnev].
Moscow: Molodaia gvardiia.
Yurchak, A. 2017. Eto bylo navsegda, poka ne konchilos’: poslednee sovetskoe
196
Этнографическое обозрение № 3, 2022
pokolenie [Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet
Generation]. Moscow: NLO.
Zhigulskii, K. 1985. Prazdnik i kul’ura: рrazdniki starye i novye. Razmyshleniia
sotsiologa [Holiday and Culture: Holidays Old and New, Reflections of a
Sociologist]. Moscow: Progress.
Zolotova, T.N. 2002 Russkie kalendarnye prazdniki v Zapadnoi Sibiri (konets XIX -
nachalo XX vv.) [Russian Calendar Holidays in Western Siberia (Late XIX - XX
Centuries)]. Omsk: Izdatel’-Poligrafist.