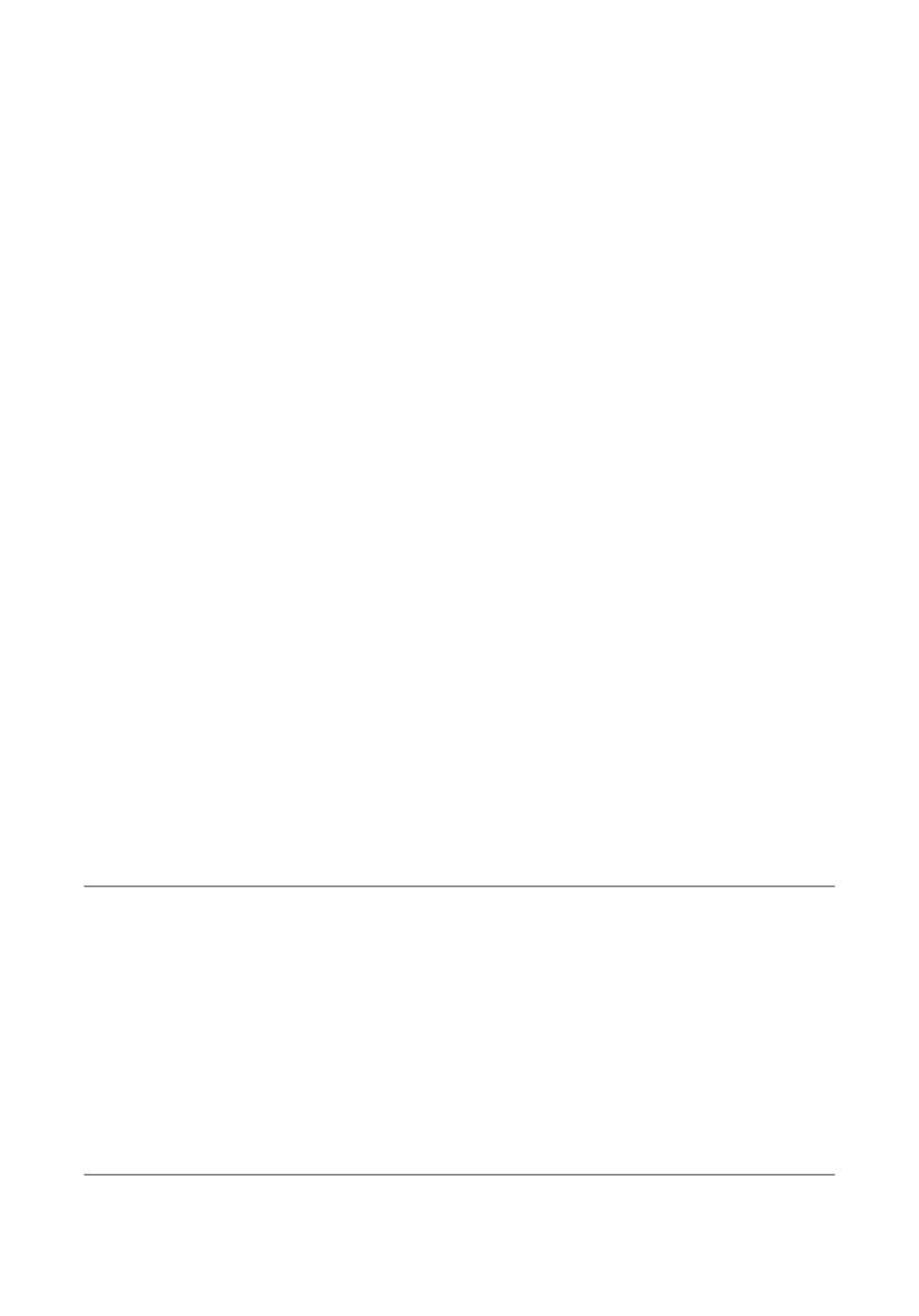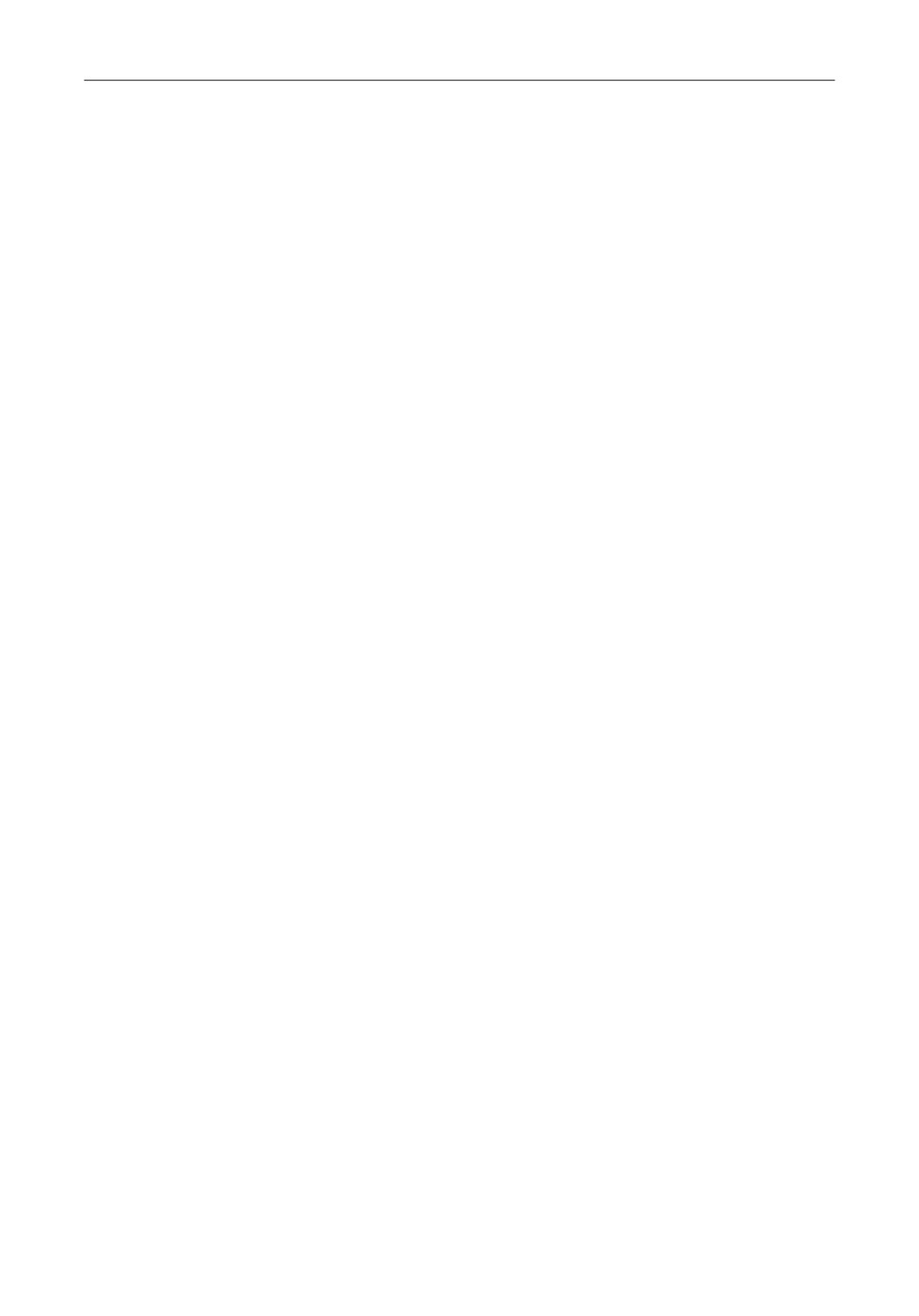РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В НОВЫХ ГОРОДАХ СССР
СЕРЕДИНЫ 1950 - СЕРЕДИНЫ 1960-Х ГОДОВ
В СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ ПАМЯТИ
Н.Л. Пушкарева, А.В. Жидченко
д. и. н., профессор, главный научный сотрудник, руководитель центра гендерных ис-
следований | Институт этнологии и антропологии РАН (Ленинский пр. 32а, Москва,
119991, Россия)
Александр Владимирович Жидченко
|
|
travel822@yandex.ru | к. и. н., старший научный сотрудник центра гендерных исследо-
ваний | Институт этнологии и антропологии РАН (Ленинский пр. 32а, Москва, 119991,
Россия)
Ключевые слова
православие, город, социальная история, женская история, устная история, история
СССР, история религии, семейная биография
Аннотация
Статья посвящена проблеме сохранения православных ценностей в новых городах
СССР, строившихся в 1950-1960-е годы: Городка Нефтяников (микрорайон Омска),
Салавата (Республика Башкортостан) и Ангарска (Иркутская обл.). Основной источ-
ник - неструктурированные биографические интервью жителей этих городов, взятые
в 2010-е годы. Анализируя изменение отношения к религии в послевоенной стране,
авторы задались вопросами: сохранялись ли семейные православные ценности в обста-
новке долголетней атеизации в новых “безбожных” (лишенных церквей и иных культо-
вых объектов) городах, созданных на волне перераспределения трудовых ресурсов для
решения жилищного вопроса? если сохранялись, то в каких формах? насколько успеш-
ными были попытки женщин старшего возраста (именно они играли значимую роль в
этом процессе) содействовать их сохранению? В ходе анализа выявленных православ-
ных практик в новых городах (в двух из них не было церквей и не велось религиозной
институциональной деятельности, a в третьем она преследовалась) были подтвержде-
ны основные предпосылки, препятствующие их сохранению: незнание основ христиан-
ской веры молодыми людьми, их неспособность осознать и принять старые правила и,
Статья поступила 27.07.2021 | Окончательный вариант принят к публикации 20.01.2022
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Пушкарева Н.Л., Жидченко А.В. Религиозная ситуация в новых городах СССР середины 1950 -
середины 1960-х годов в современной женской памяти // Этнографическое обозрение. 2022. № 3.
Pushkareva, N.L., and A.V. Zhidchenko. 2022. Religioznaia situatsiia v novykh gorodakh SSSR serediny
1950 - serediny 1960-kh godov v sovremennoi zhenskoi pamiati [The Religious Situation in the New
Cities of the USSR in the Mid-1950s - Mid-1960s in the Memory of Todays’ Women]. Etnograficheskoe
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
220
Этнографическое обозрение № 3, 2022
как следствие, их неумение сформулировать причины сохранности в семьях традиций с
религиозным субстратом. К началу периода брежневской стагнации эти традиции стали
восприниматься в новых городах как формальные атрибуты принадлежности к испове-
дующим православную веру.
Информация о финансовой поддержке
начимость православных духовных ценностей как основы, способствую-
щей консолидации этноса, придающей смысл социальному прогрессу и
З
дарящей жизненный стимул молодежи, полвека назад мало, кем осозна-
валась. Послевоенный период характеризовался сложными взаимодействиями
Русской православной церкви с государством, стремившимся продолжить ан-
тирелигиозную политику 1920-х годов. От предшествующих десятилетий эти
взаимодействия отличались некоторым смягчением форм и методов борьбы с
религией (Шкаровский 2005). В старых городских агломерациях укреплялась
практика косвенного административного воздействия на священнослужителей
и общины верующих, направленная на искоренение интереса к религиозной
жизни (Макарова 2008). В отношении городов новых, только возникавших -
a этот процесс развернулся именно в годы хрущевской оттепели и связан он был
с попытками перераспределения рабочей силы и решения жилищного вопроса, -
тема религии казалась второстепенной (Шабалин 2004). Новые “голубые города” -
олицетворение молодежной мечты (“мы на край земли придем, мы заложим но-
вый дом и табличку прибьем на сосне”) - создавались как образцовые, призван-
ные демонстрировать стандарты осознанного социалистического образа жизни
(в том числе осознанного атеизма) (Маслова 2005).
Какой виделась новая жизнь тем, кто конструировал в те годы модель буду-
щего? Старались ли они учесть духовные (в том числе религиозные) запросы
молодежи, отправлявшейся на покорение целины или на комсомольские строй-
ки? Можно ли обнаружить и проанализировать пути сохранения православных
семейных ценностей в поколении, родившемся в годы устойчивой секуляри-
зации и атеизации молодежного сознания? Для ответа на эти вопросы мы об-
ратились, с одной стороны, к нормативным документам 1950-1960-х годов,
материалам СМИ и литературно-художественных журналов, с другой - к тек-
стам неструктурированных биографических интервью, в которых респонден-
ты сами касались конфессиональных тем, а затем сопоставили полученные
данные. Размышляя над достаточно редкими сообщениями такого рода наших
информантов, мы старались понять, насколько религиозные практики в новом
советском городе воспринимались как часть этнической традиции и народной
культуры и тем самым подтвердить или опровергнуть принятую в научной ли-
тературе точку зрения о характерной для России тесной сопряженности рели-
гии и этничности, о переплетении религиозной и этнокультурной идентично-
стей, способствовавших сохранению элементов религиозной культуры среди
отошедшего от церкви населения. Позже эти особенности облегчили возвраще-
ние религии в общественную жизнь и предопределили многие характеристики
современной религиозности.
Пилотажный обзор работ по истории хрущевской оттепели, сделанный до
нас зарубежными коллегами (Werth 1962), убеждает: формальным атрибутам
жизни верующих - от икон и крестов до храмов и часовен - в новой жизни
Пушкарева Н.Л., Жидченко А.В. Религиозная ситуация в новых городах СССР...
221
места не оставлялось. После принятия двух постановлений ЦК КПСС
(“О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улуч-
шения” от 07.07.1954 и “Об ошибках в проведении научно-атеистической про-
паганды среди населения” от 10.11.1954) в стране была начата богоборческая
кампания. Но в полной мере она развернулась после XX съезда КПСС и выхода
тайного постановления «О записке отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС
по союзным республикам “О недостатках научно-атеистической пропаганды”»
(от 04.10.1958), обязывавшего партийные, комсомольские и общественные
организации развернуть пропагандистское наступление на “религиозные пе-
режитки”. А 28 ноября 1958 г. ЦК КПСС принял постановление “О мерах к
прекращению паломничества”, “…означавшее новый этап партийно-государ-
ственной политики в отношении религиозных организаций… и всемерное осла-
бление русской православной церкви” (Сосковец 2011: 2). Радикальная борьба
против святынь (святые источники засыпали землей, заливали бетоном [как ме-
сто обретения Курской Коренной иконы] или мазутом [как в Вологодской обл.],
ставили милицейские наряды) сопровождалась усилением репрессий против
верующих. Атеистическая пропаганда считалась главным способом борьбы с
“религиозными пережитками”, и потому усиленному промыванию умов уделя-
лось особое значение (“Не промысел божий, а Коммунистическая партия руко-
водит движением нашего общества к коммунизму, и любая попытка замазать,
скрыть коренную противоположность и непримиримость марксизма и религии
может лишь тормозить это движение” [Гапочка 1957: 39]). Моральный кодекс
строителя коммунизма, теоретически обобщенный в Программе КПСС, при-
нятой XXII съездом партии (1961), включал такие принципы коммунистиче-
ской морали, как коллективизм, товарищество, патриотизм, интернационализм,
добросовестный труд на благо общества. Как главную задачу партия провоз-
глашала формирование научного мировоззрения на базе марксистко-ленинской
теории - без этого (считалось) невозможно появление морально совершенной,
гармонично развитой личности, лишенной “родовых пятен капитализма”, “ре-
лигиозных суеверий” и иных “вредных пережитков” (Программа 1974: 25-42;
Программы и уставы 1969: 198-200). Особое внимание должно было уделить
молодежи, чтобы сократить “воспроизводство религиозности среди юноше-
ства”, а в перспективе “добиться полного перекрытия каналов воздействия ре-
лигии” (Коновалов 1978: 255; Крутик 1957: 42). Похоже, что некоторый реаль-
ный успех такая пропаганда все же имела. Одна из респонденток вспомнила,
как в 1961 г., “когда Гагарин полетел в космос, все ахнули - там же Бог, он к
Богу полетел? А потом он взлетел, вернулся, а там Бога-то, оказывается, нету”
(ПМА 2011). Гордость за достижения своей страны, звучащая в этом воспоми-
нании, вместе с невольным атеизмом, вполне адекватно вписаны в тогдашнее
советское сознание.
Отдельной задачей того времени было быстрое освоение новых пространств,
а значит, и создание новых городов, возводить которые призвали “молодость
мира”: советские юноши и девушки по комсомольским путевкам отправлялись
в труднодоступные и малообжитые районы страны. В послевоенном СССР стре-
мительно росли заводы-гиганты, a рядом с ними - и города: Волжский в РСФСР,
Сумгаит в Азербайджане, Новая Каховка на Украине, Силламяэ в Эстонии. Эти
города (по замыслу) изначально моделировались как образцы новой повсед-
невности, в которой (и это отличало их от старых городов) не было церквей.
В рассматриваемых нами “безбожных городах”, построенных в годы хрущев-
ской оттепели - Городке Нефтяников (построен в 1961 г.; в настоящее время -
222
Этнографическое обозрение № 3, 2022
часть Омска), Салавате в Башкирской АССР (город - с 1954 г.) и Ангарске в
Иркутской обл. (город - с 1951 г.), градообразующими были громадные нефте-
перерабатывающие комбинаты с развитой социальной инфраструктурой.
Основным источником при изучении религиозного аспекта повседневной
жизни этих новых городов были для нас неструктурированные биографические
интервью их жительниц, собиравшиеся с начала 2000-х годов в рамках проекта
“Повседневная жизнь новых городов и городских районов в 1950-1960-е годы:
проблемы формирования городской среды”. Общее число записанных текстов - 94,
однако специального упора на религиозные сюжеты в ходе опроса не делалось.
Редкость обращения к теме верований и небольшое количество упоминаний ре-
лигиозных практик отражают особенности социализации поколения женщин,
рожденных в годы войны или сразу после нее.
Географические рамки сбора воспоминаний были определены строящими-
ся в 1950-1960-е годы Ангарском, Салаватом, омским Городком Нефтяников.
Междисциплинарные методики и социологические инструменты (основанные
на условных планах интервью, в которых, однако, религиозная тема не выде-
лялась) позволили изучить особенности городской повседневности в этих но-
вых городах СССР. Междисциплинарный подход был апробирован ранее кол-
легами-социологами, в частности С.А. Чуйкиной, изучавшей повседневность
“бывших” (дворян) в советском городе (Чуйкина 2006). Обосновывая репре-
зентативность выборки, исследовательница подчеркнула, что для получения
убедительных результатов необходимо
желание рассказчика рассказать о том, что он знает; в рассказе должны присутствовать
рефлексия, размышления и рассуждения; текст должен состоять из одного или несколь-
ких нарративов; нужны также “исследовательская интуиция и знание истории”, умение
сопоставить полученную информацию с другими аналогичными материалами и други-
ми источниками, проанализированными с той же целью (Там же: 217-218).
Воспоминания горожанок собирались с условной опорой на заранее состав-
ленный опросник, нацеленный на реконструкцию семейных биографий, объяс-
нение причин приезда на новое место, а также рассказ о повседневной жизни в
новых городах в 1950-1970-е годы. Вопросы, связанные с отношением к церкви
и вере, религиозным традициям и практикам, специально не задавались, ин-
формантки лишь иногда по собственному желанию говорили об этом. Из 94
записанных воспоминаний (мужчин и женщин) всего в 24 (в 5 мужских и 19
женских) есть фрагменты, имеющие отношение к религии. Именно женские
воспоминания (в сопоставлении с данными из других источников) и являются
основой для исследования. Эти 19 информанток условно могут быть разбиты
на две группы: 1) приехавшие в новые города в возрасте 18 лет и старше, что-
бы работать на градообразующих предприятиях, - 3 человека; 2) приехавшие
детьми с родителями - первопоселенцами - 16 человек. В силу значительной
временной дистанции воспоминания женщин, отнесенных ко второй группе,
наиболее информативны. Сведения о повседневной жизни в новых городах, со-
держащиеся в остальных 70 интервью, были использованы для теоретических
обобщений и выводов в работе над проектом в целом.
Из материалов, обобщенных в российской историографии, уже уделившей
внимание истории обновления жизни в СССР в середине XX в., невозможно
получить информацию о роли православных ценностей в советских семьях,
в 1950-1960-е годы оказавшихся в новых городах, - в центре внимания уче-
ных были общественные процессы, взаимоотношения церкви и государства,
Пушкарева Н.Л., Жидченко А.В. Религиозная ситуация в новых городах СССР...
223
а обычные люди, их быт, аксиосфера чаще всего оставались за рамками исследо-
вания (Шкуратов 2005; Марченко 2008; Табунщикова 2011). Даже в работах по-
следних лет, написанных на волне историко-антропологического поворота, анали-
зируются не бесхитростные признания и личные свидетельства, а статистический
материал, данные служебных записок (Булавин 2011: 46-49; Такахаси 2012;
Арапов 2013). Поскольку абсолютное большинство собранных нами воспомина-
ний о быте того времени принадлежит женщинам, мы ставим целью внести
посильный вклад в гендерные исследования отечественного прошлого.
Комплекс устных воспоминаний анализировался нами с применением ме-
тодов устной истории, истории повседневности, а также теории культурно-
цивилизационного ландшафта (подробнее о теории см.: Рыженко 2003: 24)
и перекрестной критики источников. Учитывалась и радикальная смена церковно-
государственных отношений, и коренная трансформация идеологической па-
радигмы российского общества конца 1980-х - начала 1990-х годов, которую
пережили все респонденты. Новый взгляд на религию, “разрешенный” после
развала СССР, повышает ценность воспоминаний старожилов новых городов:
будучи детьми, они что-то запомнили вопреки воле идеологов и подчас вопре-
ки собственному желанию, поскольку усваивали социальные нормы и ценно-
сти сразу двух поколений советских граждан - своих родителей (рожденных в
СССР в довоенный период) и бабушек-дедушек (рожденных иногда до 1917 г.).
Изменения в жизни страны, их оценки, сформированные воспитанием, опреде-
ляют воспоминания женщин, усиливают историчность сообщенного, актуали-
зируют поставленные в нашем исследовании вопросы.
Чтобы понять, почему новые (комсомольские) поселения, созданные в по-
слевоенные десятилетия для обеспечения рабочей силой крупных промышлен-
ных комплексов и ставшие в годы оттепели городами, оказались “безбожными”,
необходимо вспомнить некоторые факты. Так, в истории Салавата и Ангарска,
построенных в 1950-е годы практически с нуля, не было дореволюционного
периода, а значит, и каких-то традиций, и сложившегося жизненного уклада.
В Ангарске первый священник появился только в августе 1991 г., когда там воз-
никла православная община, и лишь в 1995 г. был выстроен Свято-Троицкий
кафедральный собор. В Салавате не было православных общин вплоть до конца
1980-х годов; по словам жителей города, верующие ездили молиться в соседний
Ишимбай, a строительство салаватского храма началось только в 1990 г. (Вла-
димир Килин 2009). В отличие от Ангарска и Салавата, Городок Нефтяников
строился как новый район крупного промышленного центра. Культурно-исто-
рическое наследие Омска тесно связанно с мощным дореволюционным влия-
нием православной традиции, и даже в советский период в его центре сохра-
нялся действующий храм. На месте будущего Городка с XVIII в. существовала
д. Захламино, в которой еще в 1788 г. была построена Церковь Всех Святых, в
земле Сибирской просиявших. Впоследствии историческая часть деревни была
поглощена новой жилой застройкой. Память о снесенной в предвоенное вре-
мя церкви тайно и бережно хранилась; к 1000-летию Крещения Руси (1988 г.)
церковь была восстановлена (Церковь Всех Святых б.г.).
Однако в интересующий нас период эта часть Омска была “безбожной”.
Начатое там в начале 1950-х годов строительство жилых массивов для 55 тыс.
работников нефтезавода (Омский нефтеперерабатывающий завод; в тезаурусе
омичей “нефтезавод”) развернулось настолько активно, что во второй половине
1950-х годов плановые показатели численности населения были увеличены до
150 тыс.: в новый Городок потянулись комсомольцы со всей страны, демобили-
224
Этнографическое обозрение № 3, 2022
зовавшиеся солдаты, сельская молодежь. Краевед М.П. Журавлев считает, что
к этой цифре нужно добавить 25 тыс. заключенных-спецпоселенцев (Журавлев
1993: 164). Естественно, ни о каком возведении храмов для прибывавших в то
время речь не шла. Строительство рядом с крупными нефтезаводами Салавата
и Ангарска также притягивало молодежь из разных регионов страны: с Север-
ного Кавказа (тогдашнего нефтяного центра СССР), из Киева, Харькова, даже
из Москвы и Ленинграда.
После первой паспортной реформы 1953 г. в новые города двинулась и сель-
ская молодежь, мечтавшая о новой жизни, работе и создании семьи. Эти юноши
и девушки (в отличие от городских) сохраняли традиции воспитания, передан-
ные им родителями и старшими родственниками, - на селе религиозность иско-
ренить не удавалось. Часть семей, осваивавших новое городское пространство,
сохраняла в своей памяти и повседневных практиках элементы православной
традиции, поскольку в деревнях нередко отмечались церковные праздники,
крестили детей, здесь господствовали старые представления об отношениях
полов и прежние нормы морали (Шлихта 2012: 381).
В городах богоборчество шло успешнее. Цели кампании достигались через
социальную изоляцию Церкви и, по сути, запрет на исполнение религиозных
обрядов. Давление среды и общественного мнения, принуждавшее молодежь к
определению себя как убежденных атеистов, вело к тому, что прибывавшие на
комсомольские стройки люди по большей мере отличались секулярным созна-
нием. Атеистическое воспитание велось и через периодическую печать: анализ
публикаций середины 1950-х - середины 1960-х годов выявляет почти полное
отсутствие упоминаний, относящихся к религиозной жизни. Встречаются лишь
фельетоны о верующих, вставших на ложный (с точки зрения советской иде-
ологии) путь и упорствующих в своем заблуждении (Костюков 1962). Чаще
(чтобы не обострять конфликт интересов с представителями православных се-
мей) критике подвергались не православные, а иные христианские направле-
ния, движения и деноминации (свидетели Иеговы, баптисты, иннокентьевцы
и скрытники-странники - сторонники ИПЦ [Истинно-православной церкви],
пятидесятники, старообрядцы) (Колкунова 2013). На Омском нефтеперерабаты-
вающем заводе и во Дворце культуры “Нефтяник” (главном культурном учреж-
дении и общественном месте района) на рубеже 1950-1960-х годов читались
лекции по атеизму, молодежь подталкивали выпускать стенгазеты, высмеива-
ющие верующих; факты регулярного посещения церкви горожанами подвер-
гались разборкам на партийных собраниях (ГИАОО 1: 115). Признания, что в
семье есть верующие, становились актами гражданского мужества (Шкаров-
ский 2005: 20). Стойкость требовалась и тогда, когда речь шла о семейных цен-
ностях, потому что для женщин это был вопрос готовности к частым родам,
отказу от контрацепции, непримиримого отношения к абортам (в этих вопросах
отход от традиционных ценностей был особенно очевидным) (Белякова и др.
2011: 112-114). Ориентировавшее индивида на постоянную “открытость това-
рищам”, коллективность советское общество старалось не выпускать из-под
контроля социальное поведение молодежи и в деревне, и в городе, в этих усло-
виях одиноким людям оказывалось легче сохранять веру и убеждения, нежели
семейным. Не случайно большинство воспоминаний верующих о том времени -
воспоминания одиноких людей (Василевская 2001: 9-14).
Главные хранительницы семейной памяти - бабушки, которые по большей
части были верующими, утрачивали возможность влияния на детей, поскольку
обязательным компонентом школьного обучения была антирелигиозная пропа-
Пушкарева Н.Л., Жидченко А.В. Религиозная ситуация в новых городах СССР...
225
ганда (Саран 2003: 328). Старожилки городов, оказавшихся в центре нашего
внимания, тихо признавались, рассказывая о себе: “В школе нам все время гово-
рили, что Бога никакого нет, никто даже не заикался, что он есть. А если узнают,
кто верующий - дразнили даже. Этого все боялись” (ПМА 2010: информант
Л.И. Сизинцева). Верующих детей в школах почти не было, за несколько деся-
тилетий выросло поколение, получившее атеистическое воспитание и адапти-
рованное к жизни в атеистической стране, в которой церкви вместе с тюрьма-
ми (как поется в популярной песне С. Покраса и П. Григорьева) “сравняли с
землей”. Не удивительно, что молодые женщины в новых городах СССР, даже
в сложных жизненных ситуациях (неустроенность быта, алкоголизм мужей,
тяжелая работа на производстве) редко обращались к религии. Дети в семьях
приехавших на строительство омского, ангарского и салаватского нефтезаво-
дов росли в атеистической обстановке, и лишь старшее поколение (бабушки,
дедушки) сохраняло православные традиции. В почти сотне воспоминаний,
что были собраны у старожилов Городка Нефтяников, Ангарска и Салавата,
нет ни одного упоминания о семье, которая обозначила бы себя как семью ве-
рующих, осознанно соблюдавших православные обряды: “Родители наши не
ходили в церковь, всегда говорили нам, что Бога нет. А вот бабушка наша го-
ворила, что Бог есть, но в церковь ходить не велела, [говорила, что] там попы
продажные” (ПМА 2008: информант Н.Н. Кочетова). Родители респондентки и
она сама жили тогда в Городке Нефтяников, а бабушка - в историческом центре
Омска, “в старом деревянном доме на Тарской” рядом с единственным дей-
ствующим в то время в городе Кафедральным собором Воздвижения Честного
Креста Господня. Утверждение бабушки, врезавшееся в память респондентки,
что в Церкви она не сможет найти духовной крепости, заставляет вспомнить о
печально известной реформе церковного управления 1961 г., по которой кон-
троль за хозяйственной и административной деятельностью в приходе пере-
шел от настоятелей храмов к церковным исполнительным органам во главе со
старостами. Местные уполномоченные по делам религий старались, чтобы в
старосты попадали скорее разрушители, нежели созидатели церковной жизни.
Не случайно в 1960-е годы начались запреты богослужений под открытым небом,
церковных треб на дому у прихожан (Кириченко 2020).
Старожилы “безбожных” советских городов, рожденные в 1950-1960-е годы
уже на новом месте, стали здесь первым “коренным” поколением. На вопрос
об отсутствии религиозных помыслов и запросов в детские годы жизни они
дают однозначный ответ: “Какая церковь? Нас бы из пионеров и комсомоль-
цев попросили бы сразу. В те годы вообще атеизм был везде, попробуй сходи
в церковь и попробуй покрести ребенка - отовсюду выгонят, даже с работы
выгнать могли” (ПМА 2008: информант Е.А. Анисимова). Семейное и школь-
ное воспитание формировало у советских детей даже не равнодушие, а прямое
нежелание проявлять интерес к церковной истории, христианским традициям и
обрядам. “Мне почему-то всегда было плохо в церкви, - признавалась одна из
ангарчанок, бывшая в 1950-е годы ребенком и ездившая на каникулы к бабушке
в деревню, где была церковь, - то ли от запаха ладана, то ли от чего еще, но
меня там тошнило, я уходила” (ПМА 2020-1).
В новых почти полностью молодежных городах СССР, в отличие от старинных
русских городов (в которых было немало храмов, несмотря на все предшеству-
ющие ликвидации), приобщиться к Церкви было невозможно (Калинина 2018;
Кащаева 2017). Но религиозная жизнь все же теплилась: “…наши родители не
были верующими, но мы, дочери, у них все крещеные были. И нас крестили еще
226
Этнографическое обозрение № 3, 2022
маленьких, в 2-3 месяца” (ПМА 2008: информант Н.Н. Кочетова). Именно роди-
тели (особенно матери), даже живя в новых городах, где и церквей-то не было,
чаще всего настаивали, чтобы детей и внуков молодые семьи крестили; матери
могли быть даже организаторами крещения (реже - тайного венчания). Старшие
женщины, нянчившиеся с новорожденными - за помощью к ним вынуждены
были обращаться работавшие матери, - знали старинные заговоры, наговоры,
православные молитвы, которые переписывались от руки, передавались изустно.
С их помощью старались лечить от болезней, испуга, зубной боли, сглаза.
Привозила ли молодежь, ехавшая на стройки новых городов, с собой ико-
ны, выяснить не удалось. Но то, что в некоторых домах они были, упоминали
многие - правда, люди не могли вспомнить, откуда они взялись. Моление дома
у икон заменяло посещение церкви. Иногда иконка (по воспоминаниям) была
совсем маленькой, иной раз это был просто медальон с изображением святого,
подаренный родителями, бабушкой. Никакого особого места для такого пред-
мета в квартирах не было: старую икону могли спрятать среди книг, положить
вместе с фотоальбомом. Ни о каких “красных углах” в новых квартирах в то
время никто и не слыхивал: “…у нас икон никогда не было, и даже у бабы Кати
я не помню, чтобы они были. Может где-то завернутые во что-нибудь, спрятан-
ные в тряпочку где-нибудь в комоде” (ПМА 2008: информант А.С. Грицина).
Если же в квартирах новых городов выделялась комната для бабушки, в ней
можно было увидеть на треугольной полочке икону, украшенную рушником.
В сельских домах место для красного угла часто выделялось на кухне. Внуки,
росшие в новых советских городах, приезжая летом в дни каникул к бабушкам,
видели ритуалы верующих родственниц, знакомились с внешними атрибута-
ми жизни верующего, подчас впервые посещали церковь. Те, кто вспомнил о
таких деталях своих детских биографий, объясняют свое нынешнее незнание
православной традиции страхом бабушек перед родителями и школьными учи-
телями, ответственными за атеистическое воспитание: “[Помню] возле церкви
всегда народу было много, там, конечно, внутри было красиво - иконы разри-
сованы золотом, свечки горят”. Врезалось в память и то, что в большинстве
своем это были пожилые женщины. Не без страха, но с любопытством дети
наблюдали, “как по праздникам во дворе храмов выставляли столы, освящали
пасхи…” (ПМА 2008: информант Л.Н. Сливина). Никаких данных о деятельно-
сти запрещенных (сектантских) подпольных религиозных групп в новых совет-
ских городах мы не нашли, хотя в Южной Сибири, вероятно, их было немало.
Об этом свидетельствует и принятие Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР (от 04.05.1961) об усилении борьбы с лицами, “ведущими антиобще-
ственный паразитический антисоветский образ жизни” (Зиберт 2018).
У части женщин, поехавших строить новые города по комсомольскому при-
зыву, сохранилась готовность соблюдать православные традиции при одновре-
менном отрицании Церкви как института - явление это, как отмечают и другие
исследователи, достаточно частое (см., напр.: Казьмина 2015: 28). Так, пере-
ехавшая в 1950-е годы в омский Городок Нефтяников из Полтавской области
женщина призналась, что всю жизнь была верующей, но церковь и священ-
ников обходила стороной. «Родилась и прожила все детство на Украине, a в
голодный год во время поста однажды увидела, как поп наворачивал курицу.
Сам жирный, и у него жир по бороде течет. А голод был тогда. Я ему говорю:
“Батюшка, грешно же!” А он мне: “Есть, Валя, никогда не грех!”». Удивительно,
но после того случая женщина не только осталась верующей, но и воспитала
набожной (но отрицавшей Церковь) свою дочь (ПМА 2005-2). Городок Нефтя-
Пушкарева Н.Л., Жидченко А.В. Религиозная ситуация в новых городах СССР...
227
ников в середине XX в. был окраиной Омска, но, когда в 1964 г. единственный
в областном центре храм среди бела дня “обнесли” воры, весть об этом быстро
докатилась и сюда. До сих пор люди вспоминают без всякого сочувствия, что
обворовали не только храм, но и дом священника, рассказывают, что церковный
сторож бегал по округе и причитал: “Караул! Нас обокрали!” (ПМА 2008: ин-
формант Н.Н. Кочетова). “Нигде мы не молились, ни на какие молебные сборы
не ходили, и никто из наших в церковь не ходил. Это было не принято, - резю-
мировала одна из рассказчиц. - Идеологическая работа у нас велась настолько
сильно, что мы никто даже и не думали в церковь ходить” (ПМА 2005-1).
Самым устойчивым из всех религиозных таинств оказалось крещение.
Священнослужители крестили детей - не сразу после рождения, а некоторое
время спустя - в уцелевших, подчас расположенных вдалеке от новых городов
церквях. Наибольшее число треб приходилось на государственные праздники,
так как старшее поколение привыкло приурочивать к ним торжественные собы-
тия своей жизни. Крестины были ритуалом почти обязательным, хотя обычно
молодые родители религиозный смысл таинства не осознавали: они говорили,
что “так принято”, воспринимали это как данность. Из городов везли детей к
родственникам в села, там среди родни искали крестных, покупали крестики,
совершали обряд. Крестики дети не носили (“крестики у нас были, но они у
мамы всегда в шкатулочке лежали”; “крестик не носили, это в 90-е года все
начали золотые кресты покупать, стали веровать в Бога” [ПМА 2009: инфор-
мант Г.Г. Штепа]). Среди треб нередко было женское исповедничество; могли
вызвать священника на дом - к больному или на отпевание покойного.
Вынужденные скрывать свои религиозные убеждения, жительницы Салавата,
Ангарска и омского Городка Нефтяников, чаще всего по наставлению мам, со-
вершали крестильное таинство тихо: “Когда мне было 17 лет и я училась на
первом курсе института, пошла в церковь крестить племянника. А оказалось,
что я не крещеная, и я сама покрестилась. Но очень боялась, что в институте
узнают. Если б узнали, могли бы из комсомола выгнать, а если из комсомола -
то сразу и из института” (ПМА 2008: Л.Н. Сливина). Такой рассказ типи-
чен: в 1950-е - начале 1960-х годов крестили тайно; даже значительно позднее
(в 1970-е годы) комсомольские организации в вузах жестко отслеживали неате-
истов, желая “не допустить кривотолков” (Слезин 2016: 184-185). Как о подвиге
сокурсников женщина говорит о том, что “тогда рассказала всем, но ребята (ни-
кто меня не выдал!) все были дружные” (ПМА 2008: информант Л.Н. Сливина).
В Салавате, как запомнилось респонденткам, директор одного из училищ покре-
стил в 1960 г. детей - и его сняли с поста. Жена его переживала, что и ее могут
выгнать с работы, но ее лишь перевели с должности секретаря директора в школь-
ную библиотеку (ПМА 2020-2).
Те женщины, которые занимались активной партийной и общественной де-
ятельностью в новых советских городах в 1950-1960-е годы, были в юности
убежденными атеистками, отрицали христианские ценности сами и пресекали
религиозные порывы других. Весьма показательна в этом смысле биография
Л.П. Одинцовой, сделавшей в Городке Нефтяников успешную партийную ка-
рьеру. Еще будучи молодым бригадиром, она строго пресекала разговоры о ре-
лигии и церкви в своей женской бригаде (ПМА 2010: информант Л.П. Одинцо-
ва). Тем не менее потребность в духовной поддержке и исполнении церковных
ритуалов исподволь сохранялась.
Несмотря на повсеместно насаждаемый атеизм, в новых “безбожных”
городах продолжали отмечать в семейном кругу некоторые христианские
228
Этнографическое обозрение № 3, 2022
праздники. Самыми любимыми были Пасха и Рождество. “Родители были ате-
исты, не верили ни в Бога, ни в церковь. Но накануне Пасхи мама, хоть сама
никогда не заводила тесто, нас в кулинарию пошлет, мы купим сдобное…
Потом туда что-то подмешивала, и у нее получалось большое 12-литровое
ведро - семья то большая. Напечет много куличей”. Понятно, что Великий пост
никем не соблюдался, потому и за практикой разговления не стояло никакого ре-
лигиозного смысла. «Отец в 5 утра нас всех поразбудит - меня, маму, сестер, -
поднимайтесь, девчонки, разговляться будем. Мы говорим: рано, спи, ложись.
А ему поскорее выпить хотелось. Нам всем по яичку раздаст, мы стукались,
говорили: “Христос Воскрес, Воистину Воскрес”» (ПМА 2008: информант
Н.Н. Кочетова). Пили во время религиозных праздников, по словам респонден-
ток, в основном кагор - он всегда накануне Пасхи появлялся в продаже. То же
можно сказать и о Рождестве, которое почти повсеместно заменил Новый год.
В созданных в середине XX в. городах оно стало просто поводом “отметить” -
выпить, повеселиться.
Те, кто в 1950-1960-е годы были детьми, с удовольствием вспоминают, как
им нравилось в детстве помогать маме печь куличи, блины (реже - делать тво-
рожную пасху), но особенно красить яйца: “…и зеленкой, и луковой шелухой,
если подольше поваришь, они чуть ли не коричневые были. Помогали маме стря-
пать, она с детства нас к этому приучала” (ПМА 2008: информант Н.Н. Кочетова).
Очевидно, что налицо была “приватизация” религиозного праздника: проис-
ходила смена его значения (с религиозного на семейный); росла роль развле-
кательных элементов, дополнявших ритуальные действия, что заставляло за-
бывать об исходном смысле важного для верующих дня (Сиротинина, Келли
2008). “Поститься никогда никто не постился, а в воскресенье христосовались,
куличи мама пекла”; “[Я] и не знала, где церковь находится. Яйца крашеные
мы ели на Пасху, но корни этого праздника не знали” (ПМА 2008: информант
А.С. Грицина). В покраске яиц можно заметить устойчивость русской культур-
ной традиции, ее преемственность, как и в случае колядования, масленичных
гуляний или праздника Ивана Купала.
Куда более редкими практиками в условиях новых городов и городских по-
селений в середине ХХ в. были обручения, благословения на брак и само венча-
ние. Не без труда кто-то вспомнил, что старшие женщины в доме или родители
жениха или невесты могли “напоследок” перекрестить молодых, выйти после
ЗАГСа с иконой им навстречу (“когда мы поженились, мама мужа нас встрети-
ла с иконой, покрестила нас и благословила. Тетя Шура потом винила нас: вы
все такие набожные, и Любу нашу начнете в эту веру сманивать”) (ПМА 2008:
информант Л.Н. Сливина).
Страх родственницы был небезоснователен: верующие семьи, если и
встречались в новых городах, жили изолированно, ограничивали круг своего
общения (в него входили только верующие и сочувствующие), поскольку под-
вергались преследованиям. Маргинальность верующих в 1950-1960-е годы
подчеркивалась и профессиональным разделением: обычно они занимались
подсобным хозяйством, мелким кустарным ремеслом. В отличие от работников
крупных предприятий их не ставили в очередь на получение квартиры - и они
жили в частных домах, зачастую совсем ветхих. Хорошо помнящие эти годы
рассказали, что во время служб у входа в церковь стояли сотрудники милиции,
проверявшие документы прихожан; “прямо у входа вычисляли, ведь сразу вид-
но - бабка какая-то идет или нормальный рабочий человек. У рабочего проверя-
ли документы, затем вызывали на партийное собрание, и у него были большие
Пушкарева Н.Л., Жидченко А.В. Религиозная ситуация в новых городах СССР...
229
проблемы” (ПМА 2011). С одной стороны, так велась борьба с религией ин-
ститутами “горизонтального надзора” (в частности, через привлечение добро-
вольных народных дружин), с другой - так пытались выявить молодых людей,
носивших крестики или иные религиозные символы (ставшие популярными
в середине 1960-х годов и позже). Появились «рок-опера “Иисус Христос -
суперзвезда” и крестики, христианство вдруг стало предметом поклонения хип-
пи» (Кан 2019) - в этом случае борьбу вели уже с западным стиляжничеством.
* * *
Анализ немногочисленных фрагментов интервью, касающихся религиоз-
ных вопросов, позволил нам подтвердить гипотезу, неоднократно высказыва-
емую другими авторами: период 1950-1960-х годов ознаменовался окончани-
ем кратковременного и шаткого примирения советского государства и Русской
православной церкви, достигнутого во время Великой Отечественной войны и
приведшего к “оттаиванию” религиозной жизни (Марченко 2010). Возобновле-
ние с начала 1950-х годов политики жесткой секуляризации сопровождалось
реализацией амбициозного проекта “строительства новой мирной жизни” -
новых городов на востоке СССР. Все это не могло не сказаться на повседневно-
сти людей - главных акторов внедрения идеологических планов. Не вступая в
прямые конфликты с Русской православной церковью, государство делало все
возможное, чтобы добиться атеизации населения. В двух из рассматриваемых
нами трех городов, основанных в 1950-е годы, строительство церквей даже
не планировалось. При всем обновленческом, либеральном характере поли-
тической “оттепели” хрущевское десятилетие было временем сохраняющейся
“гражданской бдительности” в отношении верующих. Инструментами реали-
зации политики богоборчества становились школы, комсомольские и партий-
ные организации, добровольные народные дружины - их активно подталкивали
сообщать о выявленных ими случаях несогласия с политикой секуляризации,
о лицах, соблюдавших религиозные предписания (Хархордин 2002). В новых
молодежных городах (Салават, Ангарск) в таких действиях было мало смысла,
но в Омске, частью которого стал Городок Нефтяников, ситуация была иной:
храм в центре города никогда не прекращал окормлять верующих.
Сохранявшиеся в семьях, живших в новых городах и городских районах,
религиозные обычаи и ритуалы, содержали скрытый культурный код, связан-
ный с этническими традициями русского народа. Православные традиции под
влиянием социальных трансформаций перестали отождествляться только с при-
надлежностью к конфессии, став элементами “русскости”. Наши размышления
над нечастыми упоминаниями, относящимися к периоду 1950-1960-х годов, о
православных традициях в семьях молодых “строителей коммунизма” позво-
лили разрешить кажущийся парадокс: православных (по переписям и опросам)
всегда оказывалось больше, чем верующих. То, что было связано с конфесси-
ональным, в повседневных практиках обычно утаивалось - но из всех граней
религии именно “идентичность” оказывалась особенно важной в российском
контексте. В изучаемый период в каждом призванном быть образцовым районе,
в каждом новом городе религиозность проявлялась лишь в приватном, внутри-
семейном пространстве, тщательно оберегаемом женщинами, и не выходила за
его пределы. Несмотря на все усилия властей, отдельные семьи все же остава-
лись проводниками христианских традиций, передавая их от поколения к поко-
лению. Страх следовать этим традициям, оказаться “заклеймленным”, не впи-
230
Этнографическое обозрение № 3, 2022
сывающимся в образ члена нового общества заставлял людей молчать о своих
духовных запросах. Именно женщины в молодых семьях “строителей комму-
низма” были тогда вольными или невольными хранительницами православной
традиции, оберегая эту тонкую нить, связывающую поколения. По сути, это
подготовило российское общество к ревитализации религиозной жизни во вто-
рой половине 1980-х - начале 1990-х годов.
Источники и материалы
Василевская 2001 - Василевская В.Я. Катакомбы XX века. Воспоминания.
М.: Фонд имени Александра Меня, 2001.
Владимир Килин 2009 - Первый ангарский священник Владимир Килин //
ru/2009/4/17/6236
Гапочка 1957 - Гапочка М.П. О богостроителях старых и новых // Наука и
жизнь. 1957. № 4. С. 37-40.
ГИАОО 1 - Исторический архив Омской области (ГИАОО). Р-235: Исполни-
тельный комитет Омского городского Совета народных депутатов, г. Омск.
Оп. 2. Д. 1371.
Журавлев 1993 - Журавлев М.П. Омск вчера, сегодня, завтра. Омск: [б.и.], 1993.
Кан 2019 - Кан А. Безбожная утопия. Как в Советском Союзе боролись с рели-
гией // BBC News. Русская служба. 18.12.2019 (дата обращения: 27.04.2021).
Костюков 1962 - Костюков И. Плутни Лукавого // Крокодил. 1962. № 3. С. 8-9.
Крутик 1957 - Крутик М.И. Вредный пережиток // Наука и жизнь. 1957. № 6.
С. 41-44.
ПМА 2005-1 - Полевые материалы авторов. Ангарск, октябрь 2005 г. Инфор-
мант: Е.А. Курицына, 1953 г.р.; интервью от 08.10.2005 (родилась в Ангар-
ске в семье работников химкомбината; до 7 лет, пока семья не получила
отдельную квартиру, жила в деревянном бараке в рабочем поселке).
ПМА 2005-2 - Полевые материалы авторов. Омск, октябрь 2005 г. Информант
В.Н. Шумова, 1931 г.р.; интервью от 10.10.2005 (родилась в Полтавской обл.
УССР; с 1954 г. в омском Городке Нефтяников; из числа первопоселенцев).
ПМА 2008 - Полевые материалы авторов. Омск, 2008 г. Информанты: А.С. Гри-
цина, 1934 г.р.; интервью от 29.11.2008 (прибыла в Городок Нефтяников
из совхоза Лебедянский Горьковского p-на Омской обл. в 1955 г. с мужем
С.Д. Грициным; работала оператором нефтяной установки в дневные и ноч-
ные смены; жили в бараке, после рождения двух сыновей получили квартиру);
Е.И. Анисимова, 1952 г.р.; интервью от 22.11.2008 (живет в Омске; родилась
на Северном Кавказе в семье рабочих; родители работали на Омском заво-
де синтетического каучука); Н.Н. Кочетова, 1954 г.р.; интервью от 24.11.2008
(живет в Омске; родилась в Алма-Ате; в Городке Нефтяников оказалась в
1958; мать - коренная омичка; дом бабушки находился рядом с церковью на
ул. Тарской); Л.Н. Сливина, 1963 г.р.; интервью от 22.11.2008 (живет в Омске с
1965 г.; родилась в совхозе им. Н.К. Крупской Талды-Курганской обл. Казах-
ской ССР; родители - коренные омичи, отец строитель, мать почтальон).
ПМА 2009 - Полевые материалы авторов. Омск, январь 2009 г. Информант
Г.Г. Штепа, 1942 г.р.; интервью от 20.01.2009 (родилась в Краснодарском
крае; родители - выпускники нефтяного техникума были распределены на
омский нефтезавод в 1953 г.; в числе первопоселенцев получили жилье в
“финском домике”).
Пушкарева Н.Л., Жидченко А.В. Религиозная ситуация в новых городах СССР...
231
ПМА 2010 - Полевые материалы авторов. Омск, апрель 2010 г. Информан-
ты: Л.И. Сизинцева, 1949 г.р.; интервью от 03.05.2010 (родилась в Омске);
Л.П. Одинцова, 1937 г.р.; интервью от 03.04.2010 (родилась в Уфе, окончи-
ла там техникум, работала контролером на Уфимском авиационном заводе;
в 1956 г. приехала в Омск; в 1959 г. вступила в КПСС, в 1960 г. награждена
Орденом Ленина; в 1970-1980-е годы - первый секретарь Центрального рай-
кома КПСС г. Омска).
ПМА 2011 - Полевые материалы авторов. Салават, 2011 г. Информанты:
Н.Н. Артюхова, 1960 г.р.; интервью от 19.05.2011 (из семьи работников не-
фтекомбината; отец из Полтавской обл. УССР, мать из д. Ивановка Башкир-
ской АССР, 1934 г.р.).
ПМА 2020-1 - Полевые материалы авторов. Ангарск, 2020 г. Анонимный ин-
формант, 1947 г.р.; интервью от 03.11.2010.
ПМА 2020-2 - Полевые материалы авторов. Салават, 2020 г. Анонимный ин-
формант, 1950 г.р.; интервью от 22.12.2020.
Программа 1974 - Программа Коммунистической партии Советского Союза.
М.: Госполитиздат, 1974.
Программы и уставы 1969 - Программы и уставы КПСС. М.: Изд-во политиче-
ской литературы, 1969.
Церковь Всех Святых б.г. - Омск. Церковь Всех Святых, в земле Сибирской про-
сиявших в Захламине // Соборы.ру: Народный каталог православной архи-
Научная литература
Арапов А.В. Религиозная обрядность в Воронежской области в период хрущевских
гонений и после них // Исторические исследования. 2013. № 6. С. 132-137.
Белякова Е.В., Белякова Н.А., Емченко Е.Б. Верующая женщина в советское вре-
мя // Белякова Е.В., Белякова Н.А., Емченко Е.Б. Женщина в православии:
церковное право и российская практика. М.: Кучково поле, 2011. С. 112-114.
Булавин М.В. Уровень православной религиозности на среднем Урале в 1970-е гг. //
Исторические, философские, политические и юридические науки. 2011.
№ 8 (14/2). C. 46-49.
Зиберт Н.П. Религиозные общины и их положение на юге Западной Сибири
в контексте государственно-конфессиональной политики. Автореф. дис. …
канд. ист. наук. Алтайский государственный университет, Барнаул, 2018.
Казьмина О.Е. Самая пестрая квадратная миля: интеграция беженцев и имми-
грантов в маленьком американском городе // Сибирские исторические ис-
следования. 2015. № 2. C. 28-52.
Калинина О.В. Религиозная идентичность населения Псково-Печорского края //
Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2018.
№ 2 (171). С. 76-82.
Кащаева М.В. Государственно-конфессиональная политика в отношении ис-
тинно-православных христиан в Алтайском крае в 1960-1970-е гг. // Народы
и религии Евразии. 2017. № 12. С. 121-126.
Кириченко О.В. Общие вопросы этнографии русского народа: традиция, этнос,
религия. СПб.: Алетейя, 2020.
Колкунова К.А. Атеистическая пропаганда в художественной литературе
232
Этнографическое обозрение № 3, 2022
1950-60-х гг. // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета. 2013. Вып. 5 (49). С. 113-132.
Коновалов Б.Н. Разработка теории атеистического воспитания в советской
литературе (1967-1977 гг.) // Вопросы научного атеизма. 1978. Вып. 22.
С. 254-260.
Макарова Е.А. Взаимоотношения государственных органов власти и Русской
православной церкви в 1940-е-1960-е гг. XX века. Автореф. дис. … канд.
ист. наук. Ставропольский государственный университет, Ставрополь, 2008.
Марченко А.Н. “Хрущевская церковная реформа” и ее влияние на внутрицер-
ковную жизнь по материалам Уральского региона: 1958-1964 гг. Автореф.
дис. … докт. ист. наук. Российская академия государственной службы при
Президенте РФ, Москва, 2008.
Марченко А., протоирей. Религиозная политика советского государства в
годы правления Н.С. Хрущева и ее влияние на церковную жизнь в СССР.
М.: Изд-во Крутицкого подворья, 2010.
Маслова И.И. Эволюция вероисповедной политики советского государства и
деятельности Русской Православной церкви: 1953-1991 гг. Автореф. дис. …
докт. ист. наук. Московский педагогический государственный университет,
Москва, 2005.
Рыженко В.Г. Интеллигенция в культуре крупного сибирского города в 1920-е гг.
Екатеринбург; Омск: Изд-во Уральского гос. аграрного ун-та, 2003.
Саран А.Ю. Власть и общественные организации в Центральной России
1928-1931 гг. М.; Орел: Изд-во Орловского гос. аграрного ун-та, 2003.
Сиротинина С.С., Келли К. “Было непонятно и смешно”: праздники последних
десятилетий советской власти и восприятие их детьми // Антропологиче-
ский форум. 2008. № 8. С. 258-299.
Слезин А.А. Комсомол против религии: метаморфозы 1950-х гг. // Историче-
ские, философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. 2016. № 9 (71/1). С. 183-187.
Сосковец Л.И. Положение Русской православной церкви в период “хрущевской
оттепели” // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 4.
С. 29-35.
Табунщикова Л.В. Отношения между государством и Церковью в период хру-
щевской “оттепели” (на примере Ростовской области) // Гуманитарные и
социально-экономические науки. 2011. № 4. С. 22-28.
Такахаси C. Два типа религиозности времен позднего социализма: православ-
ные верующие Владимирской области // Государство, религия, церковь в
России и за рубежом. 2012. № 4 (30). С. 328-348.
Хархордин О.В. Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности.
М.; СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2002.
Чуйкина С.А. Дворянская память: “бывшие” в советском городе (Ленинград -
1920-30-е гг.). СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2006.
Шабалин Н. Русская Православная церковь и Советское государство в сере-
дине 40-х - 50-е годы ХХ века. На материалах Кировской области. Киров:
[б.и.], 2004.
Шкаровский М. Русская Православная церковь при Сталине и Хрущеве.
М.: Крутицкое подворье, 2005.
Шкуратов С.А. Взаимоотношения Советского государства и Русской право-
славной церкви в 40-60-е гг. XX в. Дис. … канд. ист. наук. Московский
государственный областной университет, Москва, 2005.
Пушкарева Н.Л., Жидченко А.В. Религиозная ситуация в новых городах СССР...
233
Шлихта Н. “От традиции к современности”: православная обрядность и празд-
ники в условиях антирелигиозной борьбы // Государство. Религия. Церковь
в России и за рубежом. 2012. № 3-4 (30). C. 380-407.
Werth A. Russia under Khrushchev. N.Y.: Hill and Wang, 1962.
R e s e a r c h A r t i c l e
Pushkareva, N.L., and A.V. Zhidchenko. The Religious Situation in the New Cities
of the USSR in the Mid-1950s - Mid-1960s in the Memory of Todays’ Women
[Religioznaia situatsiia v novykh gorodakh SSSR serediny 1950 - serediny
1960-kh godov v sovremennoi zhenskoi pamiati]. Etnograficheskoe obozrenie,
2022, no.
3, pp.
EDN: HWOFEW ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute of
Ethnology and Anthropology RAS]
Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences
(32a Leninsky prospekt, Moscow, 119991, Russia)
Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences
(32a Leninsky prospekt, Moscow, 119991, Russia)
Keywords
Orthodox religion, city, social history, women’s history, oral history, history of USSR,
history of religion, family biography
Abstract
The article examines the problem of preserving Orthodox values in the “godless
cities” of the USSR, which arose in the 1950-60s: the Omsk Town of Oilmen,
the Bashkir Salavat, and Angarsk of the Irkutsk region. It is principally drawn on
unstructured biographical interviews conducted among the cities’ residents during
the 2010s. Discussing the changes in attitudes towards religion in the post-war
country, we pose a question: Were the Orthodox family values preserved in the new
cities created in the wave of tackling the social issue of housing in a long-standing
atmosphere of atheization? If so, what was the role of women (was it substantial or
insignificant?) in the preservation of these spiritual foundations? We argue that in
the new urban space, created as an exemplary one during the “Khrushchev thaw”,
the main keepers of Orthodox traditions were older women, “grandmothers”.
Among the factors hindering the preservation of these traditions, there were the lack
of understanding thereof by younger generations, their unwillingness to learn the
foundations of Christian faith and their inability to accept older norms or formulate
the reasons for the preservation of traditions in their families. By the beginning of the
Brezhnev stagnation era, Orthodox traditions in the families of new cities took on the
form of formal attributes of belonging to those professing the Orthodox faith.
Funding Information
This research was supported by the following institutions and grants:
Russian Science Foundation,
[grant no. 22-28-01428]
234
Этнографическое обозрение № 3, 2022
References
Arapov, A.V. 2013. Religioznaia obriadnost’ v Voronezhskoi oblasti v period
khrushchevskikh gonenii i posle nikh [Religious Rituals’ in the Voronezh Region
during the Period of Khrushchev’s Persecutions and after Them]. Istoricheskie
Beliakova, E.V., N.A. Beliakova, and E.B. Emchenko.
2011. Veruiushchaia
zhenshchina v sovetskoe vremia
[Believer Woman in Soviet Times].
In Zhenshchina v pravoslavii: tserkovnoe pravo i rossiiskaia praktika
[Woman in Orthodoxy: Church Law and Russian Practice], by E.V. Beliakova,
N.A. Beliakova, and E.B. Emchenko, 112-114. Moscow: Kuchkovo pole.
Bulavin, M.V. 2011. Uroven’ pravoslavnoi religioznosti na srednem Urale v 1970-e gg.
[The Level of Orthodox Religiosity in the Middle Urals in the 1970s].
Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki. Voprosy teorii i
praktiki 8 (14/4): 46-49.
Chuikina, S.A. 2006. Dvorianskaia pamiat’: “byvshie” v sovetskom gorode (Leningrad -
1920-30-e gg.) [Noble Memory: “former” in a Soviet City (Leningrad -
1920-30s)]. St. Petersburg: Izdatel’stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-
Peterburge.
Kalinina, O.V. 2018. Religioznaia identichnost’ naseleniia Pskovo-Pechorskogo kraia
[Religious Identity of the Population of the Pskov-Pechora Territory]. Uchenye
zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta 2 (171): 76-82.
Kashchaeva, M.V. 2017. Gosudarstvenno-konfessional’naia politika v otnoshenii
istinno-pravoslavnykh khristian v Altayskom krae v 1960-1970-e gg. [State-
Сonfessional Policy Towards True Orthodox Christians in the Altai Territory in
the 1960s-1970s]. Narody i religii Evrazii 12: 121-126.
Kazmina, O.E. 2015. Samaia pestraia kvadratnaia milia: integratsiia bezhentsev
i immigrantov v malen’kom amerikanskom gorode [The Most Motley Square
Mile: The Integration of Refugees and Immigrants in a Small American City].
Sibirskie istoricheskie issledovaniia 2: 28-52.
Kharkhordin, O.V. 2002. Oblichat’ i litsemerit’: genealogiia rossiiskoi lichnosti
[To Expose and Hypocrite: Genealogy of the Russian Personality]. Moscow;
St. Petersburg: Evropeiskii universitet v Sankt-Peterburge.
Kirichenko, O.V. 2020. Obshchie voprosy etnografii russkogo naroda: traditsiia,
etnos, religiia [General Questions of the Ethnography of the Russian People:
Tradition, Ethnos, Religion]. St. Petersburg: Aleteiia.
Kolkunova, K.A. 2013. Ateisticheskaia propaganda v khudozhestvennoi literature
1950-60-kh gg. [Atheistic Propaganda in Fiction in the 1950s and 1960s]. Vestnik
Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta
5
(49):
113-132.
Konovalov, B.N. 1978. Razrabotka teorii ateisticheskogo vospitaniia v sovetskoi
literature (1967-1977 gg.) [Development of the Theory of Atheistic Education in
Soviet Literature (1967-1977)]. Voprosy nauchnogo ateizma 22: 254-260.
Makarova, E.A. 2008. Vzaimootnosheniia gosudarstvennykh organov vlasti i
Russkoi pravoslavnoi tserkvi v 1940-e-1960-e gg. XX veka: na materialakh
Stavropol’skogo kraia [The Relationship between Government Authorities and
the Russian Orthodox Church in the 1940s-1960s. 20 Century: Based on Materials
from the Stavropol Territory]. PhD diss. abstract, Stavropol State University.
Marchenko, A., Archpriest. 2010. Religioznaia politika sovetskogo gosudarstva
v gody pravleniia N.S. Khrushcheva i ee vliianie na tserkovnuiu zhizn’ v SSSR
[Religious Policy of the Soviet State during the Reign of N.S. Khrushchev and
Пушкарева Н.Л., Жидченко А.В. Религиозная ситуация в новых городах СССР...
235
Its Influence on Church Life in the USSR]. Moscow: Izdatel’stvo Krutitskogo
podvor’ia.
Marchenko, A.N. 2008. “Khrushchevskaia tserkovnaia reforma” i ee vliianie na
vnutritserkovnuiu zhizn’ po materialam Ural’skogo regiona: 1958-1964 gg.
[“Khrushchev Church Reform” and Its Impact on Internal Church Life: Based on
the Materials of the Ural Region: 1958-1964]. PhD diss., Russian Academy State
Service under the President of the Russian Federation.
Maslova, I.I. 2005. Evoliutsiia veroispovednoi politiki sovetskogo gosudarstva
i deiatel’nosti Russkoi Pravoslavnoi tserkvi: 1953-1991 gg. [Evolution of the
Religious Policy of the Soviet State and the Activities of the Russian Orthodox
Church: 1953-1991]. PhD diss., Moscow Pedagogical State University.
Ryzhenko, V.G. 2003. Intelligentsiia v kul’ture krupnogo sibirskogo goroda v 1920-e gg.
[The Intelligentsiia in the Culture of a Large Siberian City in the 1920s].
Ekaterinburg; Omsk: Izdatel’stvo Orlovskogo gosudarstvennogo agrarnogo
universiteta.
Saran, A.Y. 2003. Vlast’ i obshchestvennye organizatsii v Tsentral’noi Rossii 1928-
1931 gg. [Power and Public Organizations in Central Russia 1928-1931]. Moscow;
Orel: Izdatel’stvo Orlovskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta.
Shabalin, N. 2004. Russkaia Pravoslavnaia tserkov’ i Sovetskoe gosudarstvo
v seredine 40-kh - 50-e gody XX veka. Na materialakh Kirovskoi oblasti
[The Russian Orthodox Church and the Soviet State in the Mid. 40s - 50s of
the 20 Century: Based on Materials from the Kirov Region]. Kirov.
Shkarovskiy, M.V. 2000. Russkaia Pravoslavnaia tserkov’ pri Staline i Khrushcheve
[Russian Orthodox Church under Stalin and Khrushchev]. Moscow: Krutitskoie
podvor’e.
Shkuratov, S.A. 2005. Vzaimootnosheniia Sovetskogo gosudarstva i Russkoi
pravoslavnoi tserkvi v 40-60-e gg. XX v. [The Relationship between the Soviet
State and the Russian Orthodox Church in the 40-60s. 20 Century]. PhD diss.,
Moscow State Region University.
Shlikhta, N.
2012.
“Ot traditsii k sovremennosti”: pravoslavnaia obriadnost’ i
prazdniki v usloviiakh antireligioznoi bor’by [“From Tradition to Modernity”:
Orthodox Rituals and Holidays in an Anti-Religious Bor’ba]. Gosudarstvo,
religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 3-4 (30): 380-407.
Sirotinina, S.S., and K. Kelli. 2008. “Bylo neponiatno i smeshno”: prazdniki poslednikh
desiatiletii sovetskoi vlasti i vospriiatie ikh det’mi [“It was Incomprehensible and
Funny”: The Holidays of the Last Decades of Soviet Power and the Perception of
Their Children]. Antropologicheskii forum 8: 258-299.
Slezin, A.A. 2016. Komsomol protiv religii: мetamorfozy 1950-kh gg. [Komsomol
against Religion: Metamorphoses of the 1950s]. Istoricheskie, filosofskie,
politicheskie i yuridicheskie nauki, kul’turologiia i iskusstvovedenie 9 (71/1):
183-187.
Soskovets, L.I. 2011. Polozhenie Russkoi pravoslavnoi tserkvi v period “hrushchevskoi
ottepeli” [The Position of the Russian Orthodox Church during the “Khrushchev
Thaw”]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta 4: 29-35.
Tabunshchikova, L.V. 2011. Otnosheniia mezhdu gosudarstvom i Tserkov’iu v period
khrushchevskoi “ottepeli” (na primere Rostovskoi oblasti) [Relations between
the State and the Church during the Khrushchev “Thaw” (On the Example of the
Rostov Region)]. Gumanitarnye i sotsial’no-ekonomicheskie nauki 4: 22-28.
Takakhasi, C. 2012. Dva tipa religioznosti vremen pozdnego sotsializma: pravoslavnye
veruyushchiye Vladimirskoi oblasti
[Two Types of Religiosity during Late
236
Этнографическое обозрение № 3, 2022
Socialism: Orthodox Believers in the Vladimir Region]. Gosudarstvo, religiia,
tserkov’ v Rossii i za rubezhom 4 (30): 328-348.
Vasilieva, O.
2005. Gosudarstvenno-tserkovnye otnosheniia khrushchevskogo
perioda
[State-Church Relations of the Khrushchev Period]. In Vittorio:
mezhdunarodnyi nauchnyi sbornik, posviashchennyi 75-letiiu Vittorio Strady
[Vittorio: International Scientific Collection Dedicated to the 75th Anniversary
of Vittorio Strada], edited by S. Bocharov and A. Parnis, 288-301. Moscow:
Tri kvadrata.
Werth A., 1962. Russia under Khrushchev. New York: Hill and Wang.
Zibert, N.P. 2018. Religioznye obshchiny i ikh polozhenie na yuge Zapadnoi Sibiri v
kontekste gosudarstvenno-konfessional’noi politiki [Religious Communities and
Their Position in the South of Western Siberia in the Context of State-Confessional
Policy]. PhD diss. abstract, Altai State University.