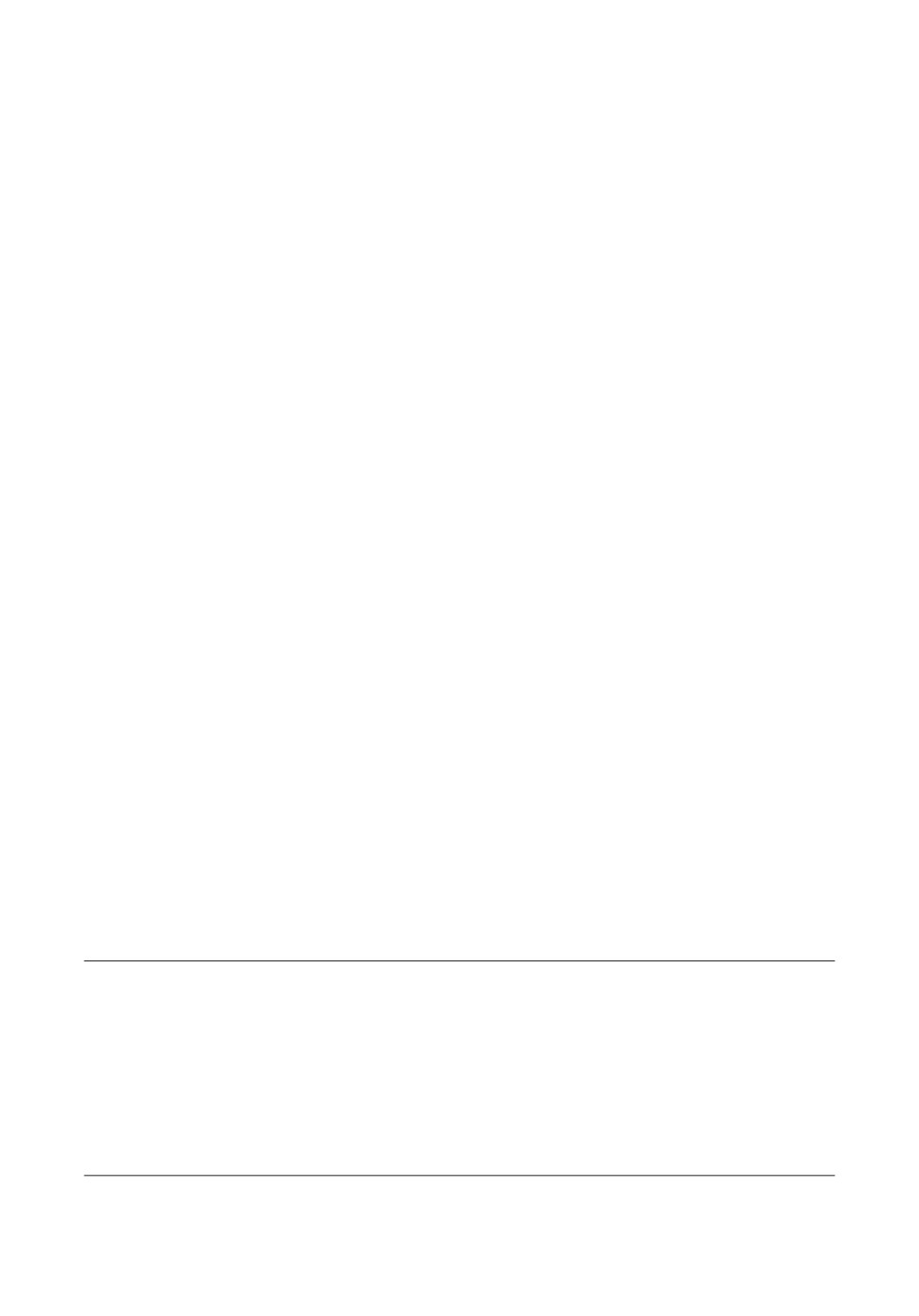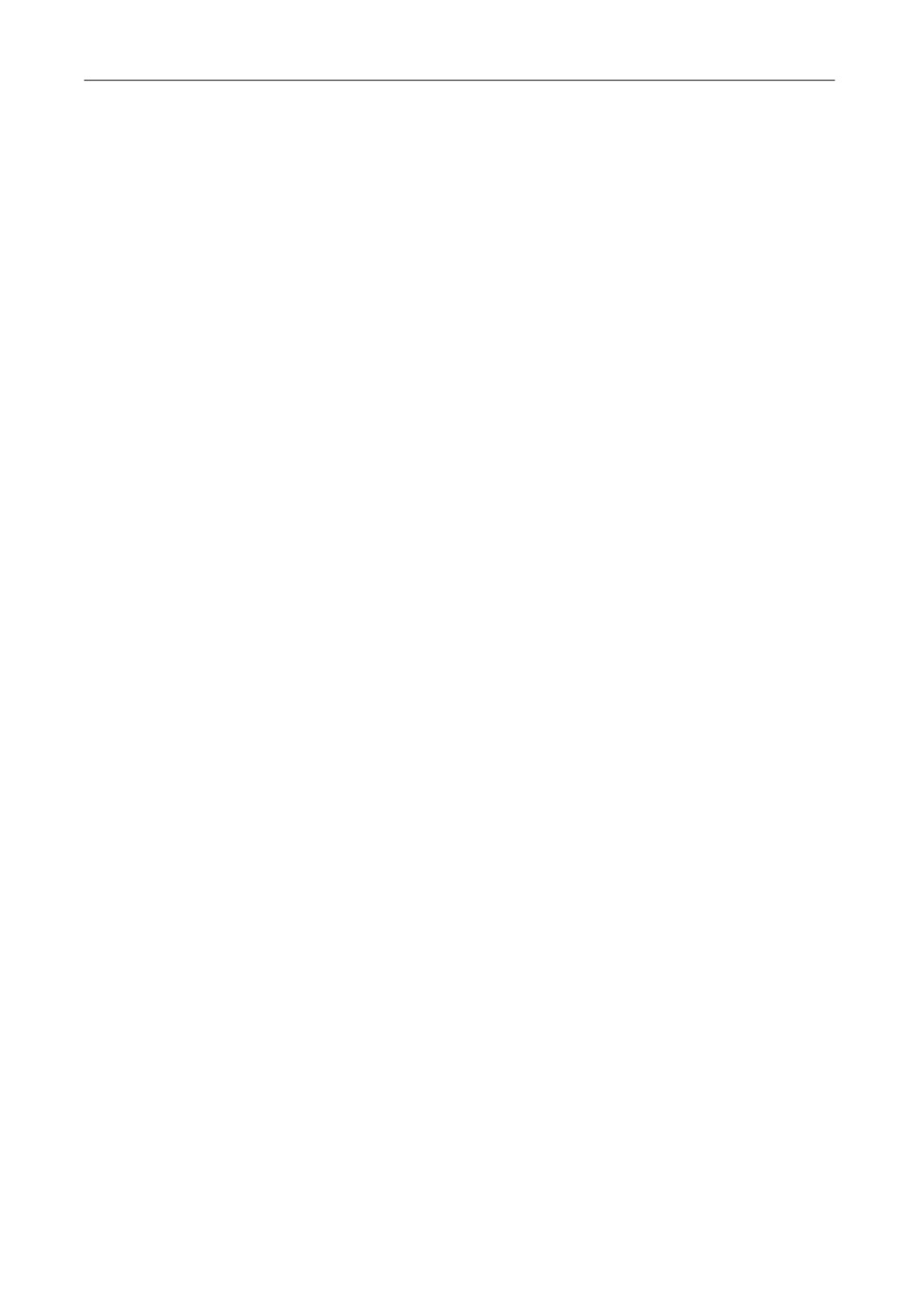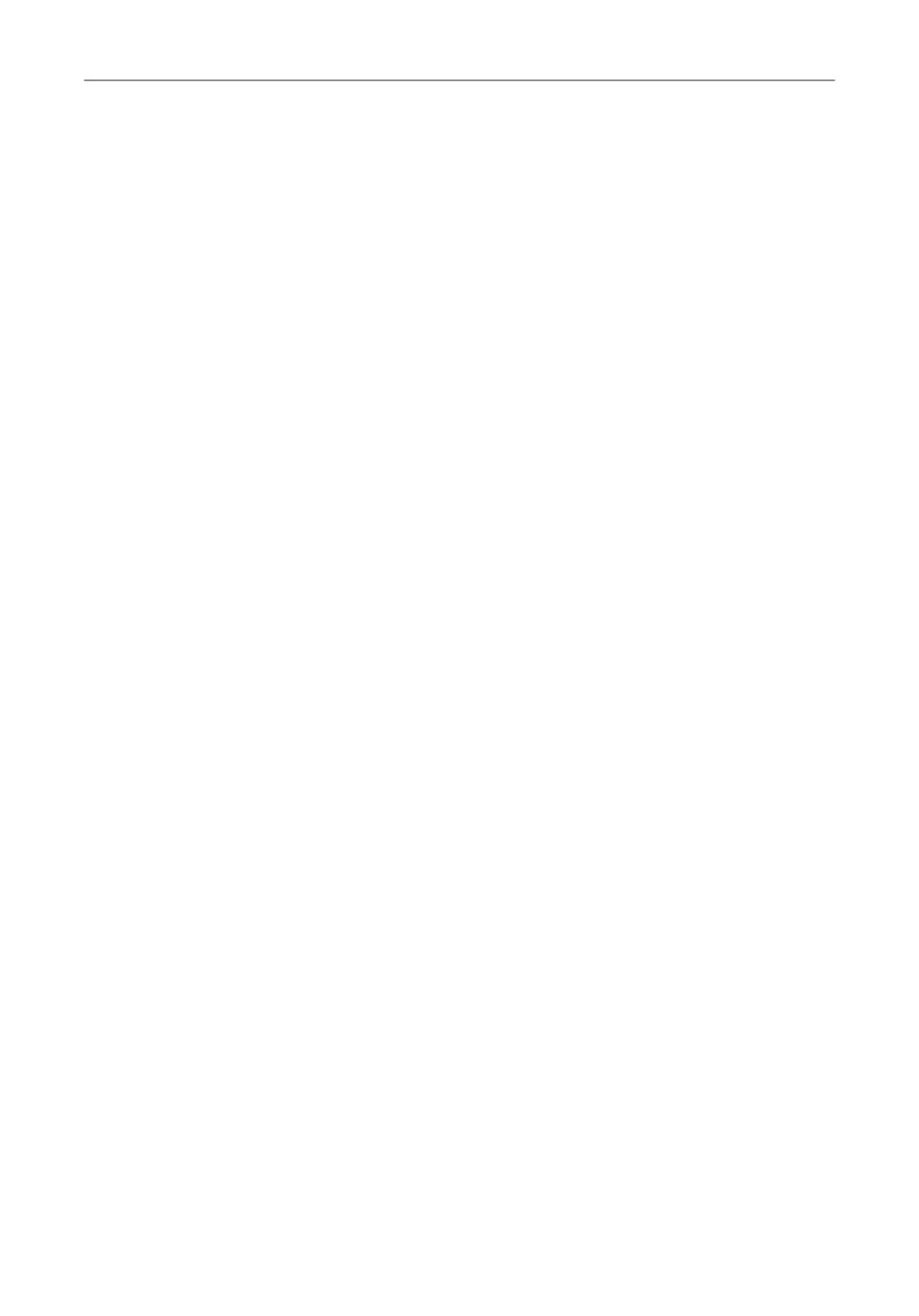У ИСТОКОВ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ: ФРАНЦ БОАС
И.В. Кузнецов
к. и. н., старший научный сотрудник отдела кавказских языков | Институт языкознания РАН
(Большой Кисловский пер. 1 стр. 1, Москва, 125009, Россия)
Ключевые слова
Боас, лингвистическая антропология, полевая работа, америндские языки, апперцепция,
лингвистическая относительность
Аннотация
С точки зрения истории антропологии работа Франца Боаса “О чередующихся звуках”
(1889) носит этапный характер в развитии его научного творчества. Она была написана
еще в годы активного поиска автором стабильной академической позиции и посвяще-
на частной проблеме - экспериментальным исследованиям эффекта так наз. звуковой
слепоты. Вместе с тем работа вобрала в себя как текущие достижения Боаса в физике,
психологии и этнологии, опыт лабораторной работы ученого в Кильском университете,
так и первые результаты его полевых исследований среди эскимосов и индейцев Тихо-
океанского Северо-Запада. Характерно, что в ней уже предпринимались попытки через
критику метода опровергнуть широко распространенное в те годы предубеждение об
эволюционной недоразвитости языков неевропейского человека. Автор, по сути, пред-
восхитил грядущую борьбу (свою и своих последователей) с расизмом в физической
антропологии и даже современное релятивистское понимание культуры. В дальнейшем
результаты наблюдений над восприятием языка будут перенесены Боасом на широкое
поле культуры, а апперцепции уподоблена аккультурация - прививание каждому от-
дельному члену общества культурных норм и ценностей.
Информация о финансовой поддержке
исло попыток перевести сочинения Франца Боаса (1858-1942) на русский
язык явно несоразмерно мощному полифоническому влиянию этого уче-
Ч
ного, которого сегодня признают если не отцом-основателем, то уж точ-
но одним из основоположников четырех ветвей современной антропологии -
культурной (социальной), биологической (физической), археологической и
лингвистической. Из его работ, посвященных лингвистической антропологии,
только перевод короткого фрагмента из Введения к “Руководству по языкам
американских индейцев” (“Handbook of American Indian Languages”) вошел в
Статья поступила 07.11.2021 | Окончательный вариант принят к публикации 07.04.2022
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Кузнецов И.В. У истоков лингвистической антропологии: Франц Боас // Этнографическое обозре-
Kuznetsov, I.V. 2022. U istokov lingvisticheskoi antropologii: Frants Boas [At the Origins of Linguistic
Anthropology: Franz Boas]. Etnograficheskoe obozrenie
4:
S086954152204008X EDN: HXVNCB
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
Кузнецов И.В. У истоков лингвистической антропологии: Франц Боас
145
собрание В.А. Звегинцева (Звегинцев 1964-1965. Ч. 2: 170-180). Представлен-
ный здесь русский перевод статьи “О чередующихся звуках” (“On Alternating
Sounds”) (Boas 1889) также призван в какой-то части восполнить этот пробел.
Хотя публикация принадлежит самому раннему периоду боасовского творче-
ства, она по-прежнему сохраняет исключительную важность. “Невозможно
преувеличить значение этой статьи для истории антропологической мысли”, -
так характеризовал эту работу Дж. Стокинг (Stocking 1968: 159). Скромная по
объему и непосредственным задачам, она вобрала в себя все: и текущие дости-
жения Боаса в физике, психологии и этнологии, и его лабораторную работу в
Киле, и полевые исследования, проведенные на Баффиновой Земле и в Британ-
ской Колумбии. Характерно, что в статье уже предпринимались попытки че-
рез критику метода опровергнуть широко распространенное предубеждение об
эволюционной недоразвитости неевропейского человека. Автор, по сути, пред-
восхитил грядущую борьбу (свою и своих последователей) с расизмом в физи-
ческой антропологии и даже современное релятивистское понимание культуры.
“Многое в последующей работе Боаса и идущих вслед за ним учеников можно
рассматривать просто как разработку выводов (implications), представленных в
этой статье” (Ibid.). Результаты наблюдений над восприятием языка будут пе-
ренесены на широкое поле всей культуры, а апперцепции уподоблен процесс
прививания отдельным членам общества культурных норм. Так что и учение
уже более позднего Боаса об аккультурации, в сущности, явится лишь развити-
ем идей, изложенных им в статье 1889 г.
“Этнография, привязанная к тексту”
Рассмотрим обстоятельства, непосредственно предшествовавшие и, как мы
полагаем, в значительной степени повлекшие за собой появление интересую-
щей нас статьи. К осени 1888 г., когда Боас писал свой текст о “чередующихся
звуках”, он уже успел побывать у эскимосов Баффиновой Земли (экспедицию
оплачивал его отец) и дважды в Британской Колумбии - сначала за свой счет, а
затем на средства Британской ассоциации содействия развитию науки (далее -
BAAS); с ассоциацией он будет сотрудничать и позже. Весной 1887 г. Боас ввя-
зался в спор с влиятельными правительственными этнологами из Вашингто-
на - наверное, рассчитывая получить работу, пытался обратить на себя внима-
ние, - но переусердствовал. Речь шла о подходе куратора Национального музея
естественной истории О.Т. Мэйсона к классификации музейных артефактов на
основе пресловутых стадий развития. Восставая в теоретическом отношении
против эволюционных схем, Боас доказывал, что внешнее сходство явлений,
столь важное для всякого компаративиста в широком смысле, может объяснять-
ся действием различных причин: «Наше возражение против идеи Мэйсона со-
стоит в том, что классификация не является объяснением. <…> Метод Мэйсона
занимает в этнологии место, аналогичное бывшему “сравнительному методу”
в географии. Простое сравнение форм не может привести к полезным результа-
там» (Boas 1887a: 485-486).
Не вдаваясь в ненужные здесь детали, отметим, боасовское предложение
заключалось в следующем: в музеях следует демонстрировать целые ком-
плексы, вписанные в культурные ареалы, - впоследствии это станет едва ли
не общепринятой практикой. Но тогда О.Т. Мэйсона защитил директор Бюро
американской этнологии при Смитсоновском институте (далее - БАЭ), майор
Дж.У. Пауэлл, который, передергивая идеи Боаса, утверждал, что расставлять
в залах коллекции по всем племенам просто невозможно технически. На что
Боас, вовсе не призывавший к такому радикальному решению, отреагировал
146
Этнографическое обозрение № 4, 2022
следующим образом: он написал, что “продвинутые” учреждения, такие как
берлинский Королевский музей народоведения А. Бастиана, стремятся показать
“индивидуальный феномен”, тогда как принцип Пауэлла-Мэйсона “не основы-
вается на феномене, но находится в голове у исследователя” (Boas 1887b: 614).
Двери этого и других подразделений Смитсоновского института - крупнейшего
центра по изучению коренных американцев, не то чтобы наглухо закрылись для
немецкого эмигранта, но надолго захлопнулись перед ним.
С февраля 1887 г. Боас занимал кресло помощника редактора по географии
в нью-йоркском журнале Science, на страницах которого и разворачивалась пе-
репалка с вашингтонцами. Теперь же он оставил и это место, надеясь попасть в
престижный исследовательский вуз, готовящийся к открытию. С президентом
Университета Кларка (Вустер, шт. Массачусетс), самым известным в США психо-
логом, почитателем творчества Фрейда и Юнга, Г. Стэнли Холлом Боас был зна-
ком меньше года. Они встретились в августе по дороге в Кливленд, где должно
было состояться заседание Национального собрания Американской ассоциации
содействия развитию науки - аналога BAAS (Cole 1999: 119). Но даже после по-
лучения приглашения в “Кларк”, судьба Боаса еще долго была не определена: в те-
чение целого года (Rohner 1969: 111-112) решался вопрос, куда он будет принят -
доцентом на кафедру антропологии или все же на кафедру географии.
Весь этот год Боас продолжал переписываться с Г. Стэнли Холлом, просил у
него совета, как перебросить мостик от антропологии к психологии (Cole 1999:
119), и, возможно, чтобы еще больше ему понравиться, проштудировал доклад С.
Вильц - холловской ученицы, а в будущем известной детской писательницы, чьи
книги переиздают и сегодня. В первых же строках С. Вильц сообщала, что полу-
чила тему “звуковой слепоты” (sound blindness) непосредственно из рук своего
наставника. Оказывается, именно Г. Стэнли Холл передал ей соответствующую
вырезку все из того же Science, черкнув на полях: “Не могли бы Вы исследовать
сей предмет?” (Wiltse 1888: 702). С. Вильц провела несколько экспериментов в
сотрудничестве с бостонскими школьными учителями и ото(ларинго)логом К.
Блэйком, надиктовывая незнакомые слова почти 300 ученикам и пытаясь обнару-
жить закономерность в том, каким образом они искажают их при фиксации.
Боас пошел дальше. В своей статье он присовокупил к результатам предше-
ственницы собственные выводы, касающиеся процесса апперцепции. Такому под-
ходу способствовали широкие познания Боаса в самых разных областях. Начав
свое образование с математических штудий в Гейдельберге и Бонне (1877-1878),
в 1879 г. он перевелся в Кильский университет. Здесь молодой ученый занимался
проверкой действия закона Гаусса в приложении к распределению величины оши-
бок наблюдений, изучал оптические свойства воды. В 1881 г. он получил диплом
как физик. Отправляясь в экспедицию на Баффинову Землю (1883-1884), Боас пла-
нировал в том числе исследовать представления о цвете воды, сохранившиеся в
“первозданной” культуре эскимосов.
В рассуждениях С. Вильц его смутила однобокость подхода к “цветовой
слепоте”. Ведь гораздо логичнее было бы уподобить это явление не наруше-
ниям “сущностных особенностей” определенных “фонетических элементов”,
а неспособности различать тональность звуков. Хотя эта неспособность не
была еще засвидетельствована, Боасу тогда казалось, что в реальности она мог-
ла стать вероятной причиной искажений, если иметь в виду обычные для евро-
пейца трудности в овладении тоновыми языками (напр., навахо, мяо-яо или ки-
тайским). Свой вариант объяснения Боас предложил, связав воедино звук, цвет,
форму и запах. Интересно, что вначале он обратился к “цветовой” терминоло-
гии, попытавшись найти связь между звуком и цветом: индивид, говорящий на
языке, в котором отсутствует название определенного цвета, например зеленого,
Кузнецов И.В. У истоков лингвистической антропологии: Франц Боас
147
испытает затруднение, если его попросить распознать этот цвет в окружающей
реальности (Boas 1889: 50). Не это ли отправная точка дискурса лингвистиче-
ской относительности - гипотезы, введенной в научный оборот лингвистиче-
скими антропологами следующего поколения? Ряд авторов утверждает, что так
наз. гипотеза Сэпира-Уорфа впервые была сформулирована Боасом, пусть и в
менее четкой форме (Hoijer 1954: 92-93; Kluckhohn, Prufer 1959: 13).
Вернемся, однако, к психологической интерпретации “звуковой слепоты”,
изложенной в статье “О чередующихся звуках”. В годы учебы Боаса в Германии
существенное влияние на него оказал Г.Т. Фехнер (и, возможно, Г. Гельмгольц)
(Kluckhohn, Prufer 1959: 11). В те годы психологию пытались отнести к есте-
ственным наукам. Идея вытеснения представлений в область бессознательного
и преобразования ощущений сознанием, что, собственно, и составляет суть ап-
перцепции, была высказана еще в XVIII в. немецким философом и психологом
И.Ф. Гербартом, одним из основателей научной педагогики. В 1850-е годы эта
идея была развита сравнительной психологией - новым направлением, которое
разрабатывал последователь И.Ф. Гербарта, профессор лингвистики Берлин-
ского университета Х. Штейнталь. Х. Штейнталь был убежден, что “индивиду-
альная психология требует существенного дополнения в виде психологии наро-
дов” (Звегинцев 1964-1965. Ч. 1: 133). С 1859 г. вместе со своим родственником
М. Лацарусом Х. Штейнталь издавал журнал “Вопросы этнической психологии
и языкознания” (Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft).
Насколько можно судить, в период студенчества - в те времена, когда он еще
не увлекался лингвистикой - из профессиональных языковедов Боас встречал-
ся только со Х. Штейнталем; правда, их последующие контакты ограничились
единственным (увы, не доступным для меня) письмом к нему Х. Штейнталя от
15.11.1888 (APS). Примечательно, что сам Боас позднее, в письме Р. Лоуи от
30.12.1937 (Lowie 1943: 184), будет подчеркивать преемственность своих взгля-
дов и взглядов Х. Штейнталя, а в короткой статье, опубликованной в сборни-
ке XVII Международного конгресса американистов в Мехико (Boas 1912: 227),
признает, что образцом для изучения языков американских индейцев ему послу-
жили штейнталевские описания ацтекского (науатля) и эскимосского языков.
Тем не менее, как отметил Д. Коул, стремление объяснять все влиянием ап-
перцепции Боас вынес не столько из трудов И.Ф. Гербарта и Х. Штейнталя,
сколько из кильского семинара неокантианца Б. Эрдманна - ученика Х. Штей-
нталя (Cole 1999: 273). Сходным образом, как нечто появившееся из воздуха,
которым дышало тогда все немецкое академическое сообщество, объясняется
появление в трудах Боаса реминисценций идей В. фон Гумбольдта, например:
“Разные языки - это отнюдь не различные обозначения одной и той же вещи, а
различные видения ее” (Гумбольдт 1985: 349). Не похоже, чтобы наш герой во-
обще когда-либо читал гумбольдтовский “План сравнительной антропологии”,
несмотря на все эти совпадения. А если и читал, то только после 1903 г., когда
“План…” был впервые опубликован. Боас всего однажды упомянет его автора -
в уже обозначенной выше мексиканской заметке. Но, вне всякого сомнения,
мировоззрение В. фон Гумбольдта повлияло на “психологию народов” Штейн-
таля-Лацаруса, намеревавшихся осуществить проект сравнительного изучения
национальных характеров (Bunzl 1996: 24).
Это, так сказать, общее место в анализе предпосылок боасовской лингвисти-
ческой антропологии. Исследователи спорят лишь о нюансах. Так, М. Мэкерт
пробует доказать, что возникшее у Боаса внутреннее напряжение в отношении
имени Х. Штейнталя объясняется последующим стремлением антрополога стра-
тегически дистанцироваться от иерархического (европоцентристского) мышле-
ния. Кроме того, М. Мэкерт отмечает, что можно проследить интертекстуаль-
148
Этнографическое обозрение № 4, 2022
но переход Боаса от гербартовской психологии к ассоциативной под влиянием
А. Бастиана, Т. Вайца и прочих (Mackert 1993, 1994). Как бы там ни было, взгля-
ды Боаса на язык, в сущности феноменологические, имеют отчетливо немецкие
корни. Не так давно М. Силверстин остроумно заметил, что даже атмосфера дет-
ства, несмотря на явные неуспехи юного Франца в латыни и древнегреческом,
могла стать одним из источников будущей боасовской лингвистической антро-
пологии, в частности пресловутого “аналитического” подхода. (Этот подход поз-
же проявится в работе по подготовке фундаментального труда “Руководство по
языкам американских индейцев” и особенно в ходе семинара по индейским язы-
кам в Колумбийском университете.) Кроме того, в городской гимназии Минде-
на, где учился юный Франц, благодаря полувековому директорству З. Имануэля
(1792-1847) царили принципы индуктивного образования в духе Песталоцци.
В минденский период может уходить корнями и характерная боасовская тексто-
логия, “этнография, привязанная к тексту”, - способ репрезентации изучаемых
культур посредством текстов на туземных языках с междустрочным переводом
(Silverstein 2015: 108, 117).
Сотрудничество с Х.Й. Ринком
Основной посыл статьи “О чередующихся звуках” вовсе не ограничивается
разбором восприятия детьми неизвестной им лексики. И идея, к анализу кото-
рой мы подступаем, обязана своим появлением уже не немецким психологам,
а в первую очередь геологу и географу Х.Й. Ринку. Боас активно сотрудничал
с ним весь свой “эскимосский” период. Во время подготовки к арктической
экспедиции в письме (от 26.11.1882) своему дяде А. Якоби он писал, что при-
лагает “огромные усилия, чтобы заинтересовать своим проектом соответству-
ющие круги” (Müller-Wille 1998: 34). Некто из Копенгагена - очевидно, это
и был Х.Й. Ринк - был причислен Боасом к компании “влиятельных лично-
стей”, “авторитетов в этой области” (к ним он относил Р. Вирхова, А. Бастиана,
М. Линдемана), на которых начинающий исследователь возлагал особые на-
дежды. После возвращения с Баффиновой Земли Боас получил от Х.Й. Рин-
ка и первое послание. А летом 1885 г., переехав по настоянию родителей из
Нью-Йорка в Европу и получив в музее у А. Бастиана должность ассистента
(Hülfsarbeiter), он выступил с лекциями в Берлине, Франкфурте и Халле. Кроме
того, он посетил Копенгаген, где встретился с Х.Й. Ринком, чтобы плотно пора-
ботать над записанными в поле эскимосскими сказками (Cole 1999: 87).
Общение с Х.Й. Ринком растянулось на полгода. Боас сообщал жене Мари
в письме от 12 июня 1885 г., что “с ужасом” начал замечать, как медленно они
продвигаются: “На самом деле старый Ринк мне кажется довольно скучным.
Его могут увлечь некоторые вещи, совсем как молодого, но в целом он совер-
шенно индифферентен”. Можно предположить, что датчанин, всего-то 65 лет
от роду, тоже не испытывал особого восторга от скрупулезной редакционной
работы и переводческой рутины. В конце концов, Боас написал жене: «Бедный
дьявол сказал мне сегодня: “Поторопитесь и напечатайте свои сказки, хотелось
бы дожить, чтобы их увидеть”» (Zumwalt 2019: 149). Эта часть фольклорных
текстов была опубликована в 1885 г. на немецком языке (Boas 1885a). Парал-
лельно дописывалась монография по результатам полевой работы у эскимосов,
вышедшая к концу 1885 г. (Boas 1885b) и заменившая его автору процедуру
формальной хабилитации, без чего невозможно было получить работу на роди-
не - Боас претендовал на место доцента географии в Берлинском университете.
Судя по всему, во время пребывания на Баффиновой Земле с июня 1883 г.
по сентябрь 1884 г. Боас общался с местным населением в основном по-ан-
Кузнецов И.В. У истоков лингвистической антропологии: Франц Боас
149
глийски, т.е. на языке, которым сам еще не владел в полной мере, - его днев-
ник пестрит такими характерными ошибками, как Pigeon Englisch (а не pidgin
English), Schlipper (а не slipper), Turns (а не terns - “крачки”) и т.д. Что касается
слов эскимосского языка (инуктитута), то они замелькали в его записях только
начиная с мая 1884 г. Более того, четыре последующих месяца, вплоть до конца
августа, исследователю вообще не довелось пообщаться ни с кем, кто говорил
бы по-английски (Müller-Wille 1998: 272, 304).
Орфография, которую Боас применял для фиксации инуктитута, основана
на фонетическом принципе. Затем, засомневавшись в ее точности, исследо-
ватель с помощью Х.Й. Ринка еще раз выправил все записи, подгоняя их под
систему транслитерации, ранее предложенную гренландским миссионером
С.П. Клейншмидтом: angekok превратилось в a’ngekoq (“шаман”), iglu - в igdlu
(“иглу” - жилище), iküschuk - в iki’rtsuq (“морской ветер”) и др. (Ibid.: 273-276);
это отметил сам антрополог в упоминавшейся монографии (Boas 1885b: 90).
Он напишет о своем “неправильном восприятии” звуков инуктитута и в работе,
которую мы здесь комментируем (Boas 1889: 52). Важно, что в ней автор не
просто признается в просчетах, а - помещая себя внутрь рамок исследования
вполне в стиле современной автоэтнографии - пытается проанализировать роль
собственных чувств, как уже делал во время опытов с лучом света, пропускае-
мым через воду в Кильской гавани. Для объяснения ситуации ему понадобилась
наблюдательность Х.Й. Ринка, который хвалился тем, что умел безошибочно
распознавать национальную принадлежность эскимосоведов по их трудам: их
материалы якобы сохраняли “свидетельство фонетики их собственных языков”,
несмотря на то что для записи применялись “диакритические знаки или особые
алфавиты” (Ibid.: 51). Наиболее же “подходящим” для идеи Боаса в рассужде-
ниях авторитетного датского исследователя оказывалось стихийное признание
апперцепции - влияния “фонетической системы природного языка” (Ibid.). Вы-
ходило, что не только новички, такие как Боас, но и опытные ученые не за-
страхованы от ее воздействия, и даже банальные ошибки исследователей могут
представлять ценность как объект научного изучения.
В поле
После окончания арктической эпопеи Боас не прекращал записывать язы-
ки коренных американцев. В работе, которую мы комментируем, отражены са-
мые ранние результаты его полевых исследований среди индейских народов
Северо-западного побережья Северной Америки. В 1885-1886 гг. братья А. и
Ф. Якобсены привезли в Германию нескольких белла кула (нухалк) для участия
в “Выставке народностей” (Völkerschau) К. Гагенбека - прославленного осно-
вателя Гамбургского зоопарка. Живые экспонаты (им предшествовали патагон-
цы, гренландские эскимосы и саамы) на протяжении 13 месяцев разъезжали
по всей стране. В Берлине, где тогда находился Боас, было устроено представ-
ление специально для “Общества антропологии, этнологии и доистории”, его
предваряли лекции Р. Вирхова, А. Бастиана и А. Краузе (Cole 1982: 117). Гим-
назический учитель, путешественник А. Краузе - только что вышла его книга
о тлинкитах - пригласил Боаса исследовать привезенных индейцев, и в январе
1886 г. в Кролль-опере антрополог встретился с ними. Собирая материал в те-
чение “двух напряженных недель”, как написал Боас в письме (от 05.02.1886)
своей жене Мари (Boas Yampolsky 1958: 312), он подготовил к началу февраля
небольшие заметки о белла кула (Boas 1886a, 1886b). В “On Alternating Sounds”,
в том самом месте, где говорится о характерном для “многих языков” отсутствии
слова, обозначающего зеленый цвет, читаем: “[В]о многих языках отсутствует
150
Этнографическое обозрение № 4, 2022
термин для зеленого. Если мы покажем индивиду, говорящему на таком языке,
серию зеленых гарусов, часть их он назовет желтыми, другую часть синими, [а]
границы обеих частей будут вызывать сомнения” (Boas 1889: 50). Похоже, что
эти строки Боас взял у себя же. Источник легко отыскивается при сравнении
этого пассажа с приведенным во второй из упомянутых заметок о языке белла
кула: “Цвета, обозначающиеся отдельными словами, - это красный, желтый и
синий. Граница между двумя последними неопределенна, так что зеленый счи-
тается то желтым, то синим” (Boas 1886b: 206).
Становится ясно, о каком именно языке идет речь. Очевидно, Боас начал
задумываться о лингвистической относительности уже в ту пору, когда в бер-
линской опере опрашивал исполнителей незнакомых ему церемоний. Такой ин-
терес вполне органично вытекал из его ранних взглядов на язык, сформирован-
ных идеями “психологии народов”.
В статье о чередовании звуков автор ссылается и на собственные знания язы-
ков квакиутль (кваквакьавакв), цимшиан, хайда и тлинкит, почерпнутые им на
протяжении первых двух полевых сезонов на тихоокеанском побережье. Зимой
1886-1887 гг., достигнув о-ва Ванкувер, он совершил ознакомительное турне из
г. Виктории на север к деревням кваквакьавакв Навити и Алерт-Бэй, а затем сме-
стился южнее к сэлишским поселениям Ковичан, Нанаймо, Комокс. В деревне
Комокс он попал на потлач, куда прибыли бывшие враги комокс, систематиче-
ски уводившие людей в рабство, - их северные соседи леквилток (<Le’quittig>).
Исследователь приступил к сбору словарного материала и определил, что язык
этого “племени” тот же, что и у населения Алерт-Бэй, состоявшего в основном из
нимпкиш, - это Боас отметил в своих letter-diary от 12, 23, 26, 28 и 30 ноября 1886
г. и пр. (Rohner 1969: 58, 65-66, 68-69). Однако сейчас оба идиома считают раз-
личными если и не языками, то диалектами, а идиом леквилток выделяют особо,
политкорректно обозначая его как ликвала (Liqʷala), в отличие от кваквала всех
остальных “племен”. В Алерт-Бэй Боас сошелся с родственниками Джорджа Хан-
та (встреча с ним самим произошла позднее, в 1888 г.), своего информанта № 1 из
“говорящих на кваквала” (кваквакьавакв).
Еще в Виктории при посредничестве местного ксендза Боас разыскал су-
пругу-тлинкитку одного белого, знавшую помимо родного тлинкитского также
хайда, и начал изучение этих языков. Кроме того, он стал работать с цимшиан,
консультируясь с Маттиасом, или Мэттью, новообращенным христианином,
о чем в статье “О чередующихся звуках” тоже имеется информация. Еще од-
ной информанткой-цимшиан служила Боасу какая-то женщина из Лаквалаамс
(Порт-Симпсона), как и Мэттью, осевшая в Виктории. Там же, в столице Бри-
танской Колумбии, он неожиданно столкнулся с только что возвратившимися
из Германии белла кула Алкиноем и Итлкакуани и легко восстановил с ними
приятельские отношения. Но наладить коммуникацию с другими представите-
лями городской диаспоры белла кула оказалось не так просто: “К сожалению,
за эти месяцы я почти все забыл”, - писал в своих letter-diary исследователь (за-
писи от 18-19, 21-22, 24-27, 29-30 сентября, 1-2 ноября 1886 г. и пр.) (Rohner
1969: 20-30, 45, 48-51, 67). Это были первые попытки научного описания язы-
ков, доселе никем не изученных.
Менее чем через полгода последовала вторая экспедиция на Северо-запад-
ное побережье, в ходе которой исследователь посетил те же населенные пун-
кты, что и в первую свою поездку, возможно, за исключением Навити. Всего
же обе экспедиции Боаса в общей сложности заняли два года и пять месяцев
(Rohner 1969: 153) - не слишком долго по меркам современной полевой эт-
нографии. Но небольшую продолжительность работы в поле компенсировали
длительные периоды переписки с одними информантами и встречи в Нью-Йор-
Кузнецов И.В. У истоков лингвистической антропологии: Франц Боас
151
ке с другими. Такого рода этнография была названа Дж. Берман “эпистолярной”
(Berman 1996: 235). М. Харкин, работавший в Белла Белла через 60 лет после
последнего приезда туда Боаса (1923), слышал, и не от одного жителя деревень-
ки, что великий предшественник потратил большую часть проведенного здесь
месяца (с 16 ноября по 16 декабря), добираясь по два часа кряду до почтамта,
который располагался на пригорке, несколькими милями дальше (Harkin 2001:
95)! Возможно, это и преувеличение, потому что сам Боас в письмах жене, нао-
борот, писал, что занимается исключительно делом, жалуясь даже на чрезмерно
плотный график:
У меня на самом деле нет ни минуты, разве что для еды (20 ноября);
Я очень много работаю, с 8 утра и примерно до 11 ночи (23 ноября);
От всей этой писанины у меня болит рука. Я работаю с 8.30 утра до 11.30 ночи, в моей
руке - постоянно карандаш” (11 декабря),
а в письме к сестре Тони он написал:
[Дж. Хант] находил мне жертв, которых я затем досконально выкачивал. А когда больше
нечего было делать, то работал с ним (18 декабря) (Rohner 1969: 282, 286-287).
Заключительная деталь, однако, заставляет задуматься: находясь среди бел-
ла белла (хейлтсук), вечерами Боас c Хантом корпели над материалами, запи-
санными не у них, а у кваквакьавакв… Это подтверждает и сам антрополог,
который вскоре после того, как ступил на берег, по обыкновению уведомил
жену в письме от 20 ноября 1923 г. о своих ближайших рабочих планах: “Пер-
во-наперво я перепроверяю с Джорджем Хантом свой квакиутль”. Уходили дни,
а вынесенные из прошлых поездок старые впечатления (апперцепция!) не отпу-
скали, о чем Боас пишет Мари 23 ноября 1923 г.: “Многое из того, что мне было
совершенно не ясно в Форт-Руперте, прояснилось здесь” (Rohner 1969: 282).
Добавим, что и раньше, у нухалк (1897), Боас и Хант также занимались преи-
мущественно правкой текстов на кваквала, собранных Джорджем. А в оставше-
еся время Хант (не сам исследователь) “добирал” местную этнографию, о чем
свидетельствуют письма Боаса к жене (от 21.07.1897, 27.07.1897, 02.08.1897)
(Ibid.: 215-216, 218).
Страсть Боаса к собиранию текстов вовсе не способствовала включенности
в изучаемую культуру. Да и в этом он не отличался последовательностью. Так, в
первую свою экспедицию начинающий еще полевик прекратил беседу с сонгиш
в 6 часов вечера, потому что наступило время обедать, - о чем сделана соот-
ветствующая отметка в его letter-diary (Ibid.: 23). Конечно, потом он прилагал
усилия, чтобы выглядеть “своим”, ходил в Форт-Руперте босиком, обернутый
в одеяло и с повязкой на голове (Rohner 1966: 190), как на стилизованных под
старину фотографиях Э. Кёртиса. Правда, к тому времени кваквакьавакв уже
лет десять как перешли на европейскую одежду - ситуация, весьма напоминав-
шая ту, в которой оказался славянофил А.С. Хомяков, когда его, одевавшегося в
шелковые косоворотки, мужики в кабаках принимали за персиянина. Но теперь
в Белла Белла антропологу пришлось отказаться и от такой наивной попытки.
В письме жене от 20 ноября 1923 г. он писал: “Не могу носить здесь мою хаки
(походную форму. - И.К.), потому что люди слишком элегантны, но так или ина-
че ношу рубашки”. А описывая условия проживания (их с Хантом разместили в
сельском госпитале), отмечал, что его все устраивает кроме одного: “Есть толь-
ко одна маленькая умывальня, которая соединена с операционной. Первое, что
я сделаю, когда вернусь в Ванкувер, так это приму чудесную большую ванну”
(Rohner 1969: 282).
152
Этнографическое обозрение № 4, 2022
В довершение всего, порядок, заведенный в американских научных кругах
той эпохи, требовал, чтобы индейским помощникам платили деньги. Это приво-
дило к быстрому пополнению рынка труда с вытекающими отсюда последстви-
ями, включая классовую эксплуатацию и пагубную зависимость от работодате-
ля. Так, когда Хант прислал 16-страничное описание церемонии кваквакьавакв,
имевшей место в 1894 г., Боас в ответ отправил ему чек на $25 (Cannizzo 1983: 49).
Несмотря на то что сумма кажется нам ничтожной, Хант остался доволен. (Еще
и тремя десятилетиями позже на $25 можно было устроить небольшой потлач
или купить 50 сушеных палтусов либо 50 банок сельдяной икры.) Как раз такую
сумму составлял в то время дневной доход сельского магазинчика. Чтобы зара-
ботать такие деньги, местным требовалось приложить гораздо большие усилия,
ибо рыбоконсервная фабрика платила рыбакам-кваквакьавакв за одну выловлен-
ную нерку до 50 центов, а их женам - по 5 центов за фасовку 34 банок (ACLS:
60-61, 64-65)! Это объясняет, почему так держался за работу на Боаса отличав-
шийся взрывным и непокорным характером Хант. В Белла Белла он приедет,
“будучи весьма подавлен”, приедет, даже несмотря на трагические семейные
обстоятельства: только что умерла одна из его дочерей, у старшего сына обнару-
жили рак спинного мозга, а у старшей сестры случился инсульт - об этом писал
в письме к жене Боас 17 ноября 1923 г. (Rohner 1969: 279).
Доверенным лицам из числа коренного населения выдавали суммы не толь-
ко в качестве оплаты за информацию или выполнение какой-то работы для уче-
ных, но и на проведение собственных полевых исследований (в том числе фик-
сацию текстов), а также на закупку коллекций (приобретались самые разные
предметы - маски, тотемные столбы и проч.). Так, Джеймс Тейт организовал
для Боаса месячную поездку в Белла Кула (1897), общую стоимость которой
определил в $185-200. Сумма включала издержки на остановки в пути, запаз-
дывания по погодным условиям, а также работу какого-то своего индейского
ассистента ($30-35 в месяц) (Freed 2012: 240). Согласно другому документу, в
течение одного только 1900 г. от все того же Ханта были приняты квитанции
за пересылку чего-то на сумму $119,95. В статье “Расходы” под его фамили-
ей значилось $544,55, что сопоставимо с суммой, освоенной Тейтом ($600,11),
и значительно больше той, которую полагалось возместить антропологу
Дж. Суантону ($121,91), посланному на Аляску в рамках того же полевого про-
екта (Джесуповская экспедиция). В этом же году Ханту было выплачено $307,90,
правда Суантону - $739,93 (AMNH AA).
“Один из самых талантливых лингвистов”
Несовершенный характер полевой работы Боаса заставляет нас поднять во-
прос о том, в каких случаях ошибки в восприятии непривычной фонетики в
языках коренных американцев объясняются универсальными закономерностя-
ми (вывод, на который должно настроить прочтение статьи “О чередующихся
звуках”), а в каких - неадекватностью исследовательской методики автора? Не
являются ли все эти рассуждения об апперцепции рационализацией боасовской
неуверенности в собственном профессионализме? Доверимся мнению экспер-
тов. А они лингвистические достижения Боаса обычно оценивают очень вы-
соко. Подчеркивают, что инициатор и вдохновитель “Руководства по языкам
американских индейцев” единолично подготовил для проекта обстоятельные
описания сразу трех языков: цимшиан (собственно цимшиан и ниска), квакиут-
ль и чинук (Boas 1911: 283-422, 423-558, 559-678). По меньшей мере в первых
двух случаях у исследователя не было ориентиров, и грамматики пришлось
разрабатывать с нуля, исключительно на собранных им полевых материалах.
Кузнецов И.В. У истоков лингвистической антропологии: Франц Боас
153
Молва о феноменальных способностях Боаса к сложнейшим языкам разойдет-
ся кругами, и в СССР будут писать, что он изучил и знал в общей сложности
17 “индейских наречий” (Аверкиева 1946: 109).
К выводу о том, что Боас “был одним из самых талантливых лингвистов
первой половины XX века”, приходит и наша современница, американский
антрополог Дж. Берман. По ее мнению, Боас как ученый прогрессировал на
протяжении всего творчества, в подтверждение этого она отмечает, что состав-
ленная исследователем грамматика кваквала, вышедшая уже после его смерти,
как и существующий только в рукописи словарь кваквала, отражают куда более
тонкое фонологическое и морфологическое понимание этого языка, чем любая
другая прижизненная публикация ученого (Berman 2001: 186). Имидж Боаса
как прекрасного знатока “квакиутль” долгое время подкрепляли и всякого рода
анекдоты. Р. Ронер передает один из них: однажды в Форт-Руперте Боас, прогу-
ливаясь по пляжу услышал, как мужчины, говорившие по-своему, обсмеяли его
внешность - он подошел к ним и поздоровался на кваквала, тем самым сильно
смутив их (Rohner 1966: 220).
Тем не менее по поводу истинной роли туземного языка как инструмента в
эмпирических исследованиях Боаса дважды вспыхивала дискуссия. В первый
раз это случилось еще в 1930-е годы, когда М. Мид, оказавшись на Самоа и
Бали (вне вотчины американистов), ощутила разницу в подходах американских
и британских социальных антропологов. На Американском континенте уже не
оставалось уголков, где еще сохранялись бы аутентичные доколумбовы культу-
ры. Совсем иное дело, например, Тробрианские о-ва. Поэтому и “папа Франц”,
и его ученики, в отличие от Б. Малиновского, довольствовались спасением
того, что уносило время, - языков, воплощенных в текстах, а для этого впол-
не достаточно было работы с англоязычными переводчиками. Еще “пятнадцать
лет назад (т.е. до британского влияния), - делала вывод Мид, - не было причин,
по которым этнолог должен был предпринимать какие-либо попытки научиться
пользоваться туземным языком” (Mead 1939: 190-192).
Подобные откровения умаляли значение достижений Боаса, за которого, как
и за стиль работы своего поколения (“этнографов на лошадях и бричках”), всту-
пился Р. Лоуи. Он, как и Мид, считал, что в любом случае речь должна идти об
“использовании” учеными индейских языков, а не о “говорении” на них. Тем не
менее в американской традиции до 1922 г. (год выхода книги Б. Малиновско-
го “Аргонавты западной части Тихого океана”), несомненно, имело место как
“использование”, так и “говорение”: язык фокс был родным для У. Джоунса,
Дж.О. Дорси знал омаха, Ф. Кушинг - зуньи и т.д. Но, надо признать, что и при
снижении тональности взаимных упреков сторонников большей “виртуозно-
сти” в обращении с языковым материалом и тех, кто предпочитал оставить все,
как есть, “лингвистический подход” так и не стал общепринятым стандартом
для представителей так наз. школы Боаса (Lowie 1940: 81-82). Справедливости
ради напомним, что явное недопонимание ценности “лингвистического подхо-
да”, как и безразличие в целом к проблеме сохранения вымирающих языков
коренных народов, исходило от другой ключевой фигуры британской антропо-
логии тех лет - А.Р. Рэдклиффа-Брауна (Darnell 2001: 21-22).
Во второй раз на слабые стороны в лингвистической работе основателя
американской антропологии обратили внимание после того, как в 1960-е годы
была опубликована переписка, которую Боас поддерживал с семьей и коллега-
ми, находясь на Тихоокеанском Северо-Западе. Так, в одном его послании (от
03.11.1930) из Форт-Руперта, адресованном Рут Бенедикт, находим: “Я говорю
[на квакиутль] с трудом и понимаю только после того, как напишу это; лишь
отчасти слежу за разговором” (Rohner 1969: 290). И это при том, что ученый
154
Этнографическое обозрение № 4, 2022
уже 44 года работал с кваквакьавакв! Бывшая с Боасом зимой 1930-1931 гг.
Ю.П. Аверкиева косвенно подтверждала, что его языковая компетентность как
американиста могла быть не такой уж высокой (Аверкиева 1946: 109): “[К]аж-
дый этнолог должен знать язык изучаемого им племени. Правда, Боас считал
это не всегда доступным идеалом и некоторым приближением к нему допускал
знание хотя бы нескольких обиходных фраз”.
Ф. Друкер резюмировал: Боас разговаривал с информантами, как правило,
все-таки по-английски, прибегая к помощи местных, таких как полукровка Хант,
знавший кваквала. Если же переводчиков не оказывалось, то выручал торговый
жаргон чинук - лингва франка в этой части побережья (Drucker 1970: 705-706).
Эпицентром его распространения являлся, по-видимому, залив Пьюджет-саунд,
откуда жаргон прошествовал в ногу с колониальным рынком на юг до самой
Калифорнии, а также на север, будучи подхвачен тлинкитами-чилкат. Если в
1890-е годы мало кто из нухалк в северной части Британской Колумбии знал
упомянутый чинукский пиджин, то к 1923 г. картина полностью поменялась и
по меньшей мере в Белла Белла им владели уже многие. Боас оказался свидете-
лем этого процесса, и его письма содержат множество указаний на то, что и он
применял в своей полевой работе “неполный язык”, в котором “значение пред-
ложения нужно угадывать” и “никто никогда не знает, что является субъектом,
а что объектом” (Rohner 1969: 28).
“Такого феномена как… чередующиеся звуки нет”
Итак, пять страниц текста, казалось бы, на тему слишком узкую очутились
на столе у редакторов журнала American Anthropologist, выпускаемого Амери-
канской антропологической ассоциацией (далее - ААА), были прочитаны ими
и опубликованы буквально сразу же. В финальных строках молодой автор за-
ключал, что “такого феномена, как синтетические или чередующиеся звуки нет,
и что они появляются [в записях исследователей] ни в коем случае не как знак
примитивности речи, в которой они, как говорят, обнаружены” (Boas 1889: 52).
В терминах гумбольдтианства (ср.: “в членораздельном звуке проявляет себя мыс-
лящая сущность, а в нечленораздельном - чувствующая”; Звегинцев 1964-1965.
Ч. 1: 96) это означало, что мышление носителей инуктитут, цимшиан и тлинкит-
ского языков такое же разумное, как и у датчан или немцев, а поведение такое же
целерациональное. Сегодня радикализм вывода Боаса относительно чередования
звуков надо признать наивным: явление, в том смысле, в котором его понимал
антрополог, безусловно, знакомо лингвистике. Но благодаря исследовательской
работе, последовательно проведенной Боасом и его учениками, вопрос о прими-
тивной нечленораздельной речи американских аборигенов, будто бы не способной
адекватно выразить мысль, больше не значится в повестке дня современной науки.
Боас почему-то не назвал тех коллег, на ком лежит вина за глубоко оши-
бочную (и расистскую) интерпретацию индейских языков. Дж. Стокинг и
Д. Коул предполагали, что статья была направлена против разделявших ука-
занные предрассудки М. Мюллера и Г. фон Габеленца, которые, собственно,
и выдвинули теорию “синтетических” звуков (якобы пережитка первобытного
состояния) с неустойчивой, расплывчатой артикуляцией. Следуя широко рас-
пространенному заблуждению П. Дюпонсо, в Европе лингвисты от В. Гум-
больдта до Х. Штейнталя объявили a priori все индейские языки, в отличие
от европейских, инкорпорирующими, полисинтетическими и “голофрастиче-
скими”. В этой же компании был профессор Пенсильванского университета
Д. Бринтон, проводивший аналогию между речью коренного американца и че-
ловека каменного века, отказывая обоим в способности различать грамматиче-
Кузнецов И.В. У истоков лингвистической антропологии: Франц Боас
155
ские категории (Stocking 1968: 158-159; Cole 1999: 130-131). В данном случае
именно Д. Бринтон, более чем кто-либо другой, мог быть объектом критики.
В тот момент Боас ни в чем не зависел от европейских профессоров, и ему неза-
чем было замалчивать их имена. Другое дело Д. Бринтон. В 1888 г. он выступил
с докладом “Язык палеолитического человека” перед Американским философ-
ским обществом - это событие вполне могло оказаться непосредственной при-
чиной боасовского ответа.
Предыстория такова: дарвинист Э. Геккель выдвинул постулат, гласящий,
что доисторические предки людей, должно быть, не разговаривали вовсе, бу-
дучи в полном смысле Homo alalus (“человек безмолвный”). И Д. Бринтон за-
нялся его опровержением. Язык все-таки был - доказывал антрополог из Фи-
ладельфии, - но весьма неразвитый, состоящий из “чередующихся согласных”
(alternating consonants) и “взаимозаменяемых гласных” (permutable vowels).
В стремлении показать, каким образом такая речь могла выглядеть, Д. Бринтон
опирался на разнообразные курьезы, подмеченные лично им или миссионера-
ми в многочисленных индейских языках: кри, гуарани, чапанек, арауканском,
науатль, омауа, хидатса и т.д. Так, Анри Фаро, первый апостольский викарий
Атабаски-Маккензи в Западной Канаде, уверял, что в диалектах <тинне> (се-
верных атапасков) значением обладают “пять примитивных гласных”: a выра-
жает вопрос, e - существование, i - силу или энергию, o - сомнение, u - от-
сутствие. Д. Бринтону этот пример нужен был для того, чтобы показать, что в
индейских языках, как и в первобытных, якобы не установилась еще привычная
связь “звук-смысл”:
[Во первых,] [в]о всех европейских языках сами по себе простые буквы алфавита не
наделены смыслом и не сообщают идеи; [во-вторых,] их значение фиксируется в слове;
и, в-третьих, будучи составлены в слово, они достаточны, чтобы выразить его звучание
и смысл любому, кто знаком с их значениями.
Судя по определенным американским примерам, все эти три кажущиеся фундамен-
тальными характеристики фонетических элементов отсутствовали в примитивной речи
и обрели устойчивость только в длительном процессе развития (Brinton 1890: 393-394).
В другом эссе Д. Бринтон подчеркивал преемственность своих взглядов и
догадок П. Дюпонсо и иже с ним и недоумевал, почему во “Введении в изуче-
ние индейских языков” Дж.У. Пауэлл не упомянул об этих “наиболее выдаю-
щихся доктринах”. «Это все равно, как если бы в пьесе “Гамлет” отсутствовала
бы партия Гамлета» (Ibid.: 358)!
Мы уже писали об особых отношениях Ф. Боаса и Д. Бринтона, единственного
из крупных антропологов, кто протянул руку молодому немецкому ученому, при-
ехавшему за американской мечтой. Именно благодаря его записке Боас получил
свою первую работу в эмиграции - в журнале Science. Позднее, уже после смерти
“американиста № 1”, Боас отведет ему достойное место в своем “мифе-истории”
антропологии, опять-таки единственному ученому из США, чем сильно обидит
патриотически настроенного Л. Уайта (Кузнецов 2018: 122-123, 218-219). Мог ли
Боас при всем неприятии эволюционизма Д. Бринтона проявить к своему благоже-
лателю черную неблагодарность, публично опровергнув его идеи? Скорее всего,
нет, и это объясняет, почему в тексте не названы какие-либо другие имена, кроме
Х.Й. Ринка, Г. Стэнли Холла и экспериментаторов из Бостона.
М. Силверстин предположил, что на самом деле мишенью для автора статьи
послужил Дж.У. Пауэлл (Silverstein 2015: 102). Но это уж совсем маловероятно.
Взгляды майора не были столь одиозны, по крайней мере, не выглядели тако-
выми на фоне “теоретиков” исключительной первобытности индейских языков.
Но главное, что пауэлловский ближайший сторонник О.Т. Мэйсон, один из ос-
156
Этнографическое обозрение № 4, 2022
нователей ААА и редакторов нового журнала, приветствуя публикацию Боаса,
в своем письме к нему 17 ноября 1888 г. написал: “…стать[я], которую мы толь-
ко и хотели”(!) (Cole 1999: 130).
Коснемся и еще одного вопроса: до какой степени оригинальны положения,
изложенные в боасовской работе? Дж. Стокинг и Д. Коул обратили внимание на
большое сходство аргументации Боаса и Г. Хэйла, под непосредственным ру-
ководством которого начиная с мая 1888 г. исследователь работал в экспедиции
BAAS. Как и наш герой, “Нестор американских этнологов” (Chamberlain 1897:
60) мягко протестовал против “ариоцентричного заблуждения” (aryocentric
fallacy) и еще летом 1872 г. (у Дж. Стокинга ошибочно 1882 г.) провел собствен-
ный эксперимент: запись речи Джорджа Джонсона - вождя ирокезов-мохок.
Выяснилось, что в большом числе случаев Г. Хэйлу слышалось r или o там, где
его приятель профессор А. Мелвилл Белл фиксировал l или u соответственно.
Присовокупив к данным, полученным в ходе эксперимента, данные из миссио-
нерских источников, Г. Хэйл пришел к выводу, что явление “сомнительной или
промежуточной артикуляции” возникает не из-за особенностей дикции говоря-
щего, а благодаря “уху слушателя” (Hale 1885: 233-243).
Впрочем, Г. Хэйл опубликовал свой отчет не сразу. Наиболее вероятно, что
Боас вообще его пропустил и что он ничего не слышал также и о самом экспе-
рименте. Кроме того, нет никаких указаний на то, что они когда-либо обсуж-
дали в переписке тему, в разное время интересовавшую обоих. Поскольку у
Г. Хэйла в объяснении феномена нет отчетливого психологизма, Дж. Стокинг
исключил и обратное, боасовское, воздействие. Но этот “аргумент” великого
историка антропологии был лишним! Прежде всего, такое влияние было по-
просту невозможно из-за временной разницы - более десяти лет разделяли экс-
перименты Г. Хэйла и Ф. Боаса, а кроме того, в 1872 г. последнему было лишь
14 лет. Очевидно, доверившись Дж. Стокингу, Д. Коул со своей стороны пы-
тался оправдать неосведомленность Боаса тем, что в это время тот находился
на Баффиновой Земле, - но и это было лишним (Stocking 1992: 66, note 2; Cole
1999: 131, 308-309, note 35).
Часто к сходным идеям разные люди приходят независимо друг от друга,
особенно если для этого уже подготовлена благодатная почва. Похоже, что так
было и в ситуации с боасовской “звуковой слепотой”. “Пунктирная” связь идей
Г. Хэйла и Ф. Боаса позволила понять одну важную вещь: работа, выполненная
на границе психологии, антропологии и лингвистики, останется по большей ча-
сти незамеченной. Куда сильнее эффект ранней публикации Боаса скажется на
развитии направления, которое впоследствии назовут “исторической школой”,
и на выработке антропологической концепции культуры в целом.
Тем не менее после выхода статьи молодой ученый-эмигрант получит-таки
работу в Университете Кларка и переедет в Вустер. Парадоксальным образом
недостаток профессиональной подготовки, подкрепленный самообразованием
(“his very autodidacticism”), освободит его от предрассудков тогдашней лингви-
стики - статья “О чередующихся звуках” будет содержать зародыши большей
части идей из вводного раздела монументального справочника по индейским
языкам (Stocking 1974: 58-59). После 1896 г. изменятся в лучшую сторону его
отношения и с БАЭ. Сильно сдавший к тому времени Дж.У. Пауэлл утратит
свои доминирующие позиции, и фактически все будет решать симпатизиро-
вавший Боасу У.Дж. Мак-Ги. Именно к Мак-Ги весной 1901 г., работая уже на
Американский музей естественной истории, Боас обратится с предложением
создать “Руководство по языкам американских индейцев”. Предложение будет
поддержано, а Боас получит еще и место почетного филолога БАЭ (Stocking
1992: 67-68).
Кузнецов И.В. У истоков лингвистической антропологии: Франц Боас
157
Источники и материалы
AMNH AA - American Museum of Natural History, Anthropological Archives. Box 3.
File 9.
ACLS - American Council of Learned Societies. Committee on Native American
Languages. Collection (APS): Julia Averkieva’s Field Notes.
APS - American Philosophical Society (Archive). Boas Papers.
BAE - Bureau of American Ethnology (Archive). Boas Papers.
Научная литература
Аверкиева Ю.П. Франц Боас (1858-1942) // Краткие сообщения Института этно-
графии АН СССР. 1946. Т. 1. С. 101-111.
Гумбольдт фон В. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985.
Звегинцев В.А. (сост.) История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлече-
ниях. Ч. 1-2. М.: Просвещение, 1964-1965.
Кузнецов И.В. “Счет зим”. Вымирание коренных американцев и “антропология
спасения”: В 3 т. T. 2. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2018.
Berman J. “The Culture as It Appears to the Indian Himself”: Boas, George Hunt, and
the Methods of Ethnography // Volksgeist as Method and Ethic: Essay on Boasian
Ethnography and the German Anthropological Tradition / Ed. G. Stocking.
Madison: University of Wisconsin Press, 1996. P. 215-256.
Berman J. Unpublished Materials of Franz Boas and George Hunt: A Record of 45
Years of Collaboration // Gateways: Exploring the Legacy of the Jesup North
Pacific Expedition, 1897-1902 / Eds. I. Krupnik, W.W. Fitzhugh. Washington:
National Museum of Natural History, 2001. P. 181-216.
Boas F. Die Sagen der Baffin-Land-Eskimos // Verhandlungen der Berliner Gesellschaft
für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 1885a. Bd. 17. S. 161-166.
Boas F. Baffin-Land: Geographische Ergebnisse einer in den Jahren 1883 und 1884;
ausgeführten Forschungsreise. Gotha: J. Perthes, 1885b.
Boas F. The Language of the Bilhoola in British Columbia // Science. 1886a. Vol. 7. P. 218.
Boas F. Sprache der Bella-Coola-Indianer // Verhandlungen der Berliner Gesellschaft
für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 1886b. Bd. 18. S. 202-206.
Boas F. The Occurrence of Similar Inventions in Areas Widely Apart // Science.
1887a. Vol. 9. P. 485-486.
Boas F. Museums of Ethnology and Their Classification // Science. 1887b. Vol. 9. P. 612-614.
Boas F. On Alternating Sounds // American Anthropologist. 1889. Vol. 2. P. 47-53.
Boas F. (ed.) Handbook of American Indian Languages. Pt. I. Washington: Government
Printing Office, 1911.
Boas F. Publicaciones nuevas sobre la lingüística Americana // Reseña de la Segunda
session del XVII Congreso Internacional de Americanistas, La Ciudad de México
1910. Mexico City, 1912. P. 225-232.
Boas Yampolsky H. Excerpts from the Letter Diary of Franz Boas on His First Field
Trip to the Northwest Coast // International Journal of American Linguistics.
1958. Vol. 24. No. 4. P. 312-320.
Brinton D. Essays of an Americanist. Philadelphia: Porter and Coates, 1890.
Bunzl M. Franz Boas and the Humboldtian Tradition: From Volksgeist and
Nationalcharakter to an Anthropological Concept of Culture // Volksgeist as Method
and Ethic: Essays on Boasian Ethnography and the German Anthropological Tradition /
Ed. G.W. Stocking, Jr. Madison: University of Wisconsin Press, 1996. P. 17-78.
Cannizzo J. George Hunt and the Invention of Kwakiutl Culture // Canadian Review
of Sociology and Anthropology. 1983. Vol. 20. No. 1. P. 44-58.
158
Этнографическое обозрение № 4, 2022
Chamberlain A. In Memoriam: Horatio Hale // Journal of American Folklore. 1897.
Vol. 10. No. 36. P. 60-66.
Cole D. Franz Boas and the Bella Coola in Berlin // Northwest Anthropological
Research Notes. 1982. Vol. 16. No. 2. P. 115-124.
Cole D. Franz Boas: The Early Years, 1858-1906. Seattle: University of Washington
Press, 1999.
Darnell R. Invisible Genealogies: A History of Americanist Anthropology. Lincoln:
University of Nebraska Press, 2001.
Drucker P. Boas in the Field. A Review of: The Ethnography of Franz Boas: Letters
and Diaries of Franz Boas Written on the Northwest Coast from 1886 to 1931 /
Ed. R. Rohner. Chicago, 1969 // Science. 1970. Vol. 168. No. 3932. P. 704-706.
Freed S. Anthropology Unmasked: Museums, Science, and Politics in New York
City. Vol. 1, The Putnam-Boas Era. Wilmington: Orange Frazer Press, 2012.
Hale H. On Some Doubtful or Intermediate Articulations: An Experiment in Phonetics //
Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. 1885. Vol. 14.
No. 3. P. 233-243.
Harkin M. (Dis)Pleasures of the Text: Boasian Ethnology on the Central Northwest
Coast // Gateways: Exploring the Legacy of the Jesup North Pacific Expedition,
1897-1902 / Eds. I. Krupnik, W.W. Fitzhugh. Washington: National Museum of
Natural History, 2001. P. 93-106.
Hoijer H. The Sapir-Whorf Hypothesis // Language and Culture / Ed. H. Hoijer.
Chicago: University of Chicago Press, 1954. P. 92-105.
Kluckhohn C., Prufer O. Influences during the Formative Years // The Anthropology
of Franz Boas: Essays on the Centennial of His Birth / Ed. W. Goldschmidt.
Menasha: American Anthropological Association, 1959. P. 4-28.
Lowie R. Native Languages as Ethnographic Tools // American Anthropologist, New
Series. 1940. Vol. 42. No. 1. P. 81-89.
Lowie R. Franz Boas, Anthropologist // Scientific Monthly. 1943. Vol. 56. No. 2.
P. 182-184.
Mackert M. The Roots of Franz Boas’ View of Linguistic Categories as a Window to
the Human Mind // Historiographia Linguistica. 1993. Vol. 20. No. 2-3. P. 331-351.
Mackert M. Franz Boas’ Theory of Phonetics // Historiographia Linguistica. 1994.
Vol. 21. No. 3. P. 351-384.
Mead M. Native Languages as Field-Work Tools // American Anthropologist, New
Series. 1939. Vol. 41. No. 2. P. 189-205.
Müller-Wille L., ed. Franz Boas among the Inuit of Baffin Island, 1883-1884: Journals
and Letters. Toronto: University of Toronto Press, 1998.
Rohner R. Franz Boas: Ethnographer on the Northwest Coast // Pioneers of American
Anthropology / Ed. J. Helm. Seattle: University of Washington Press, 1966. P. 151-222.
Rohner R. (ed.) The Ethnography of Franz Boas: Letters and Diaries of Franz Boas
Written on the Northwest Coast From 1886 to 1931. Chicago: The University of
Chicago Press, 1969.
Silverstein M. From Baffin Island to Boasian Induction: How Anthropology and
Linguistics Got into Their Interlinear Groove // The Franz Boas Papers. Vol. 1,
Franz Boas as Public Intellectual: Theory, Ethnography, Activism / Ed. R. Darnell.
Lincoln: University of Nebraska Press, 2015. P. 83-127.
Stocking G. Race, Culture, and Evolution: Essays in the History of Anthropology.
N.Y.: Free Press, 1968.
Stocking G., ed. The Shaping of American Anthropology, 1883-1911. N.Y.: Basic
Books, 1974.
Stocking G. The Ethnographer’s Magic and Other Essays in the History of
Anthropology. Madison: University of Wisconsin Press, 1992.
Кузнецов И.В. У истоков лингвистической антропологии: Франц Боас
159
Wiltse S.E. Introduction: II. - Experimental // American Journal of Psychology. 1888.
Vol. 1. No. 4. P. 702-705.
Zumwalt R. Franz Boas: The Emergence of the Anthropologist. Lincoln: University
of Nebraska Press, 2019.
R e s e a r c h A r t i c l e
Kuznetsov, I.V. At the Origins of Linguistic Anthropology: Franz Boas
[U istokov lingvisticheskoi antropologii: Frants Boas]. Etnograficheskoe
EDN: HXVNCB ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute
of Ethnology and Anthropology RAS]
Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences (1 bld. 1 Bolshoy Kislovsky Lane,
125009, Moscow, Russia)
Keywords
Boas, linguistic anthropology, fieldwork, Amerindian languages, apperception,
linguistic relativity
Abstract
From the point of view of the history of anthropology, Boas’s work “On Alternating
Sounds” (1889) likes a milestone. It was written during the years of an active search
for a stable academic position by its author and on a particular problem - experimental
studies of the effect of so-called “sound blindness”. At the same time, it absorbed
both the current achievements of Boas in physics, psychology, and ethnology, as well
as his laboratory work at the University of Kiel, and the first results of his fieldwork
research among the Eskimos and Indians of the Pacific Northwest. It is characteristic
that it already contained a message against the then widespread prejudice about the
evolutionary underdevelopment of the languages of a non-European human and that
the author refuted these prejudices by criticizing the method, thereby anticipating
his and his followers’ forthcoming struggle against racism in physical anthropology
and even modern relativistic understanding of culture. In the future, the results of
observations of the perception of language will be transferred by Boas to a wide field
of culture, and the process of acculturation is likened to the action of apperception -
the instilling of cultural norms and values to each member of society.
Funding Information
This research was supported by the following institutions and grants: Russian Science
References
Averkieva, Y.P. 1946. Franz Boas (1858-1942). Kratkie soobshcheniia Instituta
etnografii AN SSSR 1: 101-111.
Berman, J. 1996. “The Culture as It Appears to the Indian Himself”: Boas, George
Hunt, and the Methods of Ethnography. In Volksgeist as Method and Ethic: Essay
on Boasian Ethnography and the German Anthropological Tradition, edited by
G. Stocking, 215-256. Madison: The University of Wisconsin Press.
Berman, J. 2001. Unpublished Materials of Franz Boas and George Hunt: A Record
of 45 Years of Collaboration. In Gateways. Exploring the Legacy of the Jesup
North Pacific Expedition, 1897-1902, edited by I. Krupnik and W.W. Fitzhugh,
181-216. Washington: National Museum of Natural History.
160
Этнографическое обозрение № 4, 2022
Boas, F. 1885. Die Sagen der Baffin-Land-Eskimos [The Tales of the Baffin Land
Eskimos]. Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie
und Urgeschichte 17: 161-166.
Boas, F. 1885. Baffin-Land: Geographische Ergebnisse einer in den Jahren 1883
und 1884; ausgeführten Forschungsreise [Baffin Land: Geographical Findings in
1883 and 1884; Conducted Research Trip]. Gotha: J. Perthes.
Boas, F. 1886. The Language of the Bilhoola in British Columbia. Science 7: 218.
Boas, F. 1886. Sprache der Bella-Coola-Indianer [Language of the Bella Coola
Indians]. Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie
und Urgeschichte 18: 202-206.
Boas, F. 1887. The Occurrence of Similar Inventions in Areas Widely Apart. Science 9:
485-486.
Boas, F. 1887. Museums of Ethnology and Their Classification. Science 9: 612- 614.
Boas, F. 1889. On Alternating Sounds. American Anthropologist 2: 47-53.
Boas, F., ed. 1911. Handbook of American Indian Languages, I. Washington:
Government Printing Office.
Boas, F. 1912. Publicaciones nuevas sobre la lingüística Americana [New Publications
on American Linguistics]. In Reseña de la Segunda session del XVII Congreso
Internacional de Americanistas, La Ciudad de México 1910 [Review of the
Second Session of the XVII International Congress of Americanists, Mexico City
1910], 225-232. Mexico City.
Boas Yampolsky, H. 1958. Excerpts from the Letter Diary of Franz Boas on His First
Field Trip to the Northwest Coast. International Journal of American Linguistics
24 (4): 312-320.
Brinton, D. 1890. Essays of an Americanist. Philadelphia: Porter and Coates.
Bunzl, M. 1996. Franz Boas and the Humboldtian Tradition: From Volksgeist and
Nationalcharakter to an Anthropological Concept of Culture. In Volksgeist
as Method and Ethic: Essays on Boasian Ethnography and the German
Anthropological Tradition, edited by G. Stocking, 17-78. Madison: University
of Wisconsin Press.
Cannizzo, J. 1983. George Hunt and the Invention of Kwakiutl Culture. Canadian
Review of Sociology and Anthropology 20 (1): 44-58.
Chamberlain, A. 1897. In Memoriam: Horatio Hale. Journal of American Folklore
10 (36): 60-66.
Cole, D. 1982. Franz Boas and the Bella Coola in Berlin. Northwest Anthropological
Research Notes 16 (2): 115-124.
Cole, D. 1999. Franz Boas: The Early Years, 1858-1906. Seattle: University of
Washington Press.
Darnell, R. 2001. Invisible Genealogies: A History of Americanist Anthropology.
Lincoln: University of Nebraska Press.
Drucker, P. 1970. Boas in the Field: A Review of The Ethnography of Franz Boas:
Letters and Diaries of Franz Boas Written on the Northwest Coast from 1886 to
1931, edited by R. Rohner. Science 168 (3932): 704-706.
Freed, S. 2012. Anthropology Unmasked: Museums, Science, and Politics in New
York City. Vol. 1, The Putnam-Boas Era. Wilmington: Orange Frazer Press.
Hale, H. 1885. On Some Doubtful or Intermediate Articulations: An Experiment in
Phonetics. Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland
14 (3): 233-243.
Harkin, M. 2001. (Dis)Pleasures of the Text: Boasian Ethnology on the Central
Northwest Coast. In Gateways. Exploring the Legacy of the Jesup North Pacific
Expedition, 1897-1902, edited by I. Krupnik and W.W. Fitzhugh, 93-106.
Washington: National Museum of Natural History.
Кузнецов И.В. У истоков лингвистической антропологии: Франц Боас
161
Hoijer, H. 1954. The Sapir-Whorf Hypothesis. In Language and Culture, edited by
H. Hoijer, 92-105. Chicago: University of Chicago Press.
Humboldt von, V. 1985. Yazyk i filosofiia kul’tury [Language and Philosophy of
Culture]. Moscow: Progress.
Kluckhohn, C., and O. Prufer. 1959. Influences during the Formative Years. In The
Anthropology of Franz Boas: Essays on the Centennial of His Birth, edited by
W. Goldschmidt, 4-28. Menasha: American Anthropological Association, 1959.
Kuznetsov, I.V.
2018.
“Schet zim”. Vymiranie korennykh amerikantsev i
“antropologiia spaseniia” [“Winter Count”: Vanishing Native Americans and
“Salvage Anthropology”]. 3 vols. Vol. 2. Krasnodar: Kubanskii gosudarstvennyi
universitet.
Lowie, R. 1940. Native Languages as Ethnographic Tools. American Anthropologist,
New Series 42 (1): 81-89.
Lowie, R. 1943. Franz Boas, Anthropologist. Scientific Monthly 56 (2): 182-184.
Mackert, M. 1993. The Roots of Franz Boas’ View of Linguistic Categories as a
Window to the Human Mind. Historiographia Linguistica 20 (2-3): 331-351.
Mackert, M. 1994. Franz Boas’ Theory of Phonetics. Historiographia Linguistica 21
(3): 351-384.
Mead, M. 1939. Native Languages as Field-Work Tools. American Anthropologist,
New Series 41 (2): 189-205.
Müller-Wille, L., ed. 1998. Franz Boas among the Inuit of Baffin Island, 1883-1884:
Journals and Letters. Toronto: University of Toronto Press.
Rohner, R. 1966. Franz Boas: Ethnographer on the Northwest Coast. In Pioneers
of American Anthropology, edited by J. Helm, 151-222. Seattle: University of
Washington Press.
Rohner, R., ed. 1969. The Ethnography of Franz Boas: Letters and Diaries of Franz
Boas Written on the Northwest Coast from 1886 to 1931. Chicago: The University
of Chicago Press.
Silverstein, M. 2015. From Baffin Island to Boasian Induction: How Anthropology
and Linguistics Got into Their Interlinear Groove. In The Franz Boas Papers.
Vol. 1, Franz Boas as Public Intellectual: Theory, Ethnography, Activism, edited
by R. Darnell, 83-127. Lincoln: University of Nebraska Press.
Stocking, G. 1968. Race, Culture, and Evolution: Essays in the History of
Anthropology. New York: Free Press.
Stocking, G., ed. 1974. The Shaping of American Anthropology, 1883-1911. New
York: Basic Books.
Stocking, G. 1992. The Ethnographer’s Magic and Other Essays in the History of
Anthropology. Madison: University of Wisconsin Press.
Wiltse, S.E. 1888. Introduction: II. - Experimental. American Journal of Psychology
1 (4): 702-705.
Zumwalt, R. 2019. Franz Boas: The Emergence of the Anthropologist. Lincoln:
University of Nebraska Press.
Zvegintsev, V.A., ed. 1964-1965. Istoriia yazykoznaniia XIX-XX vekov v ocherkakh
i izvlecheniiakh [The History of Linguistics the 19-20th Centuries in Essays and
Extracts]. Pt. 1-2. Moscow: Prosveshchenie.