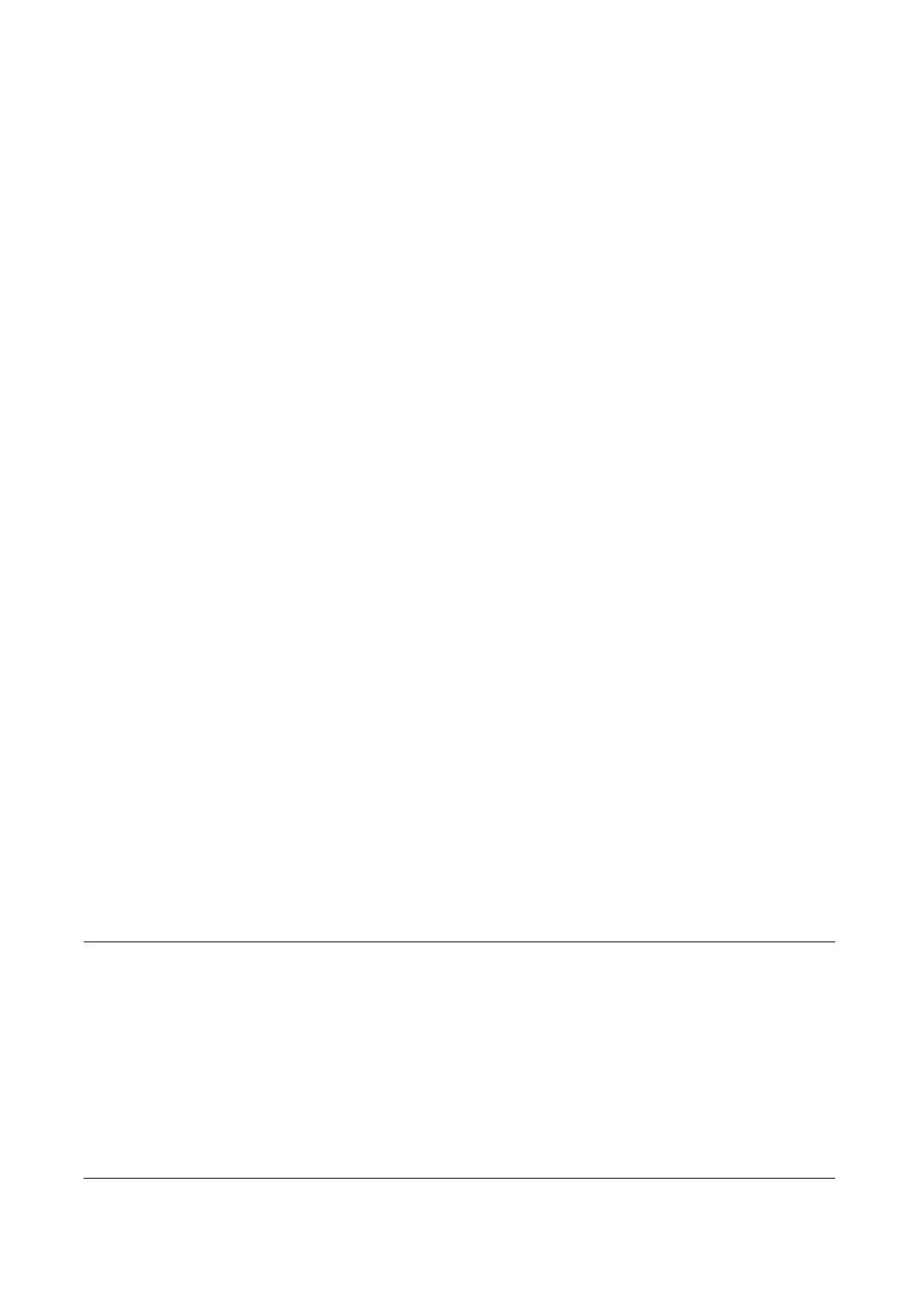НАСЛЕДИЕ И ФРОНТИР: РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОСМОСА
В МУЗЕЯХ КАЗАХСТАНА
К. Медеуова, У. Сандыбаева
Кульшат Медеуова
|
|
mkulshat@gmail.com
|
д. филос. н., доцент | Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
(ул. Сатпаева 2, Нур-Султан, 010008, Казахстан)
к. филос. н., доцент | Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
(ул. Сатпаева 2, Нур-Султан, 010008, Казахстан)
Ключевые слова
Казахстан, Байконур, космос, музеи, фронтир, советское наследие, космонавты, косми-
ческий мусор
Аннотация
В статье авторы рассматривают, как космос воспринимается в казахстанских музейных
экспозициях, как уживаются в музеях старые и новые фреймы, как меняются визуаль-
ные паттерны, репрезентирующие космическое после обретения страной независимости.
Тема космоса порождает амбивалентные дискурсы, поскольку в Казахстане расположен
космодром Байконур, есть космическая инфраструктура и отечественные космонавты, в
то же время космическое присутствует в повседневной жизни людей, живущих в зонах
приземления космонавтов и падения “космического мусора”. В статье используются эт-
нографические описания из казахстанских музеев, расположенных в разных регионах и
населенных пунктах страны, в том числе в городах, позиционирующих себя как “кос-
мические гавани”. Репрезентация космоса в музеях демонстрирует, с одной стороны,
связь коллективной памяти с советским наследием, героикой идеологического формата,
ностальгией по воображаемому космическому будущему, с другой стороны, постепенное
вытеснение/забвение этого дара модерности и перевод космического в плоскость фрон-
тирного присутствия.
Информация о финансовой поддержке
Министерство образования и науки Республики Казахстан [грант № АР08856485]
открытом в 2015 г. самом большом и новом Национальном музее Респу-
блики Казахстан в г. Нур-Султане космосу посвящено пять стендов и два
В
макета: один - тяжелая ракета “Протон-М” - расположен рядом с эска-
латором между этажами, а второй - спутник “KazSat” - висит под потолком.
Статья поступила 30.07.2022 | Окончательный вариант принят к публикации 13.09.2022
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Медеуова К., Сандыбаева У. Наследие и фронтир: репрезентация космоса в музеях Казахстана //
EDN: HZQHDS
Medeuova, K., and U. Sandybayeva. 2022 Nasledie i frontir: reprezentatsiia kosmosa v muzeiakh
Kazakhstana [Heritage and the Frontier: Representation of Space in Museums of Kazakhstan].
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
42
Этнографическое обозрение № 5, 2022
Поскольку зал является проходным, то все пять стендов - закатанные под пленку
щиты с фотографиями - не привлекают к себе особого внимания. На стендах
представлены казахстанские космонавты Т. Аубакиров, Т. Мусабаев, А. Аимбетов
и президенты Н. Назарбаев и В. Путин, последние во время запуска первого ка-
захстанского спутника связи. Основной сюжет этих стендов - либо встречи на
земле и на космической станции, либо биографии космонавтов, либо разные ука-
зы, в которых особо подчеркивается, что спутник “KazSat-2” является проры-
вом для казахстанского космического будущего. Визуально бедная экспозиция
(в том числе отсутствие подлинных экспонатов) провоцирует серию вопросов:
чем, собственно, является космос, космическое, Байконур и история космонав-
тики для культуры Казахстана? какая память остается о космическом прошлом?
какое воображение связано с космическим будущим? почему в действующих экс-
позициях доминируют фотографии космонавтов с политиками? есть ли особые,
оригинальные экспозиции, связывающие космос и собственно Казахстан? Эти
частные вопросы можно сгруппировать в три больших исследовательских: что
же мы можем увидеть в казахстанских музеях, если нет крупных материальных
репрезентаций космического? есть ли критический дискурс, связанный с эколо-
гическими проблемами, трансформацией культурного ландшафта? и кто является
мнемоническими акторами космической темы в Казахстане?
Казахский “космический” дискурс, сложно описать однозначными причинно-
следственными простыми схемами. Всегда есть факты, события, контексты и
контексты для контекстов. Рассматривая современные музейные практики па-
мяти о космическом проекте советского периода, с неизбежностью сталкива-
ешься с необходимостью ввода сюжетов, не имеющих прямого отношения к
космосу, но имеющих важное либо политическое, либо эмоциональное значение
для населения, которое проживало и продолжает жить рядом с космодромом.
Космодром Байконур перешел в собственность Казахстана после обретения не-
зависимости в 1991 г., по договору 1994 г. он был передан в аренду России,
а по соглашениям 2004 г. аренда пролонгирована до 2050 г. Поэтому город и
космодром так и остались закрытыми, действуют разрешительно-пропускная
система и сложные процедуры получения доступа на посещение города или му-
зеев, расположенных на стартовых площадках. В то же время, когда в октябре
1991 г. в космос полетел первый казах, то, по выражению Н. Назарбаева, это
стало актом справедливости для республики, с земли которой взлетают в кос-
мос (Назарбаев 2006: 307). Делая акцент на таком понимании справедливости,
задаемся вопросом: а услышаны ли были голоса местных жителей?
Выбор казахстанской земли для космодрома был обусловлен не только тех-
ническими характеристиками территории. В условиях холодной войны учиты-
валось и то, что полигон размещался в районе, труднодоступном для разведки:
чтобы ввести в заблуждение США, даже географические координаты места за-
пуска космических аппаратов, указанные официальными структурами, не соот-
ветствовали реальному расположению космодрома (Gruntman 2019).
Именно с этим связана частая путаница в казахстанских “космических” топо-
нимах: название “Байконур” закрепилось за г. Ленинск и космодромом с 1995 г.
(АП РК). По сути, это второй Байконур - он получил свое имя от местности
в Жезказганской (ранее Джезказганской) области. Это место часто описывают
как расположенное у станции Тюратам или между станциями Казалы (ранее
Казалинск) и Жосалы (ранее Джусалы); все эти локации связаны с р. Сырда-
рьей и Кызылординской областью. В условно первом Байконуре также прово-
дились ранние испытания баллистических ракет и был дислоцирован “ложный
космодром”, координаты которого вошли в историю как место старта первого
космонавта Ю. Гагарина. Частые административные переименования создали
Медеуова К., Сандыбаева У. Наследие и фронтир: репрезентация космоса...
43
разные инвариации описания этого “исходно первого” Байконура: “Байконур
в местности Улытау”, “Байконур Джезказганский/Жезказганский”, “Байконур
Карагандинский” и “Байконур Улытауский”. Для удобства в тексте будут ис-
пользоваться “Байконур Кызылординский” и “Байконур Улытауский”, посколь-
ку в 2022 г. в результате последнего административно-территориального из-
менения региону было возвращено имя, используемое в историко-культурных
реконструкциях ландшафта, - Улытау.
С другой стороны, инфраструктура космодрома - это не только сам Байконур.
Изначально Министерству обороны были отведены “7 участков по 200 га каждый
в Актюбинской, Акмолинской, Кзыл-Ординской, Кустанайской и Карагандин-
ской областях” (Сухина, Ивкин 2016: 41). Речь идет об отчуждении огромных
пространств на территории Казахстана, буквально выключенных из всех видов
коммуникации (культурной, социальной, экономической), кроме связанных с
обслуживанием космодрома, - пространств, находящихся в его “инфраструк-
турной тени”. Сейчас это территории, где производятся старты и приземления
космонавтов, но также падает “космический мусор” и происходит гептиловое
загрязнение1.
Разносторонние аспекты взаимоотношений между местным населением и
культурным и технологическим ландшафтом на примере Пенемюнда, Вумера
и Базы Спокойствия рассматривала А. Горман (Gorman 2005). В отношении ка-
захского контекста подобных исследований нет, но есть работы о казахстанской
космополитике Н. Бекус (Bekus 2022) и критические исследования Р. Копака,
рассматривавшего казахские степи как зоны сбора токсичного топлива и ра-
кетных обломков, как экстерриториальные ландшафты управления собственно-
стью (Kopack 2021).
Музейная аналитика дает представление об уровнях организации памяти о
космическом. То, что эта проблема актуальна не только для Казахстана, хоро-
шо видно по публикациям о специфике музеев наук и технологий, выполняю-
щих свою стандартную роль, представляя “романтику технического прогресса”
(Neufeld 2022: 76). В ранних исследованиях авторы настоящей статьи отмечали,
что в музейном поле Казахстана есть трудности с обновлением экспозиционной
политики, что по-прежнему доминируют краеведческие и исторические музеи,
а музеев, посвященных технологиям, науке или по крайней мере реконструкци-
ям истории крупных инфраструктурных проектов, таких как атомный, космиче-
ский и даже целинный, - нет (Медеуова и др. 2017).
Музеи могут не только отражать романтику технического прогресса, но и
поддерживать критический дискурс о роли техники, технологий, экологической
нагрузки и давлении на локальные культуры, поэтому космодромы и другие
виды полигонов могут быть интерпретированы как амбивалентные “места про-
гресса” (Brandau 2022: 120). Д. Брандау применил этот подход к анализу музеев
Пенемюнде в Германии, где в точке “рождения космической эры” актуализиро-
вались дискуссии о роли идеологических и биографических фигур умолчания,
энтузиазме политических обещаний и социально-экономическом отчаянии.
Таким образом, Пенемюнде предстает не только как родина космических экс-
периментов, но и как место преступлений нацистов - это все еще позволяет
обсуждать, “как ответственно относиться к возможностям, которые технологии
и естественные науки предлагают нам” (Ibid.).
Специфика казахстанского исследовательского поля
В статью вошли результаты полевых исследований проекта «“Космос” в
культурном ландшафте Казахстана: социальное и культурное измерение». Были
44
Этнографическое обозрение № 5, 2022
проанализированы экспозиции государственных и частных музеев в городах и
населенных пунктах: Алматы, Аркалык, Атырау, Байконур Кызылординский,
Байконур Улытауский, Жезды, Жезказган, Казалинск, Караганда, Карсакпай,
Кызылорда, Нур-Султан, Петропавловск, Темиртау. На момент распада Совет-
ского Союза в Казахстане было всего 200 музеев, к 2011 г. их количество сокра-
тилось до 103, а затем началась позитивная динамика, и в 2021 г. их стало 2642.
Общее количество музеев, вошедших в выборку, - 40. Помимо расположенных
в областных центрах, позиционировавших себя в качестве “космических гаваней” -
Караганда, Жезказган, Аркалык, Кызылорда, - сюда вошли музеи небольших на-
селенных пунктов, соседствующих с космодромом, - Жезды, Байконур Улытау-
ский, Жусалы, Казалы. Из описания казахстанского музейного поля исключены
объекты, расположенные в г. Байконур и на космодроме, поскольку они являются
музеями российских воинских частей, созданными в советский период в закры-
том городе, который таковым остается и сегодня. Тогда как для целей исследо-
вания было важно увидеть динамику изменений именно в казахстанских музеях.
Необходимо было понять, как происходит ревитализация культурного ландшафта
после того, как границы космодрома закапсулировались протоколами об аренде3.
Методология полевого исследования была направлена на поиск локальных,
региональных репрезентаций космоса, в том числе объектов, которые могли
выполнять роль символического присутствия космического в культурном ланд-
шафте. В этом контексте в московских, калужских музеях космонавтики иссле-
довалось значение Байконура в частности и Казахстана в целом для репрезента-
ций истории космонавтики. Понятие “космическое” используется для описания
локальных практик интерпретации определенных технологических, экологиче-
ских, эмоциональных составляющих. Например, когда речь идет о том, почему
космодром был инкорпорирован именно в культурный ландшафт Сырдарьи и
как сопряжена с этим ландшафтом текущая история космодрома - при этом
эта территория описывается как местность, в которой ничего до этого не было.
Таким образом, разные масштабы освоения космоса - глобальный, националь-
ный, локальный - сталкиваются и находятся в напряжении (Сивков 2019).
Спецификой казахстанского исследовательского поля является и то, что история
космонавтики в Республике вписывается в национальный нарратив о независимо-
сти (Назарбаев 2006: 307). Именно поэтому в казахстанских музеях тема истории
космонавтики плавно перешла в “Залы Независимости”, которые стали появляться
с 1992 г. и сейчас есть практически во всех музеях. Этим также объясняется, поче-
му так много фотографий казахстанских космонавтов с Н. Назарбаевым. Но исто-
рия Байконура как более специфическая история строительства мегасооружений,
запусков и приземлений космических аппаратов, технологических аварий, эколо-
гических последствий является в целом фронтирным сюжетом. В статье понятие
“фронтир” используется для описания зоны контактов разных хозяйственных, со-
циальных систем, периферий (Тернер 2009), а также как метафора пограничья, осо-
бого мира с разными акторами культурной памяти.
Когда космическое вплетается в дискурсы о национальной независимо-
сти, это также связано с рефлексиями по поводу переживаний, по выражению
А Сиддики, о “нереализованном будущем”. Американский исследователь отме-
чал, что подобное настроение характерно для стран, выпавших из нового витка
космической гонки (Siddiqi 2011).
Космос казахской культуры
В Кызылординском регионе самым сильным трендом в легитимации кос-
модрома, с точки зрения местных жителей, является мифологическая интер-
Медеуова К., Сандыбаева У. Наследие и фронтир: репрезентация космоса...
45
претация легендарной личности Коркыт-ата, миф о котором можно назвать
главным мифом общетюркской культурной ойкумены. Почти во всех вариантах
сказания Коркыт/Коркут (Хорхут), убегая от смерти, путешествует по всему
космосу, по всем четырем углам мира, и возвращается к р. Сырдарье, которая
воспринимается как центр мироздания (Каскабасов 1992: 99). Во всех музеях
Кызылординской области Коркыт - предваряющий историю космодрома цен-
тральный сюжет. Его ключевая идея заключается в том, что мегаобъект поя-
вился не случайно на этой территории: “здесь Коркыт обрел бессмертие”, это
“центр земли”, “пуповина земли” (жер кiндiгi). Когда в этой местности у ма-
зара Коркыту построили музейно-мемориальный комплекс, он стал знаковым
общественным пространством, в том числе и для туристов, направляющихся
в Байконур на ракетные старты (Медеуова 2020). Поскольку реального досту-
па для всех слоев населения к космодрому нет, а традиционно это сакральное
место для казахской культуры, то можно утверждать, что мифологическая ин-
терпретация связи Коркыта и Байконура является формой эпистемологической
компенсации (Наурзбаева, Медеуова 2021).
В алматинском Музее истории казахстанской науки, расположенном в зда-
нии Академии наук РК, в тематическом разделе “Развитие и становление ка-
захстанской науки в советский период” открыты экспозиции, посвященные
созданному в 1941 г. Институту астрономии и физики и одному из его основа-
телей академику В. Фесенкову. Очевидно, что фотографии ученых, в том чис-
ле с космонавтом Г. Гречко, постановления, отчеты об основных достижениях
института призваны показать главные свершения фундаментальной науки в со-
ветский период, к ним относят и труды академика Г. Тихова по астроботанике и
астробиологии. Термин “астробиология” впервые был предложен Г. Тиховым в
1953 г. - ученый искал доказательства существования растительности на Марсе
и Венере. Кроме научных трудов есть в музее и особый экспонат - “казахстан-
ская почва, побывавшая в космосе”. Хотя это маленький сувенир в прозрачной
герметичной коробочке, он несет большую символическую нагрузку. Во-пер-
вых, он связан с первой космической научной программой, которую выполнил
Т. Аубакиров, во-вторых, получен в дар от академика У. Султангазина, одного
из инициаторов идеи использования космодрома “Байконур” в национальных
интересах. Похожий сувенир - “земля с космодрома Байконур” - находится в
музее космонавтики в Москве, на нем выгравировано: “В год 20-летия косми-
ческой эры - земля с космического старта человечества. Коллектив космодрома
Байконур 18 мая 1977 г.”. В данном контексте земля с космодрома несет не ло-
кальный казахстанский смысл, а глобальный: Байконур как космические врата.
Поиск символического содержания для переживания космического дал со-
вершенно необычные результаты. В областном краеведческом музее г. Атырау
в богатой коллекции народных музыкальных инструментов есть домбра работы
местного автора И. Бекмамбетова. Домбра, инкрустированная костью, на ли-
цевой стороне имеет надпись “50-летию Ю.А. Гагарина,” а на корпусе - “Бай-
конур СССР”. Этот музыкальный инструмент, как и кобыз, и шанырак, очень
важный (с повышенной символической ценностью) элемент репрезентации ка-
захской культуры. В связи с этим интересно то, что в Московском музее космо-
навтики на стенде, посвященном деятельности космонавта А. Губарева, таже
представлена домбра, подаренная ему тружениками Экибастуза как почетному
гражданину города. В логике поиска репрезентаций казахстанского контекста в
российских космических музеях, где казахстанская тематика преимущественно
представлена общей информацией о ходе строительства космодрома Байконур
и стартах, домбра - это редкий объект. Домбра экспонируется в разделе “дары”,
аналогично игрушкам с гжельской росписью, встречающимся в музеях Кызы-
46
Этнографическое обозрение № 5, 2022
лорды. Роль символического дарообмена часто выполняют флаги, гербы, марки,
монеты, значки. Например, в Московском музее космонавтики размещен флаг
Казахстана с бортовой печатью Международной космической станции. Флаг
был доставлен на борт космонавтом О. Артемьевым в 2014 г. В казахстанских
музеях объекты с печатью МКС также часто встречаются, например, полотна с
гербами городов - “космических гаваней”.
В Национальном музее Республики Казахстан, где размещен макет “Прото-
на”, тоже есть подобные экспонаты - коллекционные монеты из серии “Космос”,
выпущенные уже в период независимости: “Космос”, “Байконур”, “Буран”,
“Первый космонавт”, “Станция мир”, “Союз-Аполлон”. На монете “Байконур”
изображена Земля, а вокруг - орбиты в виде шанырака (навершия) казахской
юрты. Шанырак - один из самых идентифицируемых архетипов кочевого об-
раза жизни - относится к доминантным символам казахской культуры, его изо-
бражения наиболее часто встречаются в городском дизайне, архитектурных
решениях, он актуализирует тему единства, общего дома, родства, в том числе
космического. Эта тема хорошо прослеживается и в шевронах казахстанских
космонавтов. Так, например, на скафандре Т. Мусабаева среди официальных
нашивок с гербами и флагами Казахстана и России есть изображение всадника
в стилизованной одежде кочевника, мчащегося по поверхности земного шара
на фоне ночного звездного неба.
При сравнении казахстанских и российских экспозиций на тему истории
космонавтики можно обнаружить, что первые не содержат фотографий этапов
строительства космодрома - Байконур как бы присутствует в качестве готового
образа. А вторые, наоборот, представляют свидетельства, досконально детали-
зирующие процесс, вплоть до картографических материалов, на которых указа-
ны планируемые траектории падения ступеней ракет, места размещения станций
наземного слежения, т.е. всей той информации, которая может расширить пред-
ставление о реальных размерах космодрома и его инфраструктурного давления
на территорию Казахстана. Казахстанские государственные музеи по большей
части предлагают фотоколлажи, состоящие из официальных фотографий прези-
дента Н. Назарбаева с тремя космонавтами-казахами, а также с изображениями
полетов ракет и спутников. Но есть и более эмоциональные фотографии, где
Н. Назарбаев запечатлен среди тех, кто встречает космонавтов в первые мину-
ты приземления. В постоянных экспозициях государственных музеев, которые
были созданы в советское время и подверглись масштабной реконструкции в
2000-е годы, представлены достаточно консервативные сюжеты и стандартные
методы подачи информации через фотографические коллажи и сувениры. Более
“продвинутыми” являются музеи, появившиеся после 2017 г. - после проведе-
ния международной выставки ЭКСПО в Астане.
“Нур-Алем” - технологический музей энергии будущего - выполнен в
форме сферы, где каждый этаж олицетворяет определенные виды энергии.
Космической энергии посвящен седьмой этаж “Space energy”. Это новый для
Казахстана тип научно-популярных экспозиций, напоминающих экспозиции
специального космического павильона Американского музея естественной
истории (American Museum of Natural History) в Нью-Йорке. Сходство просле-
живается в формате репрезентации космического с футуристическим дизайном,
различие - в масштабах охвата конкретных тем. В казахстанском музее, идя
по длинному “туннелю космических исследований”, можно узнать обо всех
важных событиях в истории космонавтики в хронологическом порядке, причем
информация размещена по всей поверхности туннеля. На пути встречаются ат-
тракцион “прогулка по Луне”, экспозиции, знакомящие с жизнью космонавтов
на МКС, с некоторыми предметами космической повседневности, такими как
Медеуова К., Сандыбаева У. Наследие и фронтир: репрезентация космоса...
47
еда, беговая дорожка, кофеварка и др. Кроме того, представлены макеты аппа-
рата “Луноход-1”, лунных лабораторий будущего, солнечных станций на Луне,
различные 3D-шоу, интерактивные информационные стенды, роботы. Итак, это
единственный музей, который условно может быть отнесен к категории музеев
науки и технологий. Здесь демонстрируются достижения и планы человечества
по освоению космической энергии, здесь нет ностальгии по советскому и есть
иной космос, не только тот, что связан с космодромом Байконур.
Города - “космические гавани”
Музеи могут служить интересам нациестроительства, укреплять националь-
ную идентичность (Оскар 2010). В Казахстане государство является основным
актором космической темы, поэтому в доминирующем национальном нарративе
акцентируется внимание на одновременности обретения независимости и полета
в космос космонавта-казаха. Однако есть и локальные музейные практики, напри-
мер, в Караганде, Жезказгане, Аркалыке, Кызылорде, где активно использовали
метафору городов - “космических гаваней” начиная с 1970-х годов. Все эти реги-
ональные центры расположены по периметру космодрома, в каждом из них проис-
ходили “встречи” космонавтов после приземления. Поэтому в этих городах сохра-
нилась своя “космическая” инфраструктура: гостиницы, медицинские центры, где
космонавты проходят первое медицинское обследование, и пр. Эти объекты могут
быть маркированы мемориальными досками, как например гостиница “Чайка”
(название от позывного В. Терешковой) в Караганде.
В областном краеведческом музее в Кызылорде представлены всего три стен-
да на тему космоса, несмотря на то что космодром расположен в Кызылордин-
ской области и исследование проводилось в юбилейном для космонавтики апре-
ле 2021 г. В Байконуре во время юбилейного старта, посвященного 60-летию
первого полета человека в космос, была реализована развернутая программа
празднования, а в кызылординском музее экспозиция не обновилась: привычные
фотографии, а также сувениры и подарки от Роскосмоса.
В районном музее ст. Казалы (100-120 км от полигона) вообще нет экспо-
зиций, посвященных космонавтике. Хотя эта станция расположена на железной
дороге, которая непосредственно связана с Байконуром.
Когда стали строить космодром, стало больше тайн, все стало похоже на тайны, шпионов
ловили, разведчики тогда хорошо работали. Самая большая тайна была про Ленинск: от-
куда столько солдат, как их кормят, какое у них там “московское” обеспечение. Мы всему
удивлялись. Один родственник работал на складе, а склад тот был целый километр, так
вот, на машине въезжаешь и набираешь огурцов из бочки, какой-то твердой еды… А когда
закончил школу в 60-е, пошел в армию, один парень из нашего класса тоже ушел и через
три года, отслужив, вернулись, разговариваем… Где и как служил? А он совсем запутался,
говорит, из военкомата повезли в Туркестан поездом, потом машинами куда-то, сам не зна-
ет куда. Все время служил, охранял какие-то объекты, письма писали на почтовый ящик,
в отпуск не отправляли. А как отслужил, вернулся домой из Тюретама. Вот удивился -
это же совсем рядом с домом было (ПМА 1).
По сути, для местного населения космическая тема существует как бы в
параллельном измерении. При этом ее могут использовать для регионального
брендирования. В Астане в канун 20-летнего юбилея столицы в 2017 г. был раз-
вернут музей под открытым небом, экспонировались ракетно-космическая тех-
ника, макеты ракет “Союз”, “Зенит”, “Протон” и космического челнока “Буран”
в натуральную величину. Это был подарок от Кызылординской области в рам-
ках проекта “Регионы в дар Астане”. Внушительные макеты выступают больше
знаками, отсылающими к Кызылординскои области - территории, на которой
48
Этнографическое обозрение № 5, 2022
Рис. 1. Тренировочный шлем Ю.А. Гагарина. Жезказганский историко-археологический
музей, зал “История космонавтики”. Фото К. Медеуовой, 2021 г.
находится космодром, но не к тому, что Казахстан стал полноценным правопре-
емником космической инфраструктуры.
Наиболее насыщенными космическими сюжетами оказались Карагандин-
ская и Жезказганская (с 2022 г. Улытауская) области. Здесь космическое имеет
более осязаемую связь с экономической и культурной жизнью. В краеведческом
музее Жезказгана, благодаря энтузиазму частного коллекционера, почетного
гражданина города Д. Грудея, представлена наиболее проработанная, по срав-
нению с другими музеями, экспозиция о связи космоса и региона. Д. Грудей
был сотрудником облисполкома, начальником ЖКХ-треста “Казмедьстрой”, он
участвовал в поисковых операциях после приземления космонавтов, коллекци-
онировал сувениры, медальоны, значки, личные предметы космонавтов. В сво-
ей квартире Д. Грудей организовал комнату-музей космонавтики, а после его
смерти коллекция была принята Жезказганским историко-археологическим му-
зеем на хранение, позднее был открыт специальный выставочный зал “История
космонавтики”. В космической экспозиции, размещенной в небольшой комнате
без окон площадью 22 кв. м, представлены уникальные предметы: тренировоч-
ный шлем Ю. Гагарина (см. Рис. 1), макет первой версии памятника на месте
трагической гибели корабля “Союз-11” и др.
Но большая часть экспонатов - это вновь фотографии, значки, сувениры.
Особенно много значков по программе “Интеркосмоса”. Примечательно, что
в Национальном музее авиации и космоса в Центре Стивена Ф. Удвар-Хэзи в
Вашингтоне в гигантском авиационном ангаре, где собраны сотни габаритных
объектов, имеется отдельный стенд, посвященный значкам на космическую тему
как особой давней “советско-российской традиции”. Эта традиция сохранилась
Медеуова К., Сандыбаева У. Наследие и фронтир: репрезентация космоса...
49
и в казахстанских космических музеях, где значкам, маркам и космической еде
отводится самое почетное место. Они, по сути, компенсируют отсутствие круп-
ных материальных экспонатов. В этих коллекциях представлены и казахстан-
ские сюжеты, связанные с разными юбилейными космическими датами, в том
числе значки воинских частей, которые строили Байконур. Большое количество
значков в музеях космонавтики не случайно, и связано это с либерализацией в
хрущевский период, с успехами в освоении космоса и, как показала К. Льюис, с
исключительной секретностью космических разработок - значки в этих услови-
ях были еще и источником информации о космонавтике (Lewis 2011).
Карагандинский краеведческий музей предлагает стандартную, преимуще-
ственно фотографическую версию экспозиции. Но в Караганде есть два других
музея: школьный и экологический, оба они имеют более живой экспозиционный
почерк. В экологическом можно увидеть крупногабаритные элементы “космиче-
ского мусора”, например, фрагмент ракеты-носителя “Протон”. Музей расположен
в неприспособленном помещении - в бывшем актовом зале. У зала нет перегоро-
док, в целом пространство выглядит как классический гараж, в котором собраны
объекты, посвященные индустриальным ландшафтам: шахтам, атомному полиго-
ну, космодрому. Одна часть музея выглядит как “капитанская рубка” гигантского
космического корабля. Для этого торцовая стена зала по высоте разделена лестнич-
ным пролетом и балконным ярусом. Нижняя часть оборудована как нос корабля,
симитированы иллюминаторы, имеются разноформатные объекты космического
мусора, автографы космонавтов, посетивших музей. Фрагмент ракеты-носителя
“Протон” является одним из самым крупных объектов, находящихся в казахстан-
ских музеях (см. Рис. 2). Он размещен на лифтовой платформе и скрыт под полом.
За дополнительную плату посетителям показывают специальное шоу, когда под
звуки сирены открывается люк и платформа с грудой искореженного металла мед-
ленно поднимается вверх.
Рис. 2. Фрагмент ракеты-носителя “Протон”. Экологический музей, г. Караганда.
Фото К. Медеуовой, 2021 г.
50
Этнографическое обозрение № 5, 2022
Небольшой музей авиации и космонавтики есть в карагандинской общеоб-
разовательной школе № 6, в нем хранится барельеф с изображением космонав-
та, на барельефе сделана надпись: “Ғарышты игерген ел” (“Страна, освоившая
космос”). В музее собрана информация о космонавтах независимого Казах-
стана, сведения об ученых, внесших вклад в космическую науку. В одной из
экспозиций представлены привезенные космонавтами два пластмассовых фла-
кона; на этикетках написано от руки: “Земля с могилы К. Циолковского”, “Зем-
ля из Звездного городка”. Есть в коллекции и личные вещи космонавтов: часы
С. Крикалева и шинель Т. Аубакирова.
Итак, несмотря на то что космодром Байконур находится на территории Ка-
захстана, в целом в казахстанских музеях мало материальных объектов, связан-
ных с освоением космоса. В основном представлены “брошенные” фрагменты,
как например, учебная капсула спускаемого корабля, оставленная военными в
аэропорту в 1990-е годы. Эта капсула находится перед входом в Областной му-
зей истории Степного края в г. Аркалыке. Есть “космический мусор”, собранный
экологическими энтузиастами в степи, представленный, например, в экологиче-
ском музее Караганды.
Подаренных объектов немного. Так, сотрудники Жезказганского историко-
археологического музея, чтобы получить подлинный космический экспонат,
специально писали письмо третьему казахстанскому космонавту А. Аимбетову.
В результате музей получил дверь посадочного люка головного обтекателя транс-
портного пилотируемого космического корабля “Союз ТМА-18М”, на котором
совершил полет А. Аимбетов.
“Космический мусор” можно встретить и в пос. Жезды, где расположен
уникальный частный музей истории горного и плавильного дела. Его организа-
тор М. Торегельдин занимался историей Карагандинской области. Он собирал
свидетельства о дореволюционных предприятиях и роли британцев в разработ-
ках угля и производстве чугуна, о первых советских пятилетках, когда реализо-
вывались амбициозные планы по созданию шахт и заводов (Торегельдин 2003).
На площадках под открытым небом расположены паровозы, станки, оборудо-
вание для горной и металлургической промышленности, рудные глыбы, печи
для плавки металла, динамомашины и другие крупные экспонаты - это и ан-
глийское оборудование начала прошлого века, и американское, полученное по
ленд-лизу. Парад техники демонстрирует масштабную индустриальную нагруз-
ку на регион. В этом индустриальном контексте представлена и тема космоса.
Чуть в стороне от машин и оборудования расположены космические объекты:
большой аутентичный фрагмент корабля - ступень ракеты (см. Рис. 3), а также
четыре фрагмента меньших размеров. Все эти экспонаты были подарены музею
жителями региона.
По воспоминаниям М. Торегельдина, для оформления экспозиции “Космос”
понадобилась рулонная фотобумага большого размера, ее искали три года, а
затем с помощью военных доставили в Ленинск (Байконур). По просьбе энтузи-
астов музея были сделаны фотографии, запечатлевшие подготовку космических
кораблей к полету и приземление космонавтов, в том числе, конечно, и Т. Ауба-
кирова. В 1996 г. М. Торегельдин встретился с ним и рассказал ему о том, что в
музее специальное место отведено космосу - это обрадовало космонавта. По-
пулярна в пос. Жезды и история о том, что именно в эту местность был сослан
мещанин Никифор Никитин за “крамольные речи” о полете человека на Луну,
о чем писалось в “Московских ведомостях” в 1848 г. (Торегельдин 2003: 151).
На фоне всей этой индустриальной истории региона ощущается маргиналь-
ность космоса, и только личные нарративы с привязкой к локальности поддер-
живают интерес к космическому. Подобное отношение было зафиксировано и
Медеуова К., Сандыбаева У. Наследие и фронтир: репрезентация космоса...
51
Рис. 3. Фрагмент космического корабля. Музей истории горного и плавильного дела,
пос. Жезды. Фото К. Медеуовой, 2021 г.
в небольшом школьном музее Байконура Улытауского. Экскурсовод - учитель
истории, акцентировал внимание на документально-публицистическом романе
“Даладағы дабыл” (“Гудок в степи”) М. Каратаева, где есть рассуждения об ин-
дустриальной истории края, о том, что Байконур не был бы возможен без Кар-
сакбая, откуда и начинается космос (Каратаев 1981: 202). Карсакбай же, где
произвели первый казахстанский чугун, был самым знаковым объектом первых
пятилеток, символом советского индустриального Казахстана.
Второй сюжет, принципиально важный для локальной истории, повествует
о том, что эта местность знаменита своими героическими нарративами.
И в Байконуре Улытауском (в том числе в музее), и в его окрестностях в послед-
ние десять лет началась мощная репрезентация Булантинского сражения первой
половины XVIII в. как первой крупной победы над джунгарами - ойратским
населением Джунгарского ханства. Именно это сражение позиционируется в
официальном дискурсе как исходная точка на пути к независимости Казахста-
на: если в начале 1990-х годов обретение независимости страной связывали с
космосом, полетом первых казахов-космонавтов, то в настоящее время акцен-
ты смещаются в сторону сюжетов героического прошлого, истории Казахского
ханства и Золотой Орды.
Рабочая гипотеза о том, что в этом “исходном” Байконуре авторам данной
статьи удастся найти уникальное “космическое наследие”, не подтвердилась,
здесь так же, как и в других населенных пунктах по периметру космодрома,
космическое выглядело скорее маргинальным сюжетом. В интервью самый ав-
торитетный свидетель - аксакал 86 лет рассказывал о родовых территориях в
52
Этнографическое обозрение № 5, 2022
местности Акшал, там, где находился, по его мнению, “настоящий” космодром.
Ему пришлось покинуть эти места в возрасте 20 лет. Он говорит, что
видел длинные колонны машин с грузом, закрытые брезентом, которые где-то в степи
пропадали, помню разговоры чабанов, которые видели, как приземлялись самолеты и
уходили куда-то под землю… но нам туда запрещали смотреть (ПМА 2: аксакал).
В устах местных жителей космическая история выглядит таким образом,
что именно из их населенного пункта был совершен первый полет:
Удивляет, что вы не знаете, что Гагарин полетел с нашего Байконура. Подземный кос-
модром был у нас в степи, отсюда и взлетали ракеты, аксакал же говорил вам, что видел
длинные колонны машин, идущие куда-то в степь, и их заставляли сразу отворачиваться,
чтобы не смотрели… даже самолеты куда-то уходили под землю, просто об этом боя-
лись говорить. О космосе же люди не знали. И шпиона же у нас поймали, когда он хотел
американцам сообщить о космодроме… Если даже вы не верите, что Гагарин отсюда по-
летел, то до него летали же собаки… Лайка, тогда они точно полетели от нас… в общем
летали… (ПМА 2: Аким).
Несмотря на то что жители позиционируют свой поселок как место перво-
го полета в космос, в местном музее нет практически никакой информации об
этом, нет экспозиций, повествующих о космосе и космическом. Мы увидели
лишь одну картину с изображением ракеты и надписью “Байконур”. Единствен-
ное, что в поселке отсылает к теме космоса, - это устаревший баннер с портре-
том Ю. Гагарина и дорожный указатель с устремленной вверх ракетой.
Наличие космодрома в Казахстане не вызывает особой гордости у местных
жителей, космос для них сегодня - космический мусор в степях, создающий
проблемы. При этом поддерживается устный нарратив о полете Ю. Гагарина с
их “настоящего Байконура”:
В 1992 г. 13 августа мы приехали с Монголии в Казахстан, в Жезказған. Потом в Жезды,
Байконур, Кызылуй (отделение), еще дальше на джайлау (летнее пастбище) Көктал. Нам
дали большое количество баранов, чтобы мы занимались скотоводством, для нас это было
сложно, вся семья занималась интеллектуальным трудом в Улан Баторе, и мы сами были
городскими детьми. И вот однажды на летнем пастбище Токболат мы увидели далеко в
степи сверкающий город, так нам показалось, и я пошла туда с сестренкой, хотя запретили
родители. Оказалось, что не город, а груды сверкающего металла, там были разбросаны
ракеты разного объема, обломки каких-то конструкций, разноцветные красивые провода
и разные квадратные аппаратуры. Мы не знали, что это, и игрались там, взбираясь на эти
сооружения, качались как на качелях. Потом мы узнали, что все это связано с космосом и
небезопасно, нам запретили туда ходить. Однажды одна из огромных ракет из-за сильного
ветра докатилась очень близко на наш кыстак (зимовку). Я слышала много историй, как
люди болели после запусков ракет от зараженной воды и почвы… Одна женщина, семья
которых вернулась еще в 60-е годы из Китая, мужа звали Ахат… а брата Ныгмет, она
пасла скот и от сильной жажды выпила воды из этих металлических обломков и очень
быстро потом умерла (ПМА 3).
* * *
Рассуждая о космическом мусоре, А. Горман задалась вопросом о его исто-
рической ценности как универсальном наследии и о сохранении его в качестве
музейных экспонатов, но только в космосе (Gorman 2005). Подобные музеи,
возможно, и появятся в будущем, но что мы имеем в настоящем в регионе, ко-
торому достался в “наследство” самый первый в мире космодром и который с
самого начала стал зоной падения ступеней ракет и всяческих технологических
рисков для жителей? Мы видим, что “космический мусор” - достаточно редкий
музейный экспонат, практически полностью отсутствующий в государствен-
Медеуова К., Сандыбаева У. Наследие и фронтир: репрезентация космоса...
53
ных музеях. В частных музеях он встречается чаще, и его появление всегда
связано с музейными энтузиастами.
Полевые исследования во всех регионах Казахстана, особенно в тех, ко-
торые позиционируют себя как “космические гавани”, “врата”, показали, что
нет не только специализированных музеев истории космонавтики, но и слабо
продуманы концепции космического наследия. Время от времени появляются
проекты с попытками более отчетливой артикуляции казахстанского вклада в
историю освоения космоса, происходит наполнение музейного контента. В том
случае, когда актором музейной репрезентации космоса выступает государство,
воспроизводятся паттерны типично советской героики идеологического форма-
та. Особенно это хорошо прослеживается в экспозициях, посвященных своим,
казахским, космонавтам, наличие которых уже позиционируется как достиже-
ние, или в упоминании самого большого в мире космодрома и умалчивании
всех техногенных, экологических последствий для культурного и экономиче-
ского ландшафта Казахстана. Поэтому во всех краеведческих и исторических
музеях космос включен в национальный нарратив, что считывается в “Залах
Независимости” через фотографии, изображения казахстанских космонавтов с
президентом, ракет или спутников на фоне футуристической архитектуры сто-
лицы и знаковые для страны исторические сюжеты.
В итоге все эти скудные экспозиции на космическую тему говорят о гранди-
озном “секретном” проекте, реализованном на территории Казахстана и в зна-
чительной степени присутствовавшем в повседневной жизни людей как хоро-
шо проработанный идеологический нарратив, но отнюдь не как четкое и ясное
понимание масштабов экономического, военного, культурного и в конечном
итоге эпистемологического искажения, которое создает космодром. В целом
казахстанские музеи поддерживают свою локальность, а включением космоса
в национальный нарратив создают некоторое напряжение между глобальным,
национальным и локальным.
В последние 30 лет изменились интонации высказываний о космосе и кос-
мическом - от явной ностальгии по воображениям космического будущего к
постепенному вытеснению/забвению этого дара модерности - и произошел
перевод космического в плоскость фронтирного присутствия. Ведь космодром
Байконур, олицетворяя космос, был и остается настоящим фронтиром - под-
вижной границей, очерченной договорами аренды. Текущая тенденция, считы-
ваемая в казахстанских музеях, характеризуется тем, что космос (космическое)
начинает уступать другим темам, эмоционально более окрашенным, полити-
чески более востребованным, например, восстановлению знания о культурных
ландшафтах, глубинным проработкам исторической памяти.
Примечания
1 См., напр.: Шарипжанов М., Шароградский А. Сайгаки гибнут рядом с Бай-
(источник информации выполняет функции иноагента); Глушкова С. Активисты
“Антигептила” призвали “не осквернять казахскую землю” 19 октября 2013.
2 По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому
3 О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Российской
Федерацией о развитии сотрудничества по эффективному использованию ком-
54
Этнографическое обозрение № 5, 2022
Благодарности
Исследование выполнено в рамках проекта МОН РК АР08856485 «“Космос”
в культурном ландшафте Казахстана: социальное и культурное измерение».
Источники и материалы
АП РК - Архив Президента Республики Казахстан. 5-Н. Оп. 1. Д. 4714. Л. 96.
Каратаев 1981 - Каратаев М. Даладағы дабыл. Алматы: Жазушы, 1981.
Назарбаев 2006 - Назарбаев Н. Казахстанский путь. Караганда: Арко, 2006.
Сухина, Ивкин 2016 - Сухина Г., Ивкин В. Нестеренко. М.: Молодая гвардия, 2015.
Торегельдин 2003 - Торегельдин М. Вечное наследие (Историко-документальная
книга об организации музея истории горного и плавильного дела в Жездах).
Караганда: Карагандинская полиграфия, 2003.
ПМА 1 - Полевые материалы авторов. Экспедиция в с. Казалы Кызылординской
обл. Апрель 2021 г. (интервью местного аксакала).
ПМА 2 - Полевые материалы авторов. Экспедиция в с. Байконур Улытауской обл.
Октябрь 2021 г. Наблюдение, фото, интервью (информанты: аксакал, Аким).
ПМА 3 - Полевые материалы авторов. Экспедиция в г. Нур-Султан. Октябрь 2021 г.
(интервью Майры).
Научная литература
Каскабасов С.А. Колыбель искусства. Алма-Ата: Онер, 1992.
Медеуова К. Затянувшаяся “советскость” и трансформации коллективной па-
мяти: советские и постсоветские мемориальные комплексы в Казахстане //
Новое литературное обозрение. 2020. №. 1. С. 256-274.
Медеуова К.А. и др. Практики и места памяти в Казахстане. Астана: ЕНУ
им. Л.Н. Гумилева, 2017.
Наурзбаева З.Ж., Медеуова К.А. Казахская “космическая” топонимика: исследование
культурного ландшафта в окрестностях космодрома Байконур // Вестник Казах-
ского национального женского педагогического университета. 2021. № 3. С. 68-78.
Оскар Н. История и память в современном музее: несколько замечаний с точки
зрения критической музеологии // Вопросы музеологии. 2010. №. 2. С. 3-11.
Сивков Д.Ю. Освоение космоса в домашних условиях: любительская космо-
навтика в современной России // Этнографическое обозрение. 2019. № 6.
С. 67-79.
Тернер Ф.Д. Фронтир в американской истории. М.: Весь мир, 2009.
Bekus N. Outer Space Technopolitics and Postcolonial Modernity in Kazakhstan //
34937.2021.1893273
Brandau D. Peenemünde Contested: Remembering Second World War Technologies in
Rural East Germany from 1984 to 1992 // Journal of Educational Media, Memory
and Society. 2022. Vol. 14. No. 1. P. 98-127.
Gorman A. The Cultural Landscape of Interplanetary Space // Journal of Social
Gruntman M. From Tyuratam Missile Range to Baikonur Cosmodrome
//
Acta Astronautica.
2019. Vol.
155. P.
actaastro.2018.12.021
Kopack R. Baikonur
2.0:
“Inland-Offshore” Space Economies in Post-Soviet
Kazakhstan // Culture, Theory and Critique. 2021. Vol. 62. No. 1-2. P. 96-112.
Медеуова К., Сандыбаева У. Наследие и фронтир: репрезентация космоса...
55
Lewis C.S. From the Kitchen into Orbit: The Convergence of Human Spaceflight
and Khrushchev’s Nascent Consumerism // Into the Cosmos: Space Exploration
and Soviet Culture / Eds. J.T. Andrews, A.A. Siddiqi. Pittsburgh: University of
Pittsburgh Press, 2011. P. 213-239.
Neufeld M.J. The Smithsonian’s National Air and Space Museum and “The Romance
of Technological Progress” // Journal of Educational Media, Memory, and Society.
Siddiqi A. From Cosmic Enthusiasm to Nostalgia for the Future: A Tale of Soviet
Space Culture // Soviet Space Culture: Cosmic Enthusiasm in Socialist Societies /
Eds. E. Maurer et al. N.Y.: Palgrave Macmillan,
2011. P.
283-306.
R e s e a r c h A r t i c l e
Medeuova, K., and U. Sandybayeva. Heritage and the Frontier: Representation
of Space in Museums of Kazakhstan [Nasledie i frontir: reprezentatsiia kosmosa
v muzeiakh Kazakhstana]. Etnograficheskoe obozrenie, 2022, no. 5, pp. 41-56.
© Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and Anthropology RAS
L.N. Gumilyov Eurasian National University (2 Satpayev Str., 010008, Nur-Sultan,
Republic of Kazakhstan)
L.N. Gumilyov Eurasian National University (2 Satpayev Str., 010008, Nur-Sultan,
Republic of Kazakhstan)
Keywords
Kazakhstan, Baikonur, space, museums, frontier, Soviet legacy, cosmonauts, space
debris
Abstract
In this article, we discuss the ways in which space is perceived in museum expositions
in Kazakhstan, old and new frames coexist in museums, and visual patterns representing
space changed after the country gained independence. The topic of space gives rise to
ambivalent discourses. Since the Baikonur Cosmodrome is located in Kazakhstan, there
is space infrastructure and domestic cosmonauts; at the same time, space is present in
the everyday life of people living in the areas where astronauts land and “space debris”
fall. The article uses ethnographic descriptions from museums located in different
regions and settlements of the country, including cities that position themselves as
“space havens”. The representation of space in museums demonstrates, on the one
hand, the connection of collective memory with the Soviet legacy, the heroism of the
ideological format, and the nostalgia for an imaginary space future; on the other hand,
the gradual displacement/oblivion of this gift of modernity and the transfer of space
into the aspect of frontier presence.
Funding Information
This research has been funded by the Science Committee of the Ministry of Education
and Science of the Republic of Kazakhstan [grant no. AP08856485]
56
Этнографическое обозрение № 5, 2022
References
Bekus, N. 2022. Outer Space Technopolitics and Postcolonial Modernity in Kazakhstan.
Brandau, D. 2022. Peenemünde Contested: Remembering Second World War
Technologies in Rural East Germany from 1984 to 1992. Journal of Educational
Media, Memory, and Society 14 (1): 98-127.
Gorman, A. 2005. The Cultural Landscape of Interplanetary Space. Journal of Social
Gruntman, M. 2019. From Tyuratam Missile Range to Baikonur Cosmodrome. Acta
Kaskabasov, S.A. 1992. Kolybel’ iskusstva [Gradle of Art]. Alma-Ata: Oner.
Kopack, R.
2021. Baikonur
2.0:
“Inland-Offshore” Space Economies in
Post-Soviet Kazakhstan. Culture, Theory and Critique 62 (1-2): 96-112.
Lewis, C.S. 2011. From the Kitchen into Orbit: The Convergence of Human Spaceflight
and Khrushchev’s Nascent Consumerism. In Into the Cosmos: Space Exploration
and Soviet Culture, edited by J.T. Andrews and A.A. Siddiqi, 213-239. Pittsburgh:
University of Pittsburgh Press.
Medeuova, K. 2020. Zatianuvshaiasia “sovetskost” i transformatsii kollektivnoi pamiati:
sovetskie i postsovetskie memorial’nye kompleksy v Kazakhstane [Protracted
“Sovietness” and Transformations of Collective Memory: Soviet and Post-Soviet
Memorial Complexes in Kazakhstan]. Novoe literaturnoe obozrenie 1: 256-274.
Medeuova, K.A., et al. 2017. Praktiki i mesta pamiati v Kazakhstane [Practices and
Places of Memory in Kazakhstan]. Astana: ENU im. L.N. Gumileva.
Naurzbaeva, Z.Z., and K.A. Medeuova.
2021. Kazakhskaia
“kosmicheskaia”
toponimika: issledovanie kul’turnogo landshafta v okrestnostiakh kosmodroma
Baikonur [Kazakh “Space” Toponymy: Study of the Cultural Landscape in the
Vicinities of the Baikonur Cosmodrome]. Vestnik Kazakhskogo natsional’nogo
zhenskogo pedagogicheskogo universiteta 3: 68-78.
Neufeld, M.J. 2022. The Smithsonian’s National Air and Space Museum and “The
Romance of Technological Progress”. Journal of Educational Media, Memory, and
Oskar, N. 2010. Istoriia i pamiat’ v sovremennom muzee: neskol’ko zamechanii s
tochki zreniia kriticheskoi muzeologii [History and Memory in the Contemporary
Museum: A Few Remarks on Critical Museology]. Voprosy muzeologii 2: 3-11.
Siddiqi, A. 2011. From Cosmic Enthusiasm to Nostalgia for the Future: A Tale of
Soviet Space Culture. In Soviet Space Culture: Cosmic Enthusiasm in Socialist
Societies, edited by E. Maurer, et al., 283-306. New York: Palgrave Macmillan.
Sivkov, D.Y. 2019. Osvoenie kosmosa v domashnikh usloviiakh: liubitel’skaia
kosmonavtika v sovremennoi Rossii [Space Exploration at Home: Amateur
Cosmonautics in Modern Russia]. Etnograficheskoe obozrenie 2: 67-79.
Terner, F.D. 2009. Frontir v amerikanskoi istorii [The Frontier in American History].
Moscow: Ves’ mir.