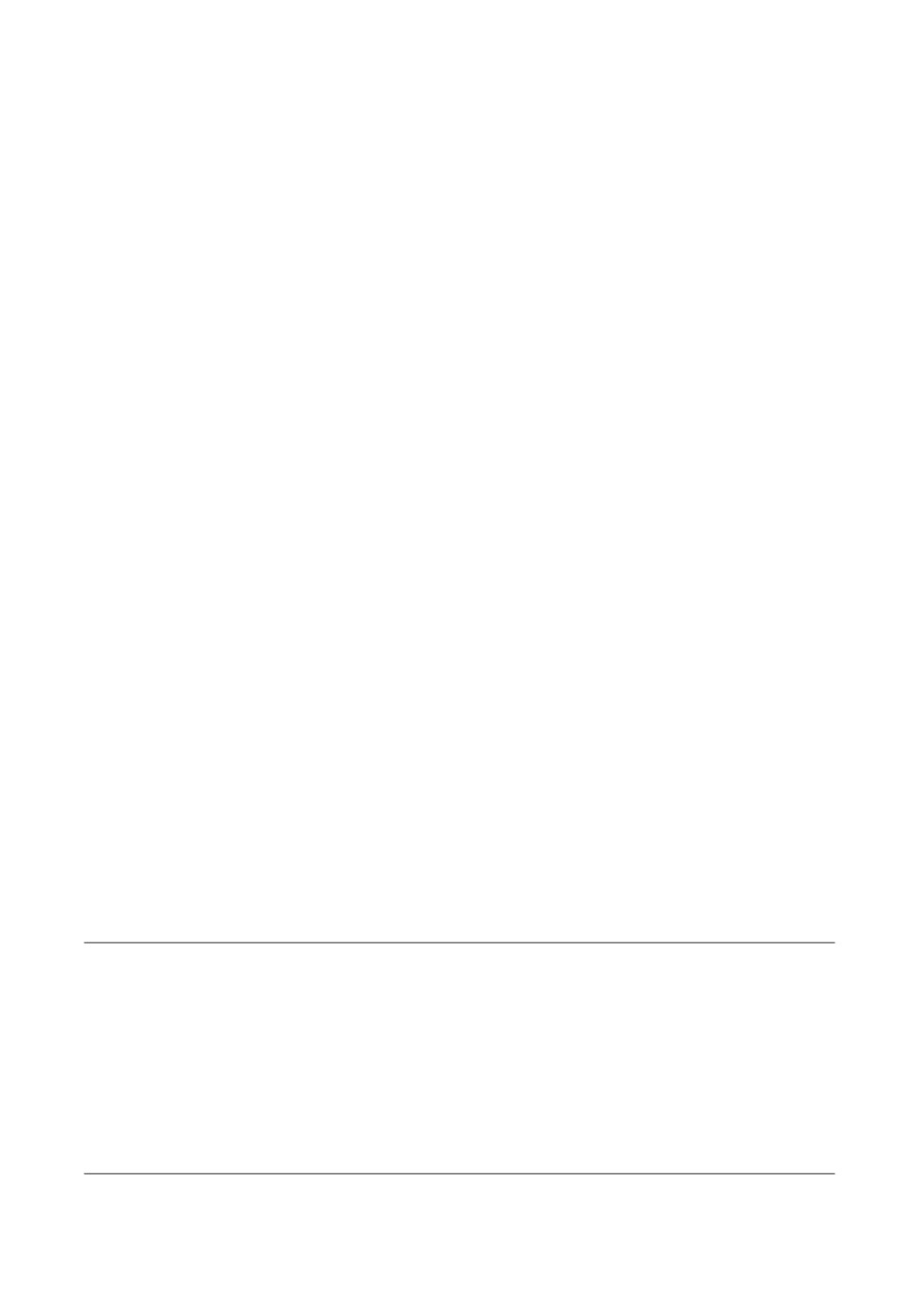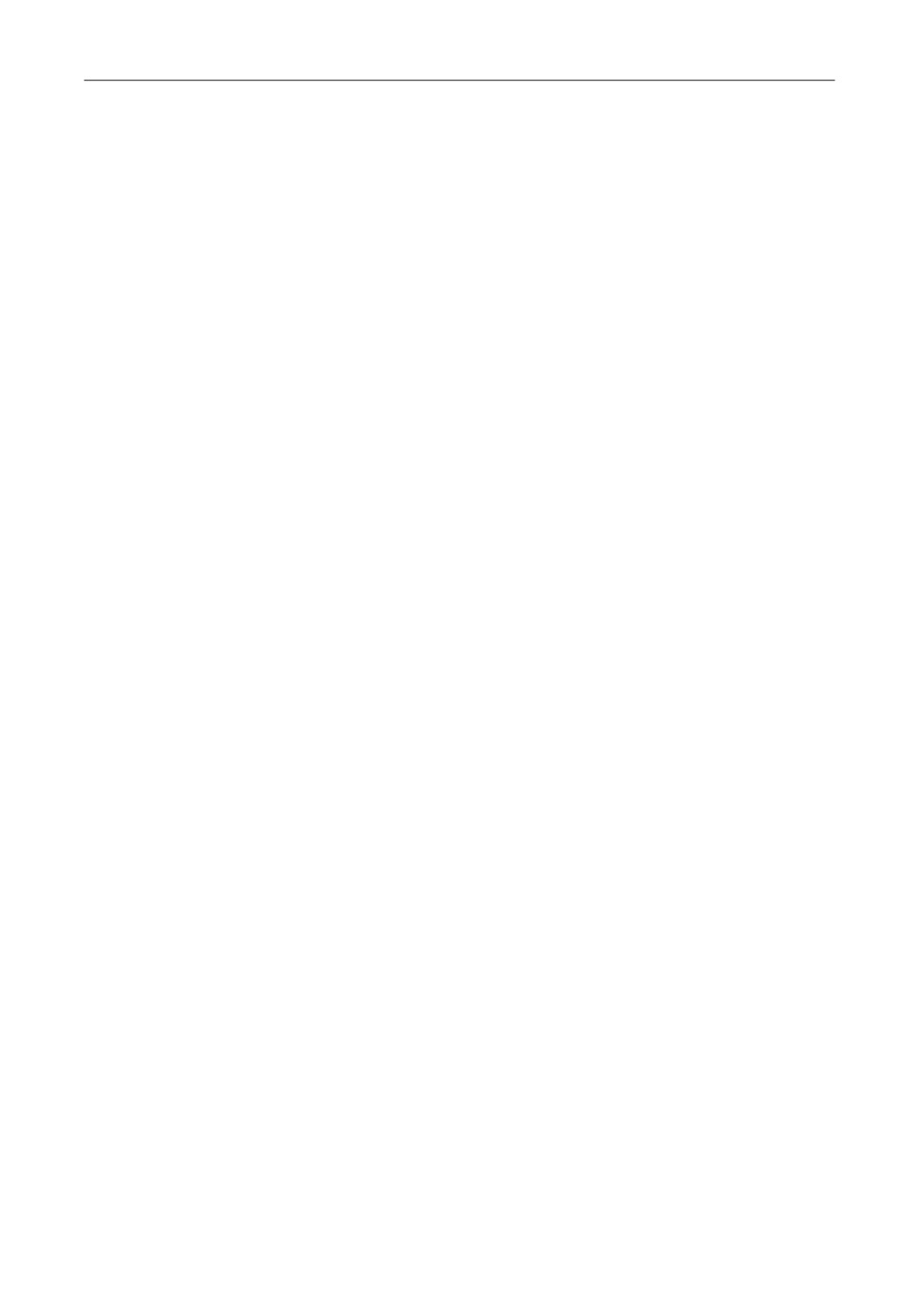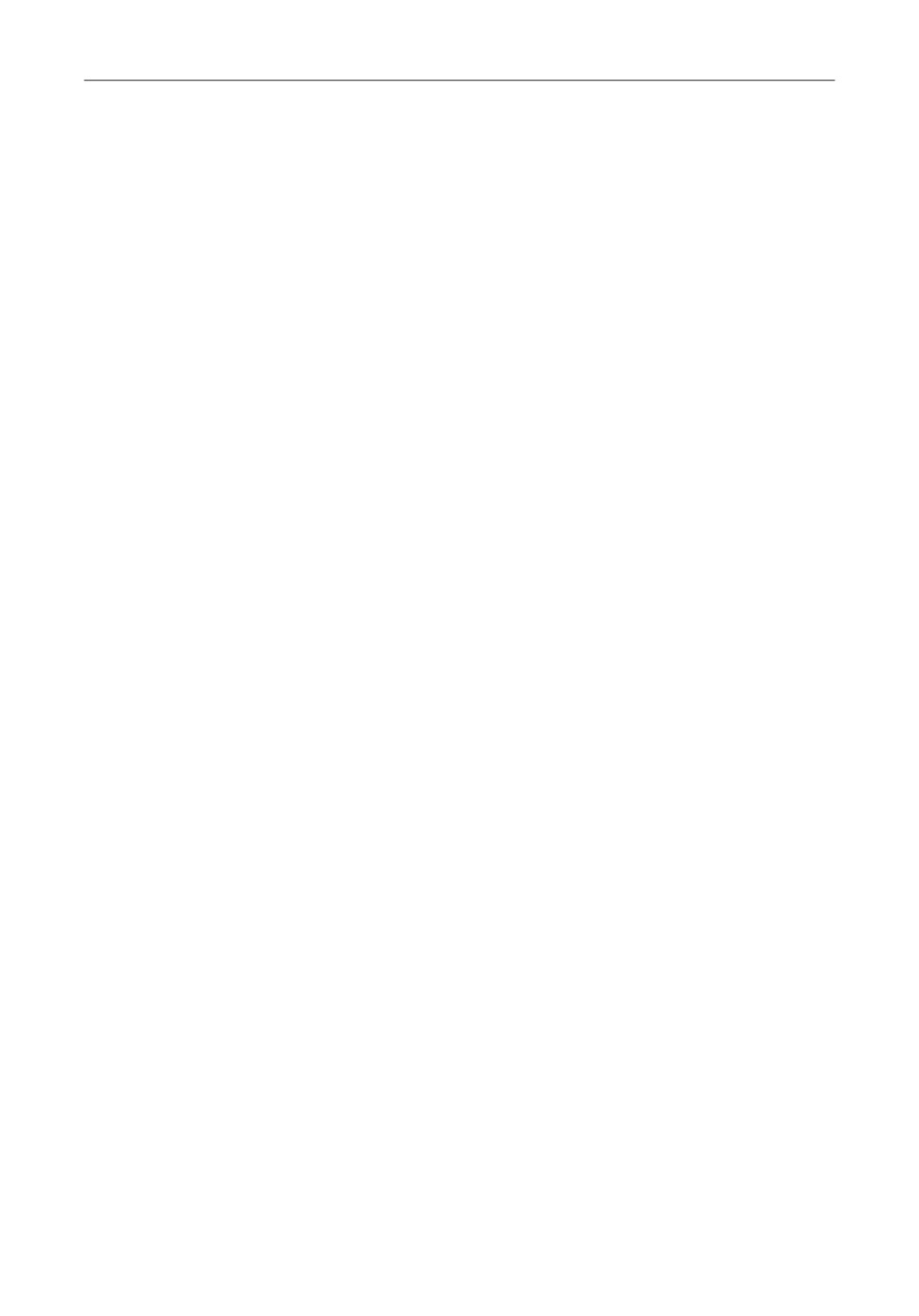“ГУАНАХАТАБЕИ”, “СИБОНЕИ”, “ИНДЕЙЦЫ”:
АБОРИГЕНЫ КУБЫ В XVI - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII В.
Э.Г. Александренков
д. и. н., ведущий научный сотрудник отдела Америки | Институт этнологии и антропологии
РАН (Ленинский пр. 32а, Москва, 119991, Россия)
Ключевые слова
Куба, индейцы, гуанахатабеи, сибонеи, энкомьенда, поселение индейцев
Аннотация
Известные мне испанские источники времени завоевания и колонизации испанцами остро-
ва Куба (первая четверть XVI столетия) зафиксировали только два слова для названия раз-
ных групп местного населения: “гуанахатабеи” и “сибонеи”. Однако затем испанцы не
пользовались этими этнонимами и всех туземцев называли “индейцами”. В первые годы
колонизации число коренных обитателей значительно уменьшилось. Кроме того, они по-
стоянно смешивались с испанцами. На Кубе не сохранилась особая категория населения,
называемая “метисами”, и к середине XVII в. за лицами смешанного индейско-испанского
происхождения закрепилось слово “индейцы”. Более того, это слово стало самоназванием
для части, пусть и небольшой, населения острова. Целью данной статьи является изучение
названных трансформаций, которые недостаточно описаны в литературе, хотя имели место
в ряде областей Америки.
ермин “индейцы” долгое время служил для обозначения почти всех корен-
ных обитателей Америки (кроме алеутов и эскимосов). Он был наложен
Т
на них европейцами и четко отделял местных жителей от пришельцев из
Старого Света. Это разделение первоначально подразумевало отличия в физи-
ческих чертах, языке и образе жизни в целом. На протяжении нескольких деся-
тилетий в ряде испанских колоний, включая Кубу, слово indio (индеец), будучи
по происхождению экзонимом, стало также эндонимом. На Кубе за этот период
времени количество его носителей резко сократилось. Они утратили прежний
язык и все элементы прежней духовной культуры. В XVII в. “индейцами” ста-
ли называться лица индейско-испанского происхождения (большая их часть).
До наших дней такие люди сохранились на самом востоке острова. Они не отли-
чаются по языку и культуре от соседей, но продолжают считать и называть себя
“индейцами”; так их называют и соседи. В данной статье будут рассмотрены
обстоятельства, которые привели к такому результату. Это возможно благодаря
наличию опубликованных документов, созданных в периоды открытия Кубы и
Статья поступила 19.01.2022 | Окончательный вариант принят к публикации 09.08.2022
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Александренков Э.Г.
“Гуанахатабеи”,
“сибонеи”,
“индейцы”: аборигены Кубы в XVI
-
первой половине XVII в.
//
Этнографическое обозрение.
2022.
№ 6. С.
178-195
Aleksandrenkov, E.G. 2022. “Guanakhatabei”, “sibonei”, “indeitsy”: aborigeny Kuby v XVI v. -
pervoi polovine XVII v. [On “Guanahatabeys”, “Siboneys”, and “Indians”: The Aborigines
of Cuba in the 16th - First Half of the 17th Century]. Etnograficheskoe obozrenie 6: 178-195
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
Александренков Э.Г. “Гуанахатабеи”, “сибонеи”, “индейцы”: аборигены Кубы....
179
ее колонизации (сообщения путешественников, начиная с Христофора Колум-
ба, отчеты представителей испанской короны на острове), а также сочинений
нескольких историков того времени. Из этого обширного круга свидетельств
были извлечены те, которые отражали понимание слова “индеец”. Расположе-
ние их в хронологическом порядке дает возможность увидеть трансформации
этого понимания во времени.
Обитатели Кубы в период открытия острова
Корабли Христофора Колумба подошли к берегам Кубы в октябре 1492 г.
с севера, пройдя острова, что сейчас называются Багамскими. Сведения об этом
сохранились в бортовом журнале Колумба. Испанцы не знали языка местных
обитателей, и записи Колумба отражают лишь то, что он мог наблюдать. Итак,
он увидел “хорошие селения”, где жилища из пальмовых листьев, которые имели
вид очень больших шатров, были расположены, как палатки в лагере, а улицы
отсутствовали. Внутри испанцы нашли много скульптурных изображений жен-
ских фигур и “очень хорошо сделанных” масок, а также сетей, крючков и других
приспособлений для ловли рыбы (Colón 1961: 74-75). Колумб не единожды от-
мечал наготу встреченных им людей. Появляются обобщения - “эти люди очень
смирные и робкие, нагие, как я сказал, без оружия и без закона” (Ibid.: 82).
В один из дней Колумб отправил двух испанцев и одного аборигена во внутрен-
ние районы острова. Посланники нашли поселение из 50 домов в виде огромных
шатров (alfaneques), где обитали, по словам испанцев, 1000 человек. Пришельцев
встретили очень торжественно и разместили в лучших домах, предоставив еду.
Самые почтенные люди поселения взяли их под руки, ввели в главный дом и уса-
дили на два сиденья, а мужчины уселись вокруг на земле. Пришедший с испан-
цами индеец, по их же словам, рассказал аборигенам о жизни христиан и о том,
какие они хорошие люди. Затем мужчины вышли, вошли женщины и так же сели
вокруг, целуя руки и ноги испанцам (Ibid.: 82). Колумб отмечал плодородие мест-
ных земель, писал о том, какие культуры возделывают местные жители, а также
продолжал характеризовать людей следующим образом: они очень незлобивые и
не воинственные, нагие, “как мать их родила” (Ibid.: 85-86).
На востоке острова испанцы встретили большие поселения и “очень возде-
ланные земли” (Ibid.: 105-106). Там же видели лодки, одна из которых, по мне-
нию Колумба, могла вместить 150 человек. Обитатели встреченных поселений
в страхе убегали. Здесь Колумб упомянул орудия местных людей - дротики, на
конце которых были острые обожженные палочки (Ibid.: 110-113). От берегов
Кубы Колумб вышел к Гаити, откуда вернулся в Испанию.
Во втором плавании за Атлантику суда Колумба, отойдя от Эспаньолы (так
испанцы стали называть остров Гаити) в конце апреля 1494 г., прошли вдоль
южных берегов Кубы. Теперь у него был переводчик из тех людей, что он пле-
нил в первом плавании. Об этом походе написали несколько авторов того вре-
мени. Первым, видимо, был итальянец Микеле Кунео, участник плавания. Наи-
более интересные моменты в его письме - это данные о запасах рыбы и игуан
у встреченных людей, а также сообщение об обитателях небольших островов,
пищей которым служила рыба, а питьем, по словам Кунео, - морская вода, так
как пресной там не было. Цвет кожи этих людей показался Кунео более темным,
чем у обитателей других островов (Cuneo 1893: 103-104). У хрониста Педро
Мартира, пользовавшегося рассказами участников плавания, есть некоторые
детали, которых нет у Кунео. Наиболее существенная из них - это сообщение
о том, что переводчик, индеец Диего, не смог понять речь человека, проживав-
шего в западной части Кубы (Martyr D’Anghera 1912: 98-99). Об этом плавании
180
Этнографическое обозрение № 6, 2022
рассказано также в книге сына Христофора Колумба, Фернандо (Colón 1944:
143-153); писал о нем и Бартоломе де Лас Касас, который почерпнул сведения
у П. Мартира и Ф. Колумба (Las Casas 1951. T. I: 391-392).
Пожалуй, наиболее подробно о пребывании Колумба у южных берегов Кубы
написал королевский историк Андрес Бернальдес, получивший информацию
от самого Колумба и от других участников экспедиции. Бернальдес отмечал
гостеприимство и миролюбие, с которыми местные жители разных областей
встречали мореплавателей, а также обилие пищи, предложенной туземцами.
Бернальдес упоминал о том, что на западе острова один испанец будто бы ви-
дел людей, среди которых было несколько человек в длинных белых туниках.
В другом месте уже местные жители говорили о правителе, который будто бы
носил тунику, которая стлалась по земле.
После нескольких дней плавания, найдя воду и запасшись дровами,
Колумб направился к Ямайке (Bernáldez 1875: 46-48, 62-65). От Ямайки корабли
Колумба опять вышли к Кубе, к провинции Орнофай. Здесь мореплаватель
беседовал с местным вождем и сопровождавшим его стариком. Из написанного
Бернальдесом следует, что Колумб понимал то, что говорил и показывал жеста-
ми старик, а ответ Колумба излагал переводчик, который, кроме того, рассказал
собравшимся о том, что он сам видел и узнал в Испании. Бернальдес со слов
Колумба так суммировал впечатления от этой встречи испанцев с местными
жителями: “Все те люди, островитяне и материковые, хотя кажутся глупыми и
ходят нагими, согласно Адмиралу и тем, кто были с ним в этом путешествии, по-
казались им достаточно разумными и острого ума”. Из Орнофая мореплаватель
пошел на юг, но ветры заставили его идти в провинцию Макака, где он также
был хорошо принят (Ibid.: 66-72). В четвертом плавании, в 1503 г., Колумб вы-
шел к селению Макака на Кубе, где пополнил припасы (Colón 1944: 287-288).
Позже до южных берегов Кубы доходили испанские суда, вышедшие из
северо-западных земель южноамериканского материка. Такой случай описал
Мартир по рассказу очевидца, конкистадора Мартина Фернандеса де Энсисо.
По его словам, туземцы приняли его любезно, особенно люди касика1 по име-
ни Комендадор. Это имя касик получил, когда проходившие через его земли
испанцы крестили его, и он попросил назвать себя в честь правителя сосед-
него острова2. У Комендадора в течение некоторого времени выздоравливал
испанский моряк, который затем успешно возглавлял военные походы касика.
Испанец убедил касика оставить своих богов и сделать своей покровительни-
цей Богородицу. По просьбе касика испанец отдал ему образ Девы и посвятил
ей церковь и алтарь. Следуя наставлениям моряка, касик и его люди на заходе
солнца приходили туда, становились на колени, склоняли головы, брались за
руки и повторяли Ave Maria. Когда туда прибыл Энсисо со своими людьми,
индейцы показали им образ в окружении гирлянд и сосудов с пищей и питьем.
Мартир привел пространный рассказ Комендандора о том, как его люди с помо-
щью образа Девы Марии побеждали своих соседей-противников. Как результат,
эти соседи попросили Энсисо окрестить их, и два священника за один день
крестили 130 человек (Martyr D’Anghera 1912: 240-245).
Лас Касас в “Истории Индий” повторил написанное Мартиром о моряке, по-
павшем к Комендадору, и тоже не назвал его имя (Las Casas 1951. T. II: 519-520).
Видимо, речь шла об Алонсо де Охеда, о котором Лас Касас писал в другом месте
своей книги. По этой версии, в 1510 г. испанское судно вошло в залив Хагуа в цен-
тральной части Кубы, откуда испанцы по суше направились на восток. Местные
жители не допускали их в свои поселения и пытались убить. Однако в другом ме-
сте, в поселении Куэиба, куда испанцы пришли после многодневного перехода по
болотам, их встретили доброжелательно - накормили, вымыли, дали отдохнуть.
Александренков Э.Г. “Гуанахатабеи”, “сибонеи”, “индейцы”: аборигены Кубы....
181
Местный касик послал за отставшими, и тех, кто не мог идти сам, принесли на
плечах. Испанцы провели в этом селении много дней. Охеда подарил касику образ
Богоматери, возвел молельню с алтарем и, по словам Лас Касаса, как мог, объяс-
нил индейцам, что матерь Бога, обитавшего на небе, была защитницей людей. И
индейцы стали почитать этот образ, украсили церковь хлопковыми полотнами,
подметали, поливали и даже устраивали ареито (areito) (речь идет об обществен-
ных церемониях, состоявших из танцев и песнопений, которые были названы ис-
панцами индейским словом “ареито” и играли важную роль в жизни аборигенов).
Окрепнув, испанцы отправились дальше на восток и дошли до поселения Maкaкa,
где тоже были приняты хорошо (Las Casas 1951. T. II: 401-404, 533).
Из представленного выше видно, что первые встречи испанцев с аборигена-
ми Кубы проходили преимущественно мирно. Корабли Колумба могли спокойно
пополнять запасы пресной воды, дров и продовольствия. Очевидно, те общины,
с которыми соприкасались испанцы, не только в достатке обладали пищей, но и
были в состоянии часть ее отдать. Во время второго плавания Колумб имел воз-
можность беседовать с местными вождями; при этом, судя по описаниям этого
плавания, аборигены и пришельцы общались на равных. Сходным образом в
большинстве случаев проходили позже и встречи аборигенов Кубы с другими
испанцами, которых ветра и течения заносили к берегам острова. В некоторых
случаях местные обитатели под влиянием пришельцев добровольно принимали
новые для них формы верований.
Аборигены острова в ранний колониальный период
Отношения равенства изменились, когда испанцы приступили к завоеванию
Кубы. Отправившись с Эспаньолы под предводительством Диего Веласкеса,
они высадились на самом востоке острова летом 1510 г. По расчетам кубин-
ского демографа Х. Переса де ла Рива, к тому времени на Кубе могло обитать
112 тыс. человек. Большая их часть, 61 тыс., находилась на востоке, на террито-
рии провинции Ориенте. От Ориенте до Матансас демограф разместил 41 тыс.
человек; на западе острова, по его предположению, находилось 10 тыс. человек;
90% населения, по его мнению, составляли земледельцы, занимавшие восточ-
ные и центральные области острова (Pérez de la Riva 1972: 61-84).
Участники первых плаваний у берегов Кубы и те, кто побывал на острове
до его завоевания испанцами, не назвали ни одного этнонима. В сообщениях
Веласкеса встреченные аборигены фигурировали как “индейцы”. Однако позже
испанцам стало известно о гуанахатабибах (guanahatabibes), проживавших на
самом западе острова, у которых жилище, “как у дикарей, потому что у них
не было ни домов, ни мест поселений, ни земледелия, и они не едят ничего.
кроме мяса, что добывают в лесах, и черепах, и рыбы” (CDI 1869: 424-425).
Схожим образом о них писал Лас Касас в 1516 г., назвав их гуанахатабеями
(guanahatabeyes): они живут, как дикари, не вступают в общение с индейцами
острова, у них нет домов, они находятся постоянно в пещерах, которые покида-
ют только тогда, когда выходят ловить рыбу3. Там же упомянуты, без указания
области их расселения, сибунеи (cibuneyes), которые, по мнению Лас Касаса,
индейцами острова воспринимались как слуги. И таковы же, считал он, почти
все обитатели Садов4, названные Лас Касасом бродягами (holgazanes), которые
не занимаются земледелием или чем-то другим, а живут только за счет лов-
ли рыбы (Las Casas 1958: 14). Очевидно, Лас Касас объединил гуанахатабеев,
сибунеев и жителей Садов по той причине, что они не занимались земледелием.
Очевидно также, что он их отделял от “индейцев острова”, т.е. большинства
населения Кубы, земледельцев, этнонима для которых он не приводит.
182
Этнографическое обозрение № 6, 2022
Несколько десятилетий спустя Лас Касас уже по-другому писал о коренном
населении Кубы. По его мнению, первыми насельниками острова были “люди
простейшие, мирные, кроткие, нагие, без помысла причинить кому-либо зло”.
На их языке, пишет Лас Касас, они назывались “сибонеями” (siboneyes). Поз-
же с Эспаньолы на Кубу переселилось некоторое количество людей; главной
причиной перехода было то, что испанцы начали притеснять туземцев острова.
В результате пришельцы с Эспаньолы подчинили сибонеев. Беглец с Эспаньо-
лы, касик Атуэй, осел на Кубе в провинции Маиси (Las Casas 1951. T. II:
507, 514). Здесь Лас Касас не назвал гуанахатабеев и индейцев Садов. Можно
только предположить, что он не сделал этого на том основании, что они, как он
писал ранее, такие же, как сибунеи (сибонеи).
Ни в одном источнике, содержащем сведения о событиях колониально-
го времени, т.е. после завоевания острова, я не нашел упоминания о гуана-
хатабеях и сибонеях. Нет в этих источниках и какого-либо противопоставле-
ния обитателей самой западной части Кубы остальным аборигенам острова.
Для колонистов и для властей все местные жители стали “индейцами”. От них
в течение некоторого времени испанцы отделяли кайос (cayos), обитателей
небольших островов5. Территория проживания земледельцев Кубы, которые
составляли большинство населения острова, ко времени прихода испанцев де-
лилась на несколько самостоятельных единиц, которые у испанцев получили
название “провинций” или “касикатов” (cazicazgos). На этих землях находилось
какое-то количество поселений, во главе которых стоял наиболее сильный ка-
сик. Между отдельными касикатами, как правило, были необитаемые или ма-
лонаселенные области. Социальная структура поселений, как можно судить по
упоминаниям испанцев, была трехчастной: касик, его слуги, индейцы. Важную
роль в жизни аборигенов играли ареито.
Когда испанцы высадились на Кубе, они легко преодолели слабое сопро-
тивление Атуэя, который был схвачен и сожжен. Веласкес заложил первое ис-
панское поселение, Баракоа, и испанцы несколькими отрядами двинулись на
запад. В районе Баямо отряд Панфило Нарваэса подвергся ночному нападению
индейцев, но и оно не имело успеха. Продвигаясь на запад, испанцы не имели
военных столкновений с аборигенами. Тем не менее в поселении Каонао, в про-
винции Камагуэй, они напали на собравшихся там индейцев и убили, по словам
Лас Касаса, очевидца событий, несколько сотен взрослых и детей (Las Casas
1951. T. II: 535-538). В “Истории Индий” Лас Касаса представлено, как про-
двигались испанские отряды по острову. Так, после Каонао они разбили лагерь
там, где было много посадок маниоки. У каждого испанца была своя хижина с
мужчинами и женщинами, которых он вел с собой. Ибо, по словам Лас Касаса,
никто (или немногие) не вел с собой меньше 8-10 человек, которых “добром
или силой” взяли в тех селениях, что остались позади. Мужчин посылали за
маниокой и на охоту, женщины делали из маниоки хлеб (Ibid.: 539).
К концу 1514 г. остров оказался в распоряжении испанцев. Были заложены
еще несколько поселений (villas): Баямо, Санкти-Спиритус, Тринидад, Пуэрто-
Принсипе, Гавана и Сантьяго-де-Куба. Испанцы, получавшие статус “весино”
(vecino - полноправный поселенец, как правило, семейный) той или иной ви-
льи, имели право на усадьбу в поселении и землю для ведения хозяйства вне его,
а также на энкомьенду6. По мере продвижения на запад и основания поселений
Веласкес наделял участников захвата острова работниками из индейцев. Какая-то
часть местных жителей, по преимуществу мужчины, попала в рабство.
В 1516 г. Лас Касас, только что вернувшийся с Кубы, где он служил в каче-
стве войскового капеллана в 1514-1515 гг., написал, что в военных действиях
погибло 15-20 индейцев, а за три-четыре месяца работы на приисках их умерло
Александренков Э.Г. “Гуанахатабеи”, “сибонеи”, “индейцы”: аборигены Кубы....
183
100 тыс.7 Лас Касас назвал следующие причины: во время завоевания острова
испанцами индейцы не могли сеять в течение полутора и более лет; когда они
были разделены между испанцами, их заставили добывать золото, и у них не
было запасов еды, и их практически не кормили; чрезмерный труд. На работу
на приисках людей выводили до того, как начинался день, и там они копали до
полудня, промывая золото, без еды и воды. В полдень им давали зерна (видимо,
маиса) и, возможно, очень мало касабе. Зерна запивали водой, полной земли
и ила, после этого работали до темноты. Ужинали тем же, что в обед, и спали
на земле, вследствие чего многие заболевали и умирали. Умерло также много
женщин и детей, так как их некому было обеспечить пищей8.
Лас Касас назвал и другие сферы хозяйства, где эксплуатировался труд або-
ригенов. Они переносили грузы (как он написал, тягловыми животными были
сами индейцы), вес которых был в две-две с половиной арробы9 и больше, на
расстояние от 40 до 150 лиг. И им, как и работникам приисков, почти не давали
еды. Их посылали на ремонт дорог, также недостаточно снабжая пищей. Ин-
дейцы были и гребцами судов (barcos), которые ходили на расстояния от 50 до
100 лиг; и, так как их практически не кормили, они умирали от голода. Нарушая
королевские распоряжения, индейцев заставляли работать в праздники и вос-
кресенья, а если случались свободные дни, они бродили в поисках пищи и, как
заметил Лас Касас, в то время, когда они должны были отдыхать, они умирали.
Испанцы забирали местных женщин и держали их как наложниц, жестоко об-
ращаясь с ними10 (Las Casas 1958: 3-4). С Кубы шло снабжение испанцев, посе-
лившихся в недавно основанной на материке Кастилии - дель-Оро, и на острове
были хозяйства, где выращивали свиней и делали хлеб из маниоки на вывоз
(CDI 1891. T. 6: 5; Las Casas 1951. T. III: 258). Там тоже должны были трудиться
индейцы, единственная рабочая сила на острове на тот период времени. От не-
привычного и непосильного труда аборигены старались бежать, но их пресле-
довали, ловили и наказывали. Лас Касас писал, что от бессилия и отчаяния они
целыми семьями вешались и травились (Las Casas 1951. T. III: 103-104).
В 1512 г. в Испании были приняты “Законы Бургоса”, которые должны были
привести в норму эксплуатацию аборигенов испанцами. Законы регламентиро-
вали все аспекты жизни аборигенов, трансформируя большую их часть: труд,
жилье, пищу, социальную структуру, семью и верования (Konetzke 1953: 38-57).
Но эти законы не остановили падение численности аборигенов на островах, в
том числе на Кубе. Помимо названных голода и чрезмерного труда, демографы
отмечали эпидемии, самоубийства, высокую детскую смертность, вывоз абори-
генов в другие земли и некоторые другие факторы (Pérez de la Riva 1972: 78-83).
Индейцы энкомьенды
На Эспаньоле сложилась практика разделения индейцев, предоставляемых
колонистам короной, на две основные категории: “индейцы касика” и “набо-
рии”. Первые, когда не работали на хозяина-испанца, оставались под властью
своего касика и проживали в своем поселении. Вторые по разным причинам
находились в полном распоряжении своего испанского хозяина и обитали на
территории его двора в испанском поселении или в поместье (Александренков
2017). В первые годы оккупации Кубы аборигены вручались во владение од-
ному человеку преимущественно целыми поселениями, хотя были и вручения
другого рода, в том числе одно поселение двум колонистам. Со временем, осо-
бенно при смене правителей острова или при необходимости предоставить эн-
комьенду новым поселенцам, имели место передел и дробление энкомьенд11.
Энкомендированные переходили от одного хозяина к другому, что, как неодно-
184
Этнографическое обозрение № 6, 2022
кратно отмечали современники, усиливало их эксплуатацию и влекло за собой
уменьшение общего числа аборигенов.
В 1524 г. умер первый испанский правитель Кубы, Диего Веласкес, что
вызвало не контролируемое короной перераспределение энкомьенд. Ново-
му правителю, Гонсало де Гусману, предписывалось заняться разделения-
ми, основываясь на прежних королевских распоряжениях (CDI 1885. T. 1:
342-344). К 1530 г. относится документ об энкомьендах индейцев Кубы, кото-
рые имели место с 1526 по 1530 г. В нем упомянуты 19 индейских поселений:
Gvayguano, Guamayabon, Manymano, Salamanca, Yaguayhay, Aguahay, Sevylla,
Guerayo, Tinama, Aguaycanama, Guanabacoa, Aguayguano, Canareo (или Canaria),
Hubahaybana, Sanlucar, Guruyguanico, Ana, Mayar, Canabacoa. Большая часть назва-
ний - индейские и, видимо, населенные пункты с этими названиями появились до
прихода испанцев. Саламанка, Севилья, Канария, Санлукар - испанские слова и,
возможно, эти поселения были образованы в соответствии с “Законами Бургоса”,
но в источниках я не нашел упоминаний об этом. Некоторые поселения названы
без упоминания касиков. Обращают на себя также внимание неоднократные пожа-
лования индейцев без указания их касика или поселения, что можно рассматривать
как свидетельство исчезновения (в любом случае, ослабления) института касиков.
Также в документе иногда речь шла о двух категориях индейцев, различе-
ние которых было обязательным для испанцев полтора десятилетия ранее -
“индейцы касика” и “домашние набории”. Иногда это различие выражалось как
“индейцы разделения” и “домашние набории”. Но в большинстве случаев гово-
рилось об “индейцах” и “набориях”. В цитируемом перечне явственен неодно-
кратный переход отдельных лиц, нескольких человек, поселения целиком или
его части от одних испанцев-пользователей к другим. Этот фактор не только
способствовал усилению эксплуатации аборигенов, но и разрушал остатки об-
щинных структур и связей. Сокращалось число касиков. Уже в некоторых до-
кументах 1520-х годов говорилось об “индейцах поселений”, а не об “индейцах
касиков”. Должно было уменьшаться и количество индейских поселений.
На Кубе, как и на Эспаньоле и на Сан-Хуане, корона намеревалась создать
поселения аборигенов, свободных от энкомьенды. В ряде королевских грамот,
начиная с правления Овандо (1502-1509), шла речь об индейцах, которые могли
бы жить без попечительства испанцев, хоть и под их присмотром. В грамоте от
декабря 1525 г. на имя вице-провинциала доминиканского ордена в Индиях гово-
рилось, что всегда целью королей было освобождение индейцев, чтобы они жили
цивилизованно, были привлечены к католической вере и освобождены от работ, -
чтобы сохранялись и множились, а не уменьшались в числе. Поэтому те индейцы,
которые по каким-то причинам не были энкомендированы, должны были быть
освобождены, и им следовало определить их занятия и подати (Konetzke 1953: 79).
В сентябре 1526 г. аналогичная грамота была составлена относительно
Кубы. Испанские поселенцы острова были против освобождения даже части
индейцев. И обосновывали это тем, что, будучи свободными, те примкнут к
бунтовщикам, которых, как утверждали колонисты, было большинство, убьют
испанцев и “вернутся к порокам идолопоклонства”. Высказывалось также опа-
сение, что испанцы, лишенные индейцев, уйдут в другие земли, и Кубу при-
дется завоевывать заново (Ibid.: 84-85). Рохас утверждал, что индейцы могут
достичь чего-либо хорошего только под страхом и принуждением и не способ-
ны жить самостоятельно (CDI 2 1888. T. 4: 400-402). Гусман, другой правитель
Кубы (в то время уже бывший), в письме королеве, датированном апрелем 1537
г., возражая против предоставления индейцам четырехмесячного перерыва в
работах на испанцев (преимущественно на приисках), обосновывал это тем,
что в тот период они совершали безрассудные поступки (desvarios) - некоторые
Александренков Э.Г. “Гуанахатабеи”, “сибонеи”, “индейцы”: аборигены Кубы....
185
задумывали побеги, другие совершали самоубийства. В этот перерыв они соби-
рались на ареито, проходя до назначенного места 50-60 лиг (Гусман писал об
индейцах испанских усадеб в Сантьяго). По словам Гусмана, ареито редко об-
ходились без многих смертей. Находясь же на рудниках или занимаясь другими
работами, индейцы становились толстыми и ухоженными, утверждал Гусман
(Ibid.: 423-424)12. Корона настаивала на проведении опыта по освобождению
индейцев от энкомьенды (Papeles 1931: 132-135). Это противостояние длилось
несколько лет. Наконец, поселение было основано в районе Баямо, переживало
разные периоды, и к началу 1540 г. в нем насчитывалось не более 10 человек
(CDI 1891. T. 6: 139).
В 1530-е годы на Кубе насчитывалось от 4,5 до 5 тыс. индейцев, (цифры
приведены на основе данных, предоставленных королевским чиновником, быв-
шим на Кубе в 1532 г.). По его подсчетам, на острове находилось почти 500
рабов-“негров”13; сведений о количестве проживавших там испанцев у него не
было (CDI 1888. T. 4: 252). Большая часть индейцев, как и в доколониальный
период, была, очевидно, сосредоточена в восточной части острова. Губернатор
Рохас, докладывая о проведенной им инспекции острова в 1534 г., утверждал,
что в Тринидаде и Санкти-Спиритус (это центральная часть острова), индейцы
репартимьенто (разделения местных) уже “почти закончились”, и испанцы там
жили за счет труда привозных индейцев-рабов (Ibid.: 336).
В документе 1532 г., содержавшем обвинения против бывшего губернатора,
при неоднократном упоминании энкомендированных индейцев (разной числен-
ности) гораздо реже названы набории (Ibid.: 202-235). В списке испанцев весино
Тринидада и Санкти-Спиритус, составленном Рохасом, где были перечислены на-
ходившиеся в энкомьенде аборигены (наряду с рабами из Африки), которыми рас-
полагал каждый испанец, энкомендированные названы одним словом -“индейцы”.
Отсутствие деления на “индейцев касика” и “наборий” говорит, видимо, о том, что
подобное разграничение утеряло свою значимость по причине отсутствия индей-
цев касиков и, видимо, самих касиков. Более значимым стало разграничение между
местными энкомендированными индейцами и индейцами-рабами, в большинстве
своем привозными. Это разграничение могло быть выражено по-разному: “местные
индейцы” (yndios naturales) и “индейцы-рабы” (esclavos yndios) (Ibid.: 283), “индей-
цы” и “индейцы-рабы”, среди которых иногда различались местные и привозные
(Zerquera y Fernández de Lara 1977: 80). В то время аборигены Кубы в большинстве
своем не знали языка своих хозяев. Известно, по крайней мере, что губернатор
Рохас в один из эпизодов своего похода по острову общался с ними через переводчика
(CDI 1888. T. 4: 324).
Сопротивление индейцев испанскому господству
1520-1540-е годы на Кубе - время активного сопротивления аборигенов ис-
панским колонистам, начало которого историки иногда связывают со смертью
Веласкеса. На самом деле, первые стычки с беглыми кайо были еще при этом
губернаторе. Они разорили усадьбу предводителя испанцев, убили двух испан-
цев и увели много местных индейцев. Карательные меры со стороны властей
включали смерть для сопротивлявшихся, а для остальных - разные меры нака-
зания. Плененных предводителей следовало казнить - там, где это послужило
бы уроком для других, как сказано в документе (Papeles 1931: 89-92).
Кубинский историк Ф. Пичардо Мойя выявил три группы восстаний индей-
цев Кубы и связал их с обитателями определенных областей. С 1523 по 1530 г.
испанцев тревожили кайо, о которых речь шла выше. Восстания 1524-1532 и
1538-1544 гг. имели место на самом востоке острова - от мыса Маиси к западу
186
Этнографическое обозрение № 6, 2022
до Сантьяго (на юге) и Баракоа (на севере); обитателей этого региона Пичардо
Мойя назвал таинами (Pichardo Moya 1945: 13). Ничего похожего не было в
центральных областях острова и на западе, хотя в районе Тринидада и Гаваны
какое-то время были лагеря беглых (Ibarra 1976: 65).
Действия непокорных имели разные формы и масштабы - от нападений на
одиноких испанцев и их индейцев до разорения усадеб, сожжения жилищ и
убийства скота. Для борьбы с ними создавались специальные отряды, которые
преследовали бунтовщиков. Тех, кто не бежал, убивали или пленили, чтобы за-
тем казнить (CDI 1885. T. 1: 152; CDI 1888. T. 4: 164-165). С 1530 г. в провинции
Баракоа стал известен Гуама, в подчинении у которого было несколько десят-
ков человек (CDI 1888. T. 4: 168, 254). Только в январе 1533 г. в метрополию
сообщили, что большая часть его людей была убита (Ibid.: 308). Через два года
губернатор Мануэль Рохас докладывал королю, что земля “замирена” от беглых
индейцев (их он назвал симарронами), хотя в некоторых местах они остались,
не причиняя вреда (Ibid.: 371, 385-386).
Известны были и пассивные формы сопротивления, в том числе такие, как
самоубийство. В 1522 г. на Кубе состоялось судебное разбирательство по об-
винению одного из первых конкистадоров Кубы Васко Поркальо де Фигероа,
которому вменялось насилие по отношению к его индейцам. Поркальо признал,
что трем взрослым индейцам и одному подростку он велел отрубить яички и
члены. Взрослых он заставил есть эту плоть, обмазанную землей, а затем ве-
лел их сжечь. Были сожжены и еще двенадцать человек, “которые, по словам
Поркальо, ели землю”. Поркальо объяснил свое решение тем, что в некоторых
землях Кубы умирало до половины индейцев из-за поедания ими земли, и он
хотел предотвратить это (CDI 1885. T. 1: 124-125).
Что касается бунтов, то их причиной сами испанцы считали плохое обращение
хозяев со своими индейцами. Бунты усилились, когда в 1539 г. губернатор Эрнан-
до де Сото ушел во Флориду, уведя многих местных испанцев, в том числе Васко
Поркальо, которого индейцы боялись (CDI 1891. T. 6: 48-50, 58). Колонистам ста-
ло известно, что индейцы, как беглые, так и мирные, пели на ареито, что испан-
цы долго не продержатся, так как остались только больные и слабые (Ibid.: 95).
Против симарронов местные власти направляли специально созданные от-
ряды, в которых, помимо испанцев, были “негры” и индейцы (Ibid.: 75-77).
1541 г. знаменателен тем, что в этом году отряд для преследования беглых состо-
ял только из индейцев, и его возглавлял индеец. Среди 24 человек отряда были
аборигены, находившиеся “на свободе” (т.е., видимо, из поселения-“опыта”), а
также “хорошие”, выбранные из тех, что были у испанцев (в энкомьенде). Они
получили снаряжение и, прочесывая остров, как сказано в источнике, наткну-
лись на лагерь беглых. Было убито 16 мужчин, столько же мужчин и женщин
было схвачено, какая-то часть ушла. Пленных привели в Сантьяго, где их каз-
нили. Из другого документа известно, что правые руки убитых предъявлялись
как свидетельство их смерти. Все члены этого отряда получили много почестей и
хорошую плату за работу, чем они, по словам авторов документа, остались очень
довольны и выразили желание впредь ее исполнять (Ibid.: 175; 223). Активная
борьба коренных обитателей острова с испанцами прекратилась в 1540-х годах -
судя по тому, что позже о ней не говорилось в документах14.
“Новые законы” и индейцы Кубы
В последовавшие несколько лет в метрополии индейцы Кубы не были глав-
ными действующими лицами, хотя решалась их судьба. В метрополии завер-
шалась тяжба между противниками энкомьенды и ее защитниками. На засе-
Александренков Э.Г. “Гуанахатабеи”, “сибонеи”, “индейцы”: аборигены Кубы....
187
даниях Хунты, обсуждавшей с мая по ноябрь 1542 г. вопросы энкомьенды в
испанских колониях, большинство высказалось за ее отмену, и 20 ноября 1542 г.
были подписаны законы, получившие название “Новых” (Morales Padrón 1979:
422). Примечательно, что об индейцах островов Сан-Хуан, Куба и Эспаньола
в законах говорилось отдельно15. Повелевалось не беспокоить их податями и
службами бóльшими, чем тамошних испанцев, и “оставить их отдыхать” (se
dejen holgar) - чтобы они множились и были наставляемы в католической вере
(Konetzke 1953: 216-220). Как и в случае с “опытом”, колонисты Кубы, лишав-
шиеся рабочих рук, были против освобождения индейцев. На их стороне ока-
зались духовные власти. Так, епископ полагал, что индейцев нельзя будет на-
ставлять в вере, так как они займутся ареито и предадутся порокам и разврату.
В течение четырех месяцев отдыха индейцы, по словам епископа, только этим и
занимаются, а также бродят и ловят рыбу в реках, и за это время забывают все,
чему были научены за восемь месяцев работы (CDI 1891. T. 6: 184).
Ко времени противостояния колонистов Кубы применению “Новых зако-
нов” и отмене рабовладения и энкомьенды относится отчет епископа Сармьен-
то о его инспекционном обходе острова, который дает некоторое представление
о составе населения острова в целом. Вот какова названная им численность
разных групп жителей в различных частях Кубы: Баямо - 30 весино (испанцев),
женатых и в брачном возрасте, 400 индейцев наборий (т.е. местных, энкомен-
дированных), около 200 “негров”; Пуэрто дель Принсипе - 14 весино, 235 энко-
мендированных индейцев, 160 рабов (“негров” и индейцев); Савана (поселение
Васко Поркальо) - 80 индейцев (набориев и уроженцев Кубы), 120 “негров”-ра-
бов; Санкти-Спиритус - 18 женатых весино16; Гавана - 40 весино, 120 набориев
и 200 рабов, индейцев и “негров” (Ibid.: 228-232). Епископ не назвал количество
индейцев и рабов в Сантьяго, хотя несколько раз упоминал о них. Не назвал он
и количество индейцев в Тринидаде, так как он туда не ходил по той причине,
что там не жили весино-испанцы17. Не назван им и Баракоа. Также не упомянул
он ни одного индейского поселения, которые еще должны были существовать в
то время. Видимо, их обитатели приписывались к испанским вильям, которые
были административными единицами. Какое-то число индейцев, как энкомен-
дированных, так и рабов, могло обитать в самих испанских поселениях.
О жизни индейцев Кубы перед отменой энкомьенды и рабства известно не-
много. Наибольшее количество информации доступно об их работе на золотых
приисках, о которой писали как противники, так и защитники энкомьенды. Ин-
дейцы исполняли также другие работы в разных хозяйствах испанцев - жен-
щины выпекали касабе, мужчины обрабатывали землю и, вероятно, пасли скот.
Эти процессы не описаны, и почти ничего не известно об их домашней жизни.
Сармьенто упоминал о вознаграждении энкомендированных индейцев за труд
одеждой (эта форма поощрения называлась, видимо, индейским словом какона) -
в одних местах оно осуществлялось регулярно, в других - нет. При этом епи-
скоп написал, что для самих индейцев не имеет значения, надета ли на них
одежда или нет.
К этому времени не была достигнута одна из главных целей короны - при-
общить аборигенов к католической вере. Христианизация могла быть более
успешной среди аборигенов, живших с хозяевами в испанских поселениях.
Так, согласно Сармьенто, в монастыре г. Сантьяго “всех индейцев и негров”
собирали по праздничным дням и рассказывали им о христианской доктрине.
По-другому дело обстояло в глубинке. По словам того же Сармьенто, он и
настоятель францисканского монастыря в Сантьяго несколько раз посылали
одного монаха во внутренние районы, и это не принесло результата - индей-
цы бежали. Был послан второй монах, который вернулся, побывав у индейцев
188
Этнографическое обозрение № 6, 2022
Баямо и Пуэрто-Принсипе. Сармьенто не описал его деятельность, но отметил,
что тот “ревностен в обращении индейцев”. Сармьенто сообщил также, что
старается, чтобы энкомендеро обучали индейцев доктрине, но “это на них про-
изводит мало впечатления” (CDI 1891. T. 6: 224). Лишь относительно Поркальо
он написал, что его капеллан наставлял индейцев и рабов, при этом Порка-
льо заботился о наставлении лишь тех индейцев, которые работали в его доме.
Индейцы Баямо, утверждал епископ, мало склонны к делам веры. Несколько
лет спустя (1546 г.) губернатор Чавес сообщил королю, что он велел приве-
сти к нему индейцев, которые лучше остальных владеют кастильским языком,
и спрашивал их о “христианских вещах” (сosas de cristianos). Оказалось, что
“они так далеки от них, как если бы о них не знали”. Губернатор был уве-
рен, что причиной было не плохое наставление индейцев, а их малое желание
(узнать) дела веры (Ibid.: 270-271).
К тому времени, видимо, окончательно исчезли (или утратили свой автори-
тет) касики - они перестали упоминаться в документах.
В 1549 г. новый губернатор острова Гонсало Перес де Ангуло распорядился
огласить королевскую грамоту об освобождении местных (т.е. энкомендирован-
ных) индейцев, а также индейцев-рабов (Ibid.: 312-313). Освобождение энкомен-
дированных, хотя и вызвало протесты, было, видимо, осуществлено, а освобо-
ждение рабов затянулось из-за сопротивления местных властей. С ноября 1552 г.
по август 1553 г. были освобождены индейцы-рабы на всей территории острова
(Ibid.: 335, 356-357). Похоже, что в эти годы статус свободного индейца не давал
ему заметного преимущества перед индейцем-рабом. Так, в январе 1552 г. город-
ской совет Гаваны постановил наказывать 200 ударами плетью (azotes) индейца,
свободного или раба, севшего на лошадь или в лодку. При повторном нарушении
запрета нарушителю следовало вдобавок отрезать ухо (Marrero 1972: 221).
Согласно Пересу де ла Рива, на Кубе были освобождены 1800 местных ин-
дейцев (т.е. бывших в энкомьенде) и 200 - привезенных с материка (рабов).
Он считал также, что на острове могло быть несколько тысяч беглых; в целом
же общее количество индейцев могло составлять 5 тыс. человек (Perez de la
Riva 1972: 77-78)18. Кубинский географ и историк Леви Марреро считал, что
в середине XVI в. на острове проживало около 220 испанских весино, а также
около 700 рабов-“негров” и около 1000 индейцев (Marrero 1972: 158). Таков
был демографический результат намерений испанской короны, неоднократно
оглашенных в разного рода документах, - привести аборигенов острова к циви-
лизованной жизни. Что касается социального аспекта, то после провозглашения
“Новых законов” исчезли разные категории аборигенов - “индейцы касика”,
“индейцы репартимьенто”, “индейцы пуэбло”, “местные индейцы”, “набории”
и “индейцы-рабы” (включая привозных). Остались только “индейцы”.
Образование “поселений индейцев”
После выхода из-под опеки энкомьенды и освобождения от рабства большая
часть индейцев, видимо, оказалась предоставлена сама себе. “Новые законы” не
предписывали предоставления земли освобождаемым, и те из них, кто не оста-
лись в работниках у своего прежнего хозяина, вынуждены были “бродить” (vagar,
по терминологии источников того времени). Неясна судьба немногих поселений
индейцев (pueblo de indios)19 Кубы, которые, кажется, существовали в период
“освобождения” и последовавших нескольких лет до появления соответствующих
королевских распоряжений. Законом от июля 1552 г. разрешалось индейцев, не за-
нятых своими делами (названы ремесленники и землепашцы), принуждать к тому,
чтобы они не бездельничали (Recopilación 1841: Libro 6, título I, ley XXI).
Александренков Э.Г. “Гуанахатабеи”, “сибонеи”, “индейцы”: аборигены Кубы....
189
В 1546 г. по королевскому распоряжению было созвано собрание из чле-
нов Совета Индий, монахов и церковных иерархов Новой Испании. На нем
было решено свести индейцев в поселения там, где это еще не было сделано.
Соответствующий закон назывался Que los indios sean reducidos á poblaciones
(“Чтобы индейцы были сведены в поселения”), он датирован 21 марта 1553 г.
(Recopilación 1841: Libro 6, título 3, ley I). В нем не говорилось об отношении
индейских поселений к земле. Не было и положения о самоуправлении этих
поселений (оно появилось только в 1618 г.).
На Кубе поселение индейцев было образовано 12 июня 1554 г. в Гуанаба-
коа, чтобы разместить “бродивших по полям” индейцев для их доктринации и
приведения к гражданской жизни. Это намерение было зафиксировано в актах
кабильдо (городского совета) Гаваны, в юрисдикцию которой входила Гуанаба-
коа (Arrate 1964: 38). Городской совет Гаваны занимался делами жителей Гуана-
бакоа, в том числе таким важным, как наделение землей (Azcárate Rosell 1937:
239; Marrero 1974: 77-78).
Кубинский историк Х. Ле Риверенд считал, что, в соответствии с “Новы-
ми законами”, все индейцы имели право на весиндад (статус весино), на зем-
ли для двора и другие земельные пожалования (Le Riverend 1960: 63). По-
добного пункта в этих законах не было20, но в актах кабильдо Гаваны более
позднего времени зафиксированы просьбы индейцев о предоставлении им зе-
мельных участков (в поселении или за его границами) и об удовлетворении этих
просьб. С 1550 по 1578 г. в Гаване для городских дворов (solares) получили земли
10 индейцев21. Будучи весино Гаваны, индеец Алонсо Гуанахо участвовал в вы-
борах городского совета Гаваны (Zayas y Alfonso 1931: 45) и нес дозорную служ-
бу (Marrero 1974: 77). По сведениям, собранным Л. Марреро, в одно время с
Гуанабакоа были основаны поселения индейцев в районе г. Сантьяго-де-Куба
(Ibid.: 352-353). Жители индейских поселений восточных областей острова испра-
шивали земли преимущественно для возделывания сельскохозяйственных культур,
но у некоторых были земли для ухода за скотом. Поселения располагали также
землями, где пасся одичавший скот, который разрешалось забивать (Ibid.: 77).
Со временем некоторые из индейцев Кубы стали себя явно позиционировать
не только как жители определенного поселения, но и как граждане острова.
Так, в 1562 г. представители жителей Тринидад, где к тому времени почти два
десятка лет не было испанцев, в обращении к губернатору острова назвали себя
“индейцами Кубы, уроженцами вильи Тринидад” и выражали беспокойство о
судьбе всего острова (Zerquera y Fernández de la Lara 1977: 87). Их хозяйствен-
ные занятия не отличались от того, чем занимались их соседи, испанцы вильи
Санкти-Спиритус, - выращивание сельскохозяйственных культур и разведение
скота. Они так же, как испанцы, были христианами и просили епископа на-
значить им священника. Епископ, правда, нашел среди индейцев Тринидада
“столько суеверных церемоний и идолопоклонства, и тот демон гулял среди
них столь обычно и любезно, как он разгуливал сто лет назад”. Но в то время,
по его мнению, подчиняться церкви и обрядам веры было трудно убедить не
только индейцев, но и испанцев (Ibid.: 93, 91).
Индейцы, даже будучи весино того или иного поселения, в целом не стали
равными в правах испанцам. Это видно и по жалобам обитателей Тринидада на
своих соседей, испанцев из Санкти-Спиритус, и по постоянным жалобам жите-
лей Гуанабакоа на весино Гаваны.
Какая-то часть индейцев стала наемными работниками, занятыми в земле-
делии. Какое-то их число находилось вне поселений и вне испанских поместий,
о чем говорят неоднократные намерения властей и отдельных испанцев вто-
рой половины XVI в. собрать их, в частности, в Гуанабакоа (Arrate 1964: 37;
190
Этнографическое обозрение № 6, 2022
Marrero 1974: 77-78; Le Riverend Brusone 1960: 63). Еще оставались группы,
уклонявшиеся от контактов с испанцами. Видимо, в 1570-е годы несколько де-
сятков таких индейцев были схвачены испанцами в болотах на юге Матансас
(Urrutia y Montoya 1931. T. 2: 70-71).
Смешанное испано-индейское население острова
На Кубе быстро появились лица, отцы которых были испанцами, а матери -
индианками22. Начальный контингент испанцев на Кубе состоял преимуще-
ственно из мужчин, а подчиненное положение аборигенов позволяло держать
местных женщин сожительницами, будь то в качестве служанки или рабыни
(CDI 1888. T. 4: 339-340). За лицами смешанного происхождения, рожденны-
ми от таких союзов, закрепилось название “метисы”. Основным критерием для
применения этого названия к какому-то человеку, видимо, служило знание о
том, кто были его родителями. Уже к середине XVI в., как явствует из докумен-
тов, разграничение между “индейцами” и “метисами” могло быть не строгим.
Так, при описании событий 1555 г., связанных с захватом Гаваны французскими
пиратами, в составе защитников города были упомянуты “испанцы”, “негры” и
“индейцы” (CDI 1891. T. 6: 368, 370-371). В другом документе о них же говори-
лось как об “испанцах”, “метисах” и “неграх” (Ibid.: 390). Можно полагать, что
для некоторых испанцев различение “метисов” и “индейцев” не представлялось
важным. Со временем тенденция называть “индейцами” лиц индейско-испан-
ского происхождения становится все более явной.
По отчету епископа Хуана дель Кастильо об инспекции своей епархии в
1569-1570 гг. видно, что в поселении индейцев Лос-Канеес проживало 20 же-
натых индейцев, а в Гуанабакоа - 60. Все еще только индейцы обитали в Три-
нидаде, 50 были женаты. Весино-аборигены были также в испанских поселе-
ниях Саване (10 индейцев и 10 испанцев), Санкти-Спиритус (20 и 20), Баракоа
(17 индейцев и 8 испанцев) и Баямо (80 и 70) (Papeles 1931: 217-225). В этом
перечне нет “метисов” и, скорее всего, эти лица смешанного происхождения по-
пали в число “индейцев”, а некоторые, возможно, в число “испанцев”. В допол-
нении к сообщению епископа (сделанном, видимо, в метрополии), наоборот,
написано, что на острове не осталось индейцев, и большинство его населения
составляют “метисы” и “негры” (Ibid.: 226).
В “Ордонансах” 1574 г., составленных для управления Гаваной, в нескольких
статьях (в четырех из 88) упоминаются “индейцы”. Одна из них предписывала
учитывать интересы тех из них, что жили на землях, предоставляемых испанцам
(№ 79). Еще одна регламентировала продажу вина на том основании, что “индейцы
пьют вино очень беспорядочно, и по опыту видно, что, пока оно у них есть, они не
работают, ничем не занимаются” (Carrera y Justiz 1905: 263, 274, 287). В этих рас-
поряжениях, как и в отчете епископа Кастильо, не упоминались “метисы”.
На рубеже XVI-XVII вв. в церквах появились записи крещений, браков и
смертей отдельно для “испанцев”, “негров”, “мулатов” и “индейцев”. Тогда же
стали создаваться и церковные общины из этих категорий населения и, нако-
нец, - отряды ополченцев (Leiseca 1938: 44; Franco 1985: 135-136; Deschamps
Chapeau 1976: 20). “Метисы” в этих институтах не фигурировали. Скорее всего,
население смешанного индейско-испанского происхождения светскими и ду-
ховными властями было относимо к категории “индейцев” - возможно, в силу
его малочисленности. Метисы не могли расти в числе, так как постоянно умень-
шалось число самих индейцев. Число метисов могло лишь уменьшаться за счет
того, что при их последующих браках с испанцами (позже - “белыми”) потомки
подобных браков могли восприниматься как испанцы (“белые”) (Pichardo Moya
Александренков Э.Г. “Гуанахатабеи”, “сибонеи”, “индейцы”: аборигены Кубы....
191
1945: 17). Другой вектор уменьшения возможности индейско-испанской мети-
сации - брачные отношения индейских женщин и метисок с “неграми”.
В начале XVII в. епископ Кубы назвал только два поселения индейцев,
Гуанабакоа и Баракоа. Обитатели первого из них, по его словам, были “напо-
ловину обиспаненными”, а второго - “обиспанены”. Индейцы, по сведениям
епископа, были также в Пуэрто-Принсипе, Баямо и Сантьяго-де-Куба, где они
жили в пригородах отдельными кварталами и тоже были “как обиспаненные”
(como epañolados) (цит. по: Marrero 1976: 14-15). Отчет другого епископа, на-
писанный в 1620 г., отметил дальнейшее уменьшение числа индейцев или их
исчезновение в некоторых поселениях. Там же епископ написал: “…нет больше
индейцев на этом острове, что были бы настоящими индейцами, а лишь не-
многие, что я упомянул, они в каждом поселении уже смешаны с испанцами.
С ними обращаются так же, как с остальными испанцами, и так же их наставля-
ют” (Documentos 1973: 574).
Очевидно, что слова двух епископов свидетельствуют о том, что в их время эт-
ноним “индейцы” употреблялся по отношению к лицам смешанного происхожде-
ния, говоривших на испанском языке и исповедовавших католическую религию.
*
*
*
На протяжении последующих столетий компактные группы людей, назы-
ваемых и называвших себя “индейцами”, сохранялись на Кубе, главным об-
разом за счет наличия трех официально учрежденных “поселений индейцев”.
Помимо Гуанабакоа на западе, это были Эль-Каней (или Сан-Луис-де-лос-Ка-
неес), ставшее таковым в 1618 г., и Хигуани, образованное в 1701 г. (оба - на
востоке острова). Гуанабакоа утратила этот статус в 1743 г., Хигуани - в 1837,
а Эль-Каней - в середине XIX в. (Александренков 2018: 296, 306-307). На вос-
токе острова упразднение “поселений индейцев” привело к их исходу в дру-
гие, относительно недоступные места, где они сохранили свою “индейскую”
самоидентификацию. Потомков этих людей смогли изучить в XX в. физические
антропологи (Pospíšil 1976; Rivero de la Calle 1978).
Использование слова “индейцы” (indios и др. на разных языках) для обо-
значения коренных обитателей Америки давно уже подвергается критике,
будучи рассматриваемо как наследие колониального прошлого континента
(Bonfil Batalla 1972). Полагаю, что следует различать разные контексты исполь-
зования этого слова. Изначально и последовательно оно применялось колони-
альными властями, хронистами, исследователями и другими (т.е. внешними
наблюдателями) по отношению к коренным обитателям Америки в целом или к
их отдельным этносам и группам (с добавлением их названия - например, “ин-
дейцы куна” и др.). В этом случае оно являлось и является экзонимом, и от него
можно отказаться. В случае с Кубой ситуация другая - как показано в статье,
слово indios стало использоваться и как самоназвание, т.е. стало эндонимом.
Более того, к середине XVII в. этим словом стали называться люди смешанного
происхождения, культура которых была отлична от культуры аборигенов начала
XVI в. - в языковой, социальной и религиозной сферах.
Примечания
1 Словом “касик” (cacique) испанцы называли местных предводителей раз-
ного уровня - как вождей, под чьей властью находились обширные территории
с многочисленным населением и которых испанцы именовали “великими каси-
ками” или “королями”, так и тех, кто стоял во главе поселений разной величины.
192
Этнографическое обозрение № 6, 2022
2 На Эспаньоле с 1502 по 1509 г. правил Николас де Овандо, имевший титул
Комендадора Калатравы.
3 Лас Касас употребил слово pescar, которое в испанском языке означает
“ловить” (как рыбу, так и других обитателей водоемов).
4 Jardines - так со времени плаваний Колумба назывались острова у берегов
Кубы.
5 Эти острова по-испански именовались cayos. Их обитателями, видимо,
являются те, кого Лас Касас в 1516 г. назвал “индейцами Садов”.
6 Encomienda (вручение), синоним - repartimiento (разделение). Институт
приобрел окончательную форму в “Законах Бургоса” 1512 г., которыми предпи-
сывалось, что испанец, получивший работников в энкомьенду, мог располагать
ими по своему усмотрению и, в свою очередь, должен был приобщать их к хри-
стианской вере, вознаграждать за труд, а также обеспечивать пищей и одеждой.
7 В другом издании документа названы “семь тысяч душ” (CDI 1891. T. 6: 8).
8 В другой работе Лас Касас написал: по причине того, что у истощенных
матерей пропадало молоко, только за три месяца умерло 7 тыс. детей (Las Casas
1951. T. III: 91).
9 Арроба - мера веса; кастильская арроба равнялась приблизительно 11,5 кг.
10 Лас Касас утверждал, что захват местных женщин был обычным делом
для испанцев в Индиях (Las Casas 1951. T. II: 535).
11 Во второй половине 1520 г., после смерти прежнего энкомендеро, одна
треть индейцев и наборий поселения досталась его вдове, а остальные, числом
120, 45 и 4 человека, были вручены другим испанцам (CDI 1888. T. 4: 113-114).
12 Схожим образом через несколько лет высказался епископ Кубы (CDI 1891.
T. 6: 183-185).
13 Так тогда называли темнокожих рабов.
14 О борьбе аборигенов Кубы против испанцев см.: Ibarra 1976.
15 Ямайка не была названа, видимо, по той причине, что к тому времени чис-
ло проживавших там аборигенов было незначительным.
16 Епископ не был в Санкти-Спиритус и узнал о нем со слов его жителей.
Видимо, поэтому он не указал другие категории населения.
17 Испанцев там не было приблизительно с 1534 до 1570 г. (Zerquera y
Fernández de Lara 1977: 82, 85).
18 В завершении статьи автор назвал 5-6 тыс. (Perez de la Riva 1972: 82).
19 О такого рода поселениях говорилось в королевской грамоте для еписко-
па, датированной мартом 1541 г. (CDI 1891. T. 6: 158-159).
20 Лишь законом от 1 декабря 1573 г. предусматривалось, что вновь образо-
ванные поселения индейцев должны “располагать водами, землями” для возде-
лывания и для общинного выпаса (exido) и лесами (Recopilación 1841: Libro 6,
título 3, ley VIII).
21 Для сравнения, в тот же период: испанцы - 174, вдовы испанцев - 12,
свободные “негры” - 1, свободные “негритянки” - 6 (Marrero 1974: 82-83).
22 Не знаю ни одного случая из раннего колониального времени, когда брач-
ную пару составляли бы отец-индеец и мать-испанка.
Источники и материалы
Arrate 1964 - Arrate J.M.F. de. Llave del Nuevo Mundo. Antemural de las Indias
Occidentales. La Habana descripta: noticias de su fundación, aumentos y estados.
La Habana: Comisión Nacional de la UNESCO, 1964.
Azcárate Rosell 1937 - Azcárate Rosell R. Historia de los indios de Cuba. La Habana:
Editorial Trópico, 1937.
Александренков Э.Г. “Гуанахатабеи”, “сибонеи”, “индейцы”: аборигены Кубы....
193
Bernáldez 1875 - Bernáldez B.A. Historia de los Reyes Católicos. T. 2. Sevilla:
Imprenta que fué de D. José María Geofrin, 1875.
CDI 1869 - Colección de documentos inéditos, relativos al descubrimiento, conquista
y colonización de las posesiones españolas, sacados de los Archivos del Reino, y
muy especialmente del de Indias. T. XI. Madrid: Imprenta de J.M. Perez, 1869.
CDI 1885-1932 - Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento,
conquista y colonización de las antiguas posesiones españolas de Ultramar. Segunda
serie. T. 1-25. Madrid: Est. Tipográfico “Sucesores de Rivadeneyba”, 1885-1932.
Colón 1944 - Colón F. Historia del Almirante de las Indias don Cristobal Colón.
Buenos Aires: Editorial Bajel, 1944.
Colón 1961 - Colón Cr. Diario de navegación. La Habana: Publicación de la comisión
Nacional Cubana de la UNESCO, 1961.
Cuneo 1893 - Cuneo M. de. Lettera // Raccolta di documenti e studi pubblicati
dalla Reale Commissione Colombiana pel quarto centenario dalla scoperta
dell’America. P. III. Т. II. Roma: Il Ministero Della Publica Istruzione, 1893.
P. 95-107.
Documentos 1973 - Documentos para la historia de Cuba. T. I. La Habana: Editorial
de Ciencias Sociales, 1973.
Konetzke 1953 - Konetzke R. Colección de documentos para la historia de la
formación social de Hispanoamérica 1493-1810. Vol. I (1493-1592). Madrid:
Consejo Superior de Investígaciones Científicas, 1953.
Las Casas 1951 - Las Casas B. de. Historia de las Indias. T. I-III. México; Buenos
Aires: Fondo de Cultura Económica, 1951.
Las Casas 1958 - Las Casas B de. Obras escogidas, V. Opúsculos, cartas y memoriales.
Madrid: Ediciones Atlas, 1958.
Martyr D’Anghera 1912 - Martyr D’Anghera P. De Orbe Novo. The Eight decades
of Peter Martyr d’Anghera: 2 vols. Т. 1 // Translated from the Latin with Notes
and Introduction by Fr. A. MacNutt. N.Y.: The Knickerbocker Press, 1912.
Papeles 1931 - Papeles existentes en el Archivo General de Indias relativos a Cuba
y muy particularmente a la Habana. T. I (1512-1578). La Habana: Imprenta
“El Siglo XX”, 1931.
Recopilación 1841 - Recopilación de leyes de los reinos de las Indias. Tomo segundo.
Quinta edición. Marid: Boix editor, 1841.
Urrutia y Montoya 1931 - Urrutia y Montoya I.J. de. Teatro histórico, jurídico y
político militar de la isla Fernandina // Obras del doctor Ignacio José de Urrutia y
Montoya. T. 1-2. La Habana: Academia de la Historia de Cuba, 1931.
Zayas y Alfonso 1931 - Zayas y Alfonso A. Lexicografía antillana. Diccionario e
voces usadas por los aborígenes de las Antillas Mayores y de algunas de las
Menores y consideraciones de su significado y de su formación. T. II. Habana:
Tipos.-Molina y cia., 1931.
Научная литература
Александренков Э.Г. Аборигены Эспаньолы в отчете о разделении 1514-1515 гг. //
Этнографическое обозрение. 2017. № 2. С. 81-92.
Александренков Э.Г. Аборигены Больших Антильских островов в колониальном
обществе (конец XV - середина XVI вв.). М.: ИЭА РАН, 2018.
Bonfil Batalla G. El concepto de indio en América: Una categoría de la situación
colonial // Anales de Antropología. 1972. Vol. 9. P. 105-124. http://dx.doi.
org/10.22201/iia.24486221e.1972.0.23077
Carrera y Justiz F. Introducción a la historia de las instituciones locales de Cuba.
T. 2. Habana: La Moderna Poesia, 1905.
194
Этнографическое обозрение № 6, 2022
Deschamps Chapeau P. Los batallones de pardos y morenos libres. La Habana:
Editorial Arte y Literatura, 1976.
Franco J.L. Apuntes para una historia de la legislación y administración colonial en
Cuba (1511-1800). La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 1985.
Ibarra J. La gran sublevación india de 1520 a 1540 y la abolición de las encomiendas //
Santiago. Revista de la Universidad de Oriente. 1976. No. 22. P. 61-86.
Le Riverend Brusone J.J. La Habana (Biografía de una provincia). La Habana:
Academia de la Historia de Cuba, 1960.
Leiseca J.M. Apuntes para la historia eclesiástica de Cuba. La Habana: Talleres
tipográficas de Carasa y Cía, 1938.
Marrero L. Cuba: economía y sociedad. T. 1. Río Piedras: San Juan, 1972.
Marrero L. Cuba: economía y sociedad. T. 2. Madrid: Playor, 1974.
Marrero L. Cuba: economía y sociedad. T. 3. Madrid: Playor, 1976.
Morales Padrón Fr. Teoría y leyes de la conquista. Madrid: Edición cultura hispánica, 1979.
Pérez de la Riva J. Desaparición de la población indígena de Cuba // Universidad de
la Habana. 1972. Num. 196-197 (2-3). P. 61-84.
Pichardo Moya F. Los indios de Cuba en sus tiempos históricos. La Habana: Academia
de la Historia, 1945.
Pospíšil M. Indian Remnants from the Oriente Province, Cuba. Bratislava: Univerzita
Komenskeho pre Prirodoved, fak. UK v Bratislave, 1976.
Rivero de la Calle M. Supervivencia de descendientes indoamericanos en la zona
de Yateras, Oriente // Cuba Arqueológica. Santiago de Cuba: Editorial Oriente,
1978. P. 149-176.
Zerquera y Fernández de Lara C. La villa india de Trinidad en el siglo XVI // Revista
de la Biblioteca Nacional José Martí. 1977. Num. 2, Agosto. P. 71-94.
R e s e a r c h A r t i c l e
Aleksandrenkov, E.G. On “Guanahatabeys”, “Siboneys”, and “Indians”: The
Aborigines of Cuba in the 16th - First Half of the 17th Century [“Guanakhatabei”,
“sibonei”, “indeitsy”: aborigeny Kuby v XVI - pervoi polovine XVII v.]. Etnograficheskoe
EDN: MRVFZP ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute of
Ethnology and Anthropology RAS
Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (32a Leninsky
prospekt, Moscow, 119991, Russia)
Keywords
Cuba, Indians, Guanahatabeyes, Ciboneyes, encomienda, pueblo de indios
Abstract
In the available Spanish sources related to the period when Spain conquered and
colonized Cuba (the first quarter of the 16th century), there are but two words by
which various groups of the local population were addressed - Guanahatabeyes and
Ciboneyes. In the later periods, the Spanish did not use these ethnonyms and referred
to all natives as Indians. During the first colonization years, the numbers of native
residents of the island significantly decreased. Furthermore, they kept mixing with
the Spanish. In Cuba, however, a distinctive population category such as mestizo did
not take shape, and individuals of mixed ancestry would be uniformly called Indians
by the mid-17th century. Moreover, this word became a self-designation for a part,
Александренков Э.Г. “Гуанахатабеи”, “сибонеи”, “индейцы”: аборигены Кубы....
195
albeit small, of the island’s population. This article attempts to explore these historical
transformations which have not received enough attention in scholarly literature.
References
Aleksandrenkov, E.G. 2017. Aborigeny Espan’oly v otchete o razdelenii 1514-1515 gg.
[Española’s Natives in the Account of Repartimiento of 1514-1515]. Etnograficheskoe
obozrenie 2: 81-92.
Aleksandrenkov, E.G. 2018. Aborigeny Bol’shikh Antil’skikh ostrovov v kolonial’nom
obshchestve (konets XV - seredina XVI vv.) [Natives of the Greater Antilles in the
Colonial Society (Late 15th - Mid16th Centuries)]. Mosсow: IEA RAN.
Bonfil Batalla, G. 1972. El concepto de indio en América: Una categoría de la situación
colonial [The Concept of Indian in America: A Category of the Colonial situation]. Anales
Carrera y Justiz, F. 1905. Introducción a la historia de las instituciones locales de
Cuba [Introduction to the History of Cuba’s Local Institutions]. Vol. 2. Habana:
La Moderna Poesia.
Deschamps Chapeau, P. 1976. Los batallones de pardos y morenos libres [The
Battalions of Pardos and Free Morenos]. La Habana: Editorial Arte y Literatura.
Franco, J.L. 1985. Apuntes para una historia de la legislación y administración
colonial en Cuba (1511-1800) [Notes for a History of Colonial Legislation and
Administration in Cuba (1511-1800)]. La Habana: Editorial Ciencis Sociales.
Ibarra, J. 1976. La gran sublevación india de 1520 a 1540 y la abolición de las
encomiendas [The Great Indian Uprising of 1520 to 1540 and the Abolition of
Encomiendas]. Santiago. Revista de la Universidad de Oriente 22: 61-86.
Le Riverend Brusone, J.J. 1960. La Habana (Biografía de una provincia) [Havana
(Biography of a Province)]. La Habana: Academia de la Historia de Cuba.
Leiseca, J.M. 1938. Apuntes para la historia eclesiástica de Cuba [Notes for the
Ecclesiastical History of Cuba]. La Habana: Talleres tipográficas de Carasa y Cía.
Marrero, L. 1972. Cuba: economía y sociedad [Cuba: Economy and Society]. Vol. 1.
Río Piedras: San Juan.
Marrero, L. 1974. Cuba: economía y sociedad [Cuba: Economy and Society]. Vol. 2.
Madrid: Playor.
Marrero, L. 1976. Cuba: economía y sociedad [Cuba: Economy and Society]. Vol. 3.
Madrid: Playor.
Morales Padrón, Fr. 1979. Teoría y leyes de la conquista [Theory and Laws of
Conquest]. Madrid: Edición cultura hispánica.
Pérez de la Riva, J. 1972. Desaparición de la población indígena de Cuba [The
Disappearance of the Indigenous Population of Cuba]. Universidad de la Habana
196-197 (2-3): 61-84.
Pichardo Moya, F. 1945. Los indios de Cuba en sus tiempos históricos [The Indians
of Cuba in Their Historical Times]. La Habana: Academia de la Historia.
Pospíšil, M. 1976. Indian Remnants from the Oriente Province, Cuba. Bratislava:
Univerzita Komenskeho pre Prirodoved, fak. UK v Bratislave.
Rivero de la Calle, M. 1978. Supervivencia de descendientes indoamericanos en
la zona de Yateras, Oriente [Survival of Descendents of American Indians in
the Area of Yateras, Oriente]. In Cuba Arqueológica [Archaeological Cuba],
149-176. Santiago de Cuba: Editorial Oriente.
Zerquera y Fernández de Lara, C. 1977. La villa india de Trinidad en el siglo XVI
[The Indian Town of Trinidad in the 16th Century]. Revista de la Biblioteca
Nacional José Martí 2 (Agosto): 71-94.