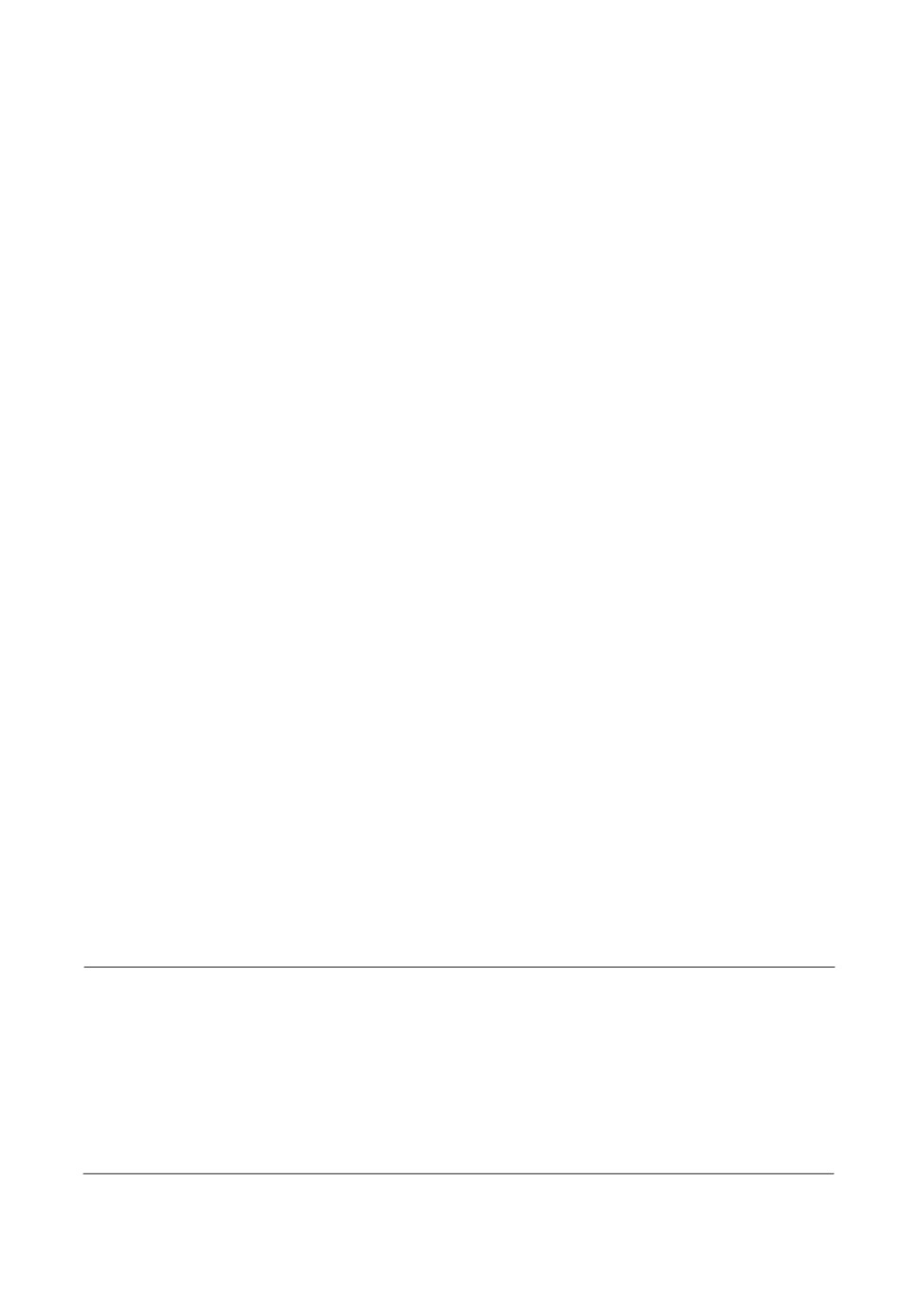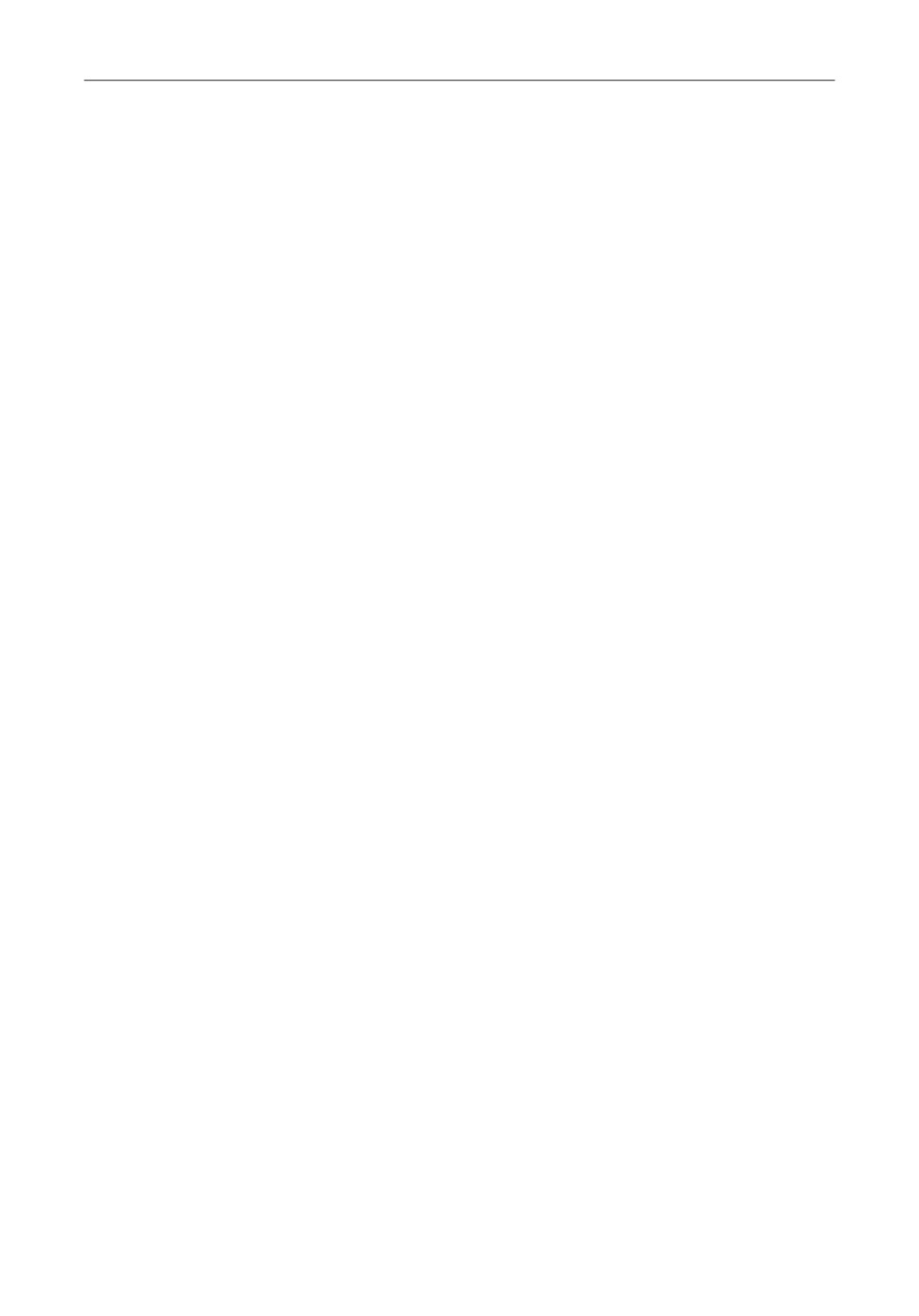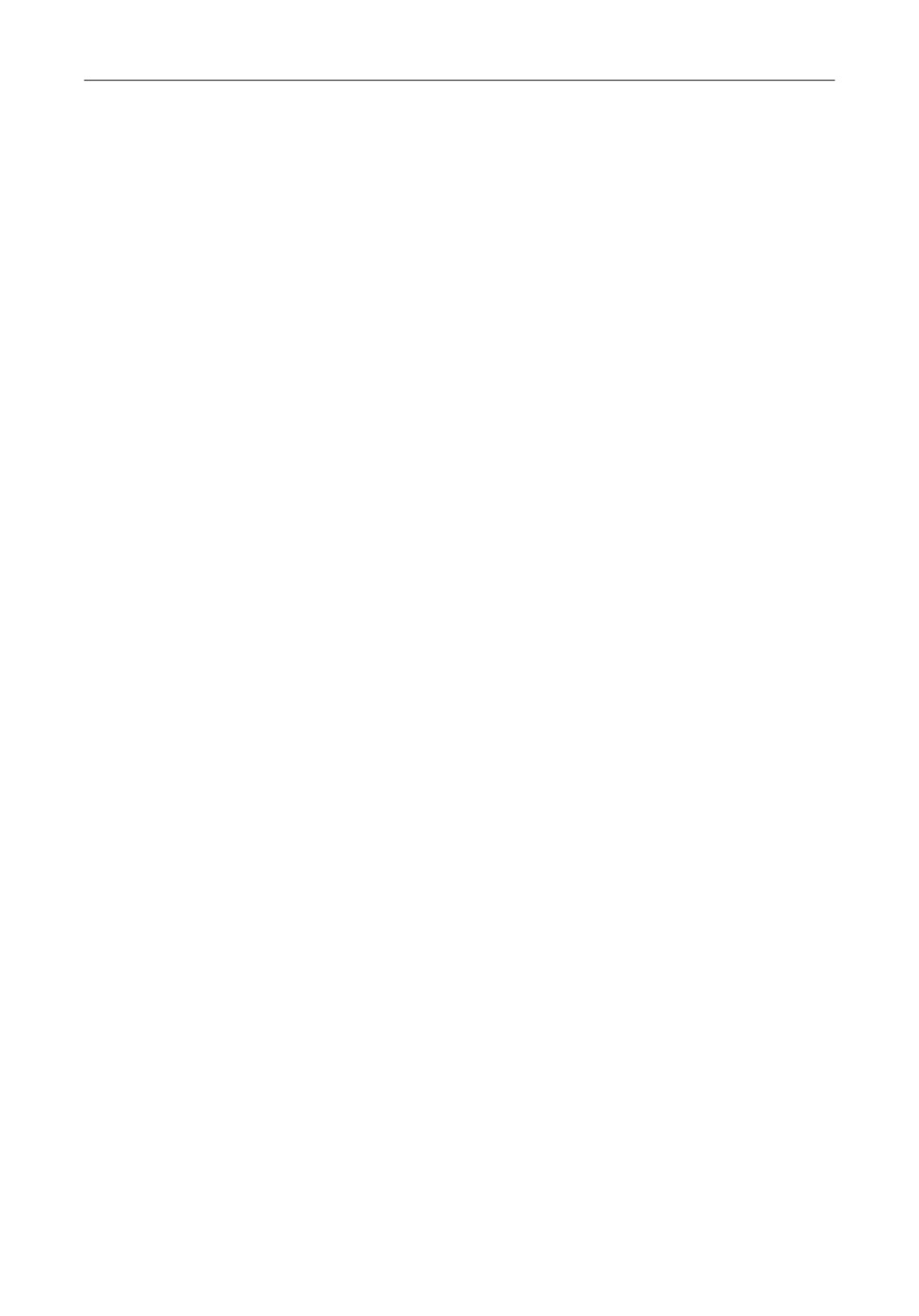ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
И ВОЗРОЖДЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА
В.А. Шнирельман
Виктор Александрович Шнирельман
|
|
shnirv@mail.ru | д. и. н., главный научный сотрудник | Институт этнологии и антро-
пологии РАН (Ленинский пр. 32а, Москва, 119991, Россия)
Ключевые слова
Северный Кавказ, казаки, бродники, травматическая память, национальное возрождение
Аннотация
Травматическая память, как правило, включает два компонента: воспоминания о недав-
ней трагедии и представления об утраченном золотом веке, т.е. виктимизация сочетается
с глорификацией, призванной компенсировать утрату с помощью символических обра-
зов. Эта двойственность рассматривается на примере казачества, в памяти которого отло-
жились как трагические события гражданской войны, в особенности выселение казаков,
так и апелляция к ранней истории, связанной с автохтонными предками и мечтами о сво-
ей собственной государственности. Однако казачья версия истории входила в конфликт
с образами истории у северокавказских народов, которые также подпитывались травма-
тической памятью. Сшибка разных памятей провоцировала территориальный конфликт.
Показано, как построения казачьих историков-эмигрантов влияли на постсоветских каза-
чьих историков.
Информация о финансовой поддержке
Исследование проведено при финансовой поддержке следующих организаций и грантов
адежно установлено, что терские и гребенские казаки начали формиро-
ваться к северу от Терека во второй половине XVI в. (Кушева 1963: 87;
Н
Коломиец 1994: 10; Трепавлов 1998: 7; Козлов 1996: 8-15). Терское ка-
зачье войско как часть военно-административной структуры на завоеванном
Россией Северном Кавказе было создано 19 ноября 1860 г. Для обеспечения
казаков землей местные власти вначале оттеснили чеченцев за Терек и в Малую
Кабарду, затем занялись насильственным переселением горцев на равнину и,
наконец, инициировали массовый уход горцев в Турцию (Ибрагимова 2002: 23,
38-40, 74-80, 84-125).
В 1960-1970-х годах в советской науке возникла тенденция отодвигать
рубеж формирования казачества дальше в прошлое. В Чечено-Ингушетии на-
Статья поступила 15.09.2022 | Окончательный вариант принят к публикации 25.11.2022
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Шнирельман В.А. Травматическая память и возрождение казачества // Этнографическое обозре-
Shnirelman, V.A. 2023. Travmaticheskaia pamiat’ i vozrozhdenie kazachestva [Traumatic Memory and the
EDN PMLYQN
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
Шнирельман В.А. Травматическая память и возрождение казачества
85
чало этому положил грозненский историк Н.П. Гриценко. Разделяя традицион-
ную версию о происхождении терских казаков от беглых крестьян, он относил
истоки этого процесса к первой половине XVI в. (Гриценко 1975: 26). Разраба-
тывая во второй половине 1970-х и начале 1980-х годов концепцию “доброволь-
ного вхождения” Чечено-Ингушетии в состав России, грозненский археолог В.Б.
Виноградов стремился еще больше углубить историю казаков в северокавказском
регионе. Подход Н.П. Гриценко его не устраивал, и он обратился к игнорировав-
шимся большинством историков смутным сообщениям русской летописи о не-
ких бродниках, известных в южных степях в домонгольскую эпоху.
Вопрос о бродниках уходит корнями в дореволюционную историографию
(Скорик 1992: 15-18, 1995: 12). Так, пытавшийся нативизировать в свое время
казаков самодеятельный казачий историк Е.П. Савельев прилагал все усилия
для того, чтобы представить их “остатками славяно-русского и алано-ясского
населения”, якобы сохранившегося в донских степях со времен Хазарии. В его
работе это население превращалось в “православных славяно-русов” (Савельев
1915: 174-176, 183). Позднее эту версию подхватил идеолог эмигрантов-каза-
ков, сплотившихся вокруг пражского журнала “Вольное казачество”, генерал
И.Ф. Быкадоров, товарищ председателя Казачьего Верховного Круга. Он с юно-
сти увлекался историей и даже удостоился чести быть избранным почетным
членом Императорского Археологического общества (Маркедонов 2001).
Казачьи “самостийники” представляли казаков особым народом и ставили
своей целью “восстановление своих государств-республик: Донской и Кубан-
ской” (Вольное казачество 1927). В соответствии с этим, И.Ф. Быкадоров до-
казывал, что основу донского казачества составили так наз. бродники, осколок
Приазовской Руси, сохранившийся на Среднем Дону. И.Ф. Быкадоров представ-
лял их особым христианским народом, сложившимся в Тмутараканском княже-
стве из смешения славян с народами Предкавказья, которых он поголовно запи-
сывал в тюрки. Он настаивал на том, что бродники имели свое государственное
устройство. По его словам, история с давних пор расколола “славяно-русов”
на три части: Юго-Западная Русь ориентировалась на Запад, Северо-Восточная
испытывала влияние финского мира, а Юго-Восточная развивалась в тесных
контактах с тюрками. Это создавало разные интересы, и неслучайно в июне
1223 г. в битве на р. Калке бродники выступили на стороне монголов против
русских князей, а в составе Золотой Орды получили статус военно-служилого
сословия и превратились в казаков (Быкадоров 1927: 14-15).
Сходную точку зрения отстаивал инженер С. Федоров в своих лекциях из
цикла “Казачья нация”, прочитанных в Украинской Государственной Академии
в Праге в 1925-1927 гг. Видя в казаках отдельный народ нерусского происхож-
дения, он отвергал все противоречившие этому построения русских историков,
обвиняя их в общероссийском национализме и желании нивелировать нацио-
нальное разнообразие. С. Федоров произвел целые разыскания в русской и зару-
бежной исторической литературе второй половины XVIII - начала XIX в., что-
бы выявить авторов, писавших о нерусском происхождении казачества. В итоге
он пытался выработать “черкесско-казачью теорию”, по которой казаки в виде
отдельного народа сложились из смешения русских с половцами, черкесами,
поляками и другими группами населения. Однако он подчеркивал их русский
язык и православную веру - ценности, с которыми ему нелегко было расстаться.
Мало того, С. Федоров подхватывал и популярные в Польше в XVII-XVIII вв.
мифы о сарматском или хазарском происхождении казаков. Профессиональных
историков он подозревал в выполнении социально-политического заказа и до-
86
Этнографическое обозрение № 1, 2023
верялся донаучным представлениям, находя там подтверждения своим взгля-
дам. Такие рассуждения он завершал выводом о том, что народный суверени-
тет требует воссоздать “исторически верную картину жизни наших предков”
(Федоров 1928а).
Опираясь на авторитет старых писателей, С. Федоров утверждал, что каза-
чество является особой этнической группой, особым народом, находящимся в
процессе переоформления в нацию. Он отдавал предпочтение психологическо-
му критерию этничности, говоря о том, что сами казаки мыслят себя отдельным
народом, а значит, так их и следует воспринимать (Федоров 1928б). Пытаясь
легитимировать право казаков на самостоятельную государственность, он, по-
добно Е.П. Савельеву и И.Ф. Быкадорову, апеллировал к образу Азовско-Черно-
морской Руси и настаивал на том, что бродники имели автономию еще в эпоху
Золотой Орды и утеряли ее в XV в. (Федоров 1928в).
Такие исторические нарративы получили некоторую популярность в среде
казачьей эмиграции. Отдельные атаманы обогащали их еще более неправдо-
подобными фантазиями. Так, И. Болдырев в 1931 г. доказывал, что в Подонье
и на Нижней Волге еще во II в. до н.э. был известен “казатский народ Рось”,
отличавшийся по языку от всех своих соседей. А его крещение произошло за
108 лет до крещения Киевской Руси (Болдырев 1931). Некоторые казаки догова-
ривались до того, что у их предков имелся свой особый “казачий Бог” (об этом
см.: Казачье самостийничество 1928), некоторые ограничивались указанием на
то, что первоначально казаки не были православными и говорили по-тюркски
(Буданов 1954-1958. Т. 2: 27).
Движение “самостийников” не нашло широкой поддержки в казачьих кругах
и в 1933-1934 гг. пережило глубокий кризис. Начало ему положил сам генерал
И.Ф. Быкадоров, признавший в ноябре 1931 г. малую эффективность пропаган-
ды “самостийничества” и открыто отказавшийся от идеи независимой Каза-
кии. Отвернувшись от И.Ф. Быкадорова, его бывшие сподвижники пытались
заручиться поддержкой у фашистских режимов и во Второй мировой войне вы-
ступили на стороне нацистской Германии (Баранов 1993: 36; Кириенко 1996).
В частности, вступив в ряды коллаборационистов, атаман П.Н. Краснов ожи-
дал, что нацисты позволят ему создать государство “Казакию”, раскинувшееся
от Дона до Оренбуржья (Кислицын 2008: 80).
В послевоенной зарубежной казачьей историографии подходы “самостий-
ников” к истории казачества продолжали вызывать интерес, и казаки неред-
ко представлялись особым народом, не имевшим тесных связей с русскими.
Первый вопрос, который при этом требовал решения, был связан с языком.
И казачьи авторы делали все для того, чтобы максимально принизить значение
языкового фактора, благо основания для этого имелись. Так, замечая, что казаки
говорят на диалектах великорусского и украинского языков, а в прошлом вла-
дели и татарским языком, они утверждали, что языковой фактор не играл боль-
шой роли в казачьей идентичности. Г.В. Губарев указывал, что казаки сфор-
мировались из слияния очень разных народов, говоривших когда-то на разных
языках, но в конечном итоге перешедших на славянскую речь (Губарев 1957: 13;
1974: 11-12, 22, 30-32, 165, 206). Отмечая случаи смены языка, И.П. Буданов
также не считал язык главным компонентом идентичности и заставлял своих
отдаленных предков с легкостью переходить с санскрита на тюркский язык,
а с него на русский. Гораздо важнее ему казалось “подсознание самого наро-
да”, выражавшееся в обычаях и обрядах (Буданов 1954-1958. Т. 3: 11-12, 67).
А Г.В. Губарев подчеркивал необычайную устойчивость “национального име-
Шнирельман В.А. Травматическая память и возрождение казачества
87
ни” во всех его вариациях (косахи, касаги и пр.) и считал его “ценнейшим наци-
ональным богатством” древностью в 2 тыс. лет (Губарев 1974: 13).
Еще важнее казачьим авторам казалось подчеркивание особой истории
формирования казачества и их особых корней, не имевших ничего общего с
русскими. Все, как один, они гневно возражали русским историкам, выводив-
шим казаков из беглых русских крестьян (Буданов 1954-1958; Губарев 1957: 10,
1974: 13, 149-159; Гордеев 1968: 4). Их больше устраивали родственные связи с
древним степным населением. Но возникал вопрос о том, где и как искать этих
давно забытых родственников. Некоторым казачьим авторам соблазнительным
казалось родство с древними иранскими (скифскими, сакскими, сарматскими)
и более поздними тюркскими племенами, якобы заложившими основы казачье-
го народа. Однако по вопросу о том, где именно сформировался этот народ, из
каких компонентов и как можно это подтвердить, казачьи авторы расходились.
И.П. Буданов не сомневался, что предки казаков пришли из Азии; колебания у
него вызывало лишь одно: выводить ли их от хакасов верховьев р. Енисея или
от саков Средней Азии. В конечном итоге он остановил свой выбор на саках
(Буданов 1954-1958. Т. 3: 71-115). Г.В. Губарев отдавал предпочтение не только
сакам, но и туранцам. Однако, выводя саков из Мидии, он помещал их на Кав-
казе, а родиной казачества считал приазовско-прикубанские степи, где, общаясь
с соседними славянами, оно и усвоило славянскую речь (Губарев 1974: 20, 32).
Г.В. Губарева, похоже, в особенности мучила территориальная проблема, и он
отрицал не только существование Приазовской Руси, но и ассоциацию Меоти-
ды с адыгами. Он считал, что касоги не имели никакого отношения к адыгам и
являлись предками казаков, а земли Северо-Западного Кавказа были, безуслов-
но, казачьими - там он и размещал историческую “Казакию” (Там же: 32, 54,
57, 91, 172-173, 180-181).
Не менее важным Г.В. Губареву казалось подчеркнуть древность казачьих
традиций и высокую культуру предков казаков. Он утверждал, что еще 2 тыс.
лет назад казаки уже были военным народом (Там же: 201), что они обладали
древней письменностью и литературой, которые погибли в огне пожарищ и не
дошли до нас (Там же: 11, 17, 121), что они составляли едва ли не основную
часть населения Хазарии и дали ей казачье имя (Там же: 62-66).
Но главным Г.В. Губарев считал наличие у казаков древней государствен-
ной традиции. Чтобы это доказать, он всячески принижал связи Тмутаракани
с Киевской Русью и делал Тмутаракань первым политическим объединением
казаков, мощным государством, будто бы унаследовавшим все былые хазарские
земли. Якобы именно там произошло окончательное слияние отдельных степ-
ных племен и сложилась казачья общность. И, благодаря народу “касак”, не-
большая киевская колония в Тмутаракани превратилась в крупное независимое
государство (Губарев 1974: 175-178, 202-225; см. также: Гордеев 1968: 15).
В поисках доказательств Г.В. Губарев обращался к археологии и без устали
критиковал российских археологов, дававших, на его взгляд, неверную этни-
ческую идентификацию своим находкам и “искажавших” древнюю историю
казачества. У него не было сомнений в том, что погребения с конем являлись
четким индикатором передвижений “казачьего племени”, что салтовцы воз-
никли из смешения славян с туранцами и были одними из важнейших предков
казачества, что средневековые степные курганы были оставлены казаками, на-
конец, что борщевскую культуру создали вовсе не вятичи, а бродники, которых
он также зачислял в предки казаков (Губарев 1974: 27, 104-122, 244-248, 258)1.
И.П. Буданов тоже писал о мощном независимом казачьем государстве, но свя-
88
Этнографическое обозрение № 1, 2023
зывал его с более поздним временем: он прославлял “Казачью Орду” второй
половины XV - первой половины XVI в. (Буданов 1954-1958. Т. 3: 90-92).
Далеко не все в изложенных взглядах было фикцией. Действительно,
этнический состав казачьих войск был пестрым, ибо они вобрали в себя немало
местного нерусского населения. Например, среди донских казаков было немало
донских калмыков и татар, сохранявших свои традиционные верования (соот-
ветственно буддизм и ислам). При этом нерусский компонент в составе донско-
го казачества особенно ярко проявлялся в ранний период, до массового притока
сюда беглых русских крестьян. Мало того, в конце XVIII в. в состав донского
казачества влилось немало ногайцев, а в середине XIX в. - горцев-мусульман
(Черницын 1992). То же самое относится к терскому казачеству, атаманы ко-
торого в XVIII-XIX вв. в большинстве своем были из кабардинцев, ногайцев,
чеченцев, кумыков и других местных мусульманских народов; еще более пе-
стрым был состав простых казаков, среди которых русские были в меньшин-
стве (Barrett 1999: 36, 47).
Однако казачьи идеологи почти никогда не пытались ассоциировать себя с
нехристианскими религиями или обычаями. Недавняя история или современ-
ные языки нерусских народов их мало интересовали. Им были необходимы
лишь смутные воспоминания о древней истории, помогавшие дистанцировать-
ся от русского народа и реконструировать “древнюю казачью государствен-
ность”. Ради этого они готовы были отказаться от принципа “чистоты крови” и
от языкового пуризма. Мечтам о будущем казачьем государстве больше подхо-
дили идеи о наличии своего древнего государства и о территории, якобы безраз-
дельно принадлежавшей предкам. Последний вопрос воспринимался особенно
болезненно, ибо интересы казаков немедленно вступали в конфликт с интереса-
ми соседних народов, и не случайно Г.В. Губарев находил необходимым много-
кратно повторять, что Северно-Западное Предкавказье веками заселяли предки
казаков, прежде чем туда пришли адыги.
Амбициозные планы казачьих “самостийников” существенно задевали тер-
риториальные интересы кавказских горцев. Ведь, по замыслам “самостийни-
ков”, значительная часть Северного Кавказа, включая бассейны Сунжи и Те-
река, должна была войти в “Республику Казакию” (Проект 1932: 3). Горской
республике они готовы были оставить только Ингушетию, Чечню с г. Грозным
и Дагестан без двух северных округов (Ачикулакского и Кизлярского), состав-
лявших треть его территории (Игнатович 1929б: 13-14). Горцы-эмигранты,
сами мечтавшие о самостоятельном горском государстве на Северном Кавказе,
были неприятно поражены “великодержавием” и “духом старорусского импе-
риализма” тех, кто причислял себя к борцам за свободу и демократию.
Действительно, некоторые из казачьих идеологов, говоря о своих правах на
территорию, ссылались на “право первого захватившего” (Минаев 1928: 15).
В ответ горцы напоминали казакам о необходимости справедливого отношения
к своим соседям, так как сосед “тобой же в свое время в значительной степени,
при помощи русской власти, разорен, загнан в горы, а частью изгнан с роди-
ны” (Рядовой горец 1929: 11). Горские авторы-эмигранты утверждали, что до
XVIII в. горцы населяли территорию Кубани и Ставрополья, а их отступление
в горы и связанная с этим ужасающая бедность были результатом “двухсотлет-
него совместного казачье-русского погромно-завоевательного наступления на
горцев”. Они напоминали, что кубанские и терские казаки заняли бывшие гор-
ские земли. Поэтому они полагали, что было бы справедливо вернуть горцам
все их земли в левобережье Кубани и к югу от Маныча. Этот проект не оставлял
Шнирельман В.А. Травматическая память и возрождение казачества
89
никаких надежд терскому казачеству на какую-либо автономию, предлагая ему
найти свое достойное место в рамках будущей Горской республики (Рядовой
горец 1929: 12-15; Елекхоти 1934; Чукуа 1937). Но такие планы не устраивали
казачьих “самостийников”, вовсе не горевших желанием отдавать горцам земли
от бассейна Кубани до Маныча, включая междуречье Сунжи и Терека (Билый
1930).
Реальный политический процесс мало зависел от всех этих споров, и после
казачьего восстания в октябре 1920 г. несколько станиц терских казаков были вы-
селены, а их земли отданы горцам (Гонов 1997: 12-13, 67; Хунагов 1999: 42-46).
И это было, пожалуй, одним из немногих решений советской власти, встре-
тивших горячую поддержку горской эмиграции (Елекхоти 1936: 35; 1937: 21).
Но в казачьей памяти эти события закрепились в виде незаживающей раны,
и происходившее в 1919-1921 гг. расказачивание воспринимается трагедией
(Коломиец 1994: 77-82), для которой иной раз используют термин “геноцид”.
В начале 1990-х годов об этом много писала национал-патриотическая газета
“Русский вестник”, отражавшая взгляды казаков (По страницам 1991; Ачкасов
1991; Лосев 1991; Ткаченко 1991).
Рассматриваемый здесь территориальный спор разгорелся в те годы, когда
на Северном Кавказе происходила новая административная перекройка границ,
в ходе которой целый ряд территорий с преобладающим казачьим населением
вошел в состав горских автономий (Гонов 1997: 20-21). Признавая, что царская
Россия отобрала у горцев немало земель, лидеры казачьих “самостийников” с
пониманием относились к желанию горцев вернуть эти земли. Однако, по их
мнению, XX в. не оставлял никаких надежд на исправление исторической не-
справедливости, ибо иначе пришлось бы выселять уже давно живших на тех
землях “инородцев”, что породило бы новую несправедливость. Поэтому гор-
цам предлагалось провести переговоры с казаками и установить новые границы
территорий не на основе исторической памяти, а на этнографических, геогра-
фических и экономических принципах (Игнатович 1929б).
При внешней благожелательности сторон ни казаки, ни горцы не были го-
товы идти на какие-либо уступки, и спор фактически зашел в тупик, так и не
приведя к какому-либо приемлемому решению. Между тем необходимость
привлечения более весомых аргументов заставляла оппонентов заглядывать в
глубины истории. Если, как мы видели, казаки неутомимо вели поиск славян
на Северном Кавказе в раннесредневековый период, то горцы пытались ули-
чить их в искажении истории и использовании фальшивок. Они, например, с
подозрением относились к знаменитому Тмутараканскому камню, считая его
подделкой, сфабрикованной царскими властями для закрепления за собой тер-
ритории Кубани (Базырыкхо 1935: 14; 1938: 13)2.
В СССР версия о бродниках была надолго забыта. В 1930-х годах осетин-
ские марксисты доказывали, что “опальные и беглецы”, бежавшие на Терек
в XVI в., стремились всячески порвать с Русским государством и не принад-
лежали к “истинным русским”. Лишь много позднее казаки стали служить
Московской Руси (Гарданов 1935: 240-242). Впоследствии специалисты при-
шли к общему мнению о тюркской основе термина “казак” и связали его с бро-
дягами и скитальцами - бездомным, но вольным населением, находившем при-
ют на степных просторах (Благова 1970: 144-147; Скорик 1992: 15, 1995: 7-8).
Идея о бродниках получила новую жизнь в советской историографии в ко-
роткий период шовинистических кампаний конца 1940-х - начала 1950-х годов,
когда некоторые историки и археологи столь же упорно, сколь и безуспешно,
90
Этнографическое обозрение № 1, 2023
вели поиск следов славян в Причерноморье-Приазовье в эпоху раннего Средне-
вековья (Шнирельман 1993: 62). Скудные летописные источники не позволяли
с уверенностью говорить о том, какие именно группы скрывались под именем
“бродники”, и это обрекало специалистов на бесконечные споры. Тем не менее
в 1949 г. ленинградский историк Н.М. Волынкин объявил бродников “остат-
ками древнейшего славянского этнического элемента южно-русских степей”,
ставшими в дальнейшем этнической основой для казачества (Волынкин 1949).
С тех пор эта идея временами встречалась в работах ряда советских историков,
хотя и не доминировала (Благова 1970: 148; Скорик 1995: 12).
Подхватил ее и В.Б. Виноградов, попытавшийся убедить читателя, что
“в исторической науке четко сформулирована мысль, что бродники - этнографи-
ческая группа восточных славян, включавшая также выходцев из многих коче-
вых и горских народов - прямые предшественники казаков, в том числе живших
по Тереку” (Виноградов, Умаров 1979: 19; Виноградов 1980: 79-82, 100-101).
Домонгольская древность казачьих предков на Северном Кавказе понадобилась
В.Б. Виноградову для того, чтобы, подобно казачьим “самостийникам”, лиш-
ний раз подчеркнуть, что казаки пришли туда с миром, а не с войной: “…былые
попытки трактовать казаков как изначальных воинов-наемников, проводников
колониальной политики царизма, исконных врагов горцев, навсегда отвергну-
ты наукой” (Бузуртанов и др. 1980: 25; Виноградов 1988б), ведь еще в 1929 г.
T. Игнатович писал: “Сотни лет казаки были добрыми соседями кавказских на-
родов по Тереку и Кубани… еще в те далекие времена, когда Москва и нос
свой боялась казать на юг от берега Оки-реки” (Игнатович 1929а: 7). Одно
время В.Б. Виноградов пытался изображать предков казаков русскими людьми,
бежавшими на Северный Кавказ от ордынского гнета и заложившими там ос-
новы сопротивления монгольскому игу (Виноградов 1982, 1988а: 13). Позднее
он обогатил это новым предположением о переселении группы русского насе-
ления с юга Рязанского края в конце XV или начале XVI в. на Северный Кавказ,
где пришельцы смешались с более ранними славянскими группами, очевидно,
с теми же бродниками. На этом основании он доказывал, что “гребенцы - древ-
нейшее (старожильческое, можно даже сказать, коренное для терских прибре-
жий) восточнославянское население края” (Виноградов 1988б). Правда, в 1990-х
годах он перестал писать о бродниках, но не отказался от поиска славян на
Северном Кавказе в домонгольскую эпоху (Виноградов 1995: 68-71).
В конце 1980-х и в 1990-е годы проблема бродников снова обрела попу-
лярность, и к ней обратились даже некоторые маститые ученые. Например,
производившая раскопки на Верхнем Дону известный археолог С.А. Плетне-
ва в своей популярной статье изобразила бродников “русичами, перенявшими
у степняков полувоенный-полукочевой образ жизни”, и сочла их ядром будуще-
го казачества (Плетнева 1996: 40).
Наконец, вопрос о бродниках начал активно обсуждаться в новой постсо-
ветской казачьей историографии, где они, во-первых, представлялись автохто-
нами степной зоны, а во-вторых, носителями воинской культуры и вольного
духа, чего вряд ли можно было ожидать от беглых крестьян. В-третьих, бродни-
ки рисовались смешанным населением, которое постепенно русифицировалось
и слилось с русским народом (Скорик 1992: 15-16, 22-23; 1995: 7-13, 69-72;
Дулимов, Цечоев 2001: 64-66, 247-248). Сторонники таких взглядов обращались
к построениям казачьих историков-эмигрантов и к евразийской историогра-
фии. Они признавали, что со временем казаки превратились в военно-служи-
вое сословие, но так и не могли решить, являлись ли те полноценным этносом
Шнирельман В.А. Травматическая память и возрождение казачества
91
(Скорик 1992) или же субэтносом (Дулимов, Цечоев 2001: 253)3. А некоторые
историки хранили верность советскому представлению о происхождении казаков
от вольных крестьян. В этом случае тюркское происхождение сохранялось лишь
за термином “казаки” (Коломиец 1994: 5-6). У самих казаков идея происхожде-
ния от хазар и бродников также иной раз вызывала протесты (Никитин 1993).
При этом образ казаков выступал эталоном вольности и доказательством того,
что русский народ не обречен подчиняться деспотическому правлению, а спосо-
бен к формированию своей демократической государственности (Коломиец 1994:
7-9; Скорик 1995: 67-78; Дулимов, Цечоев 2001: 252-258). Некоторые авторы
объявляли эпоху Ивана Грозного золотым веком казачества (Скорик 1995: 73).
В конце 1980-х годов лихорадка “национального возрождения” охватила ка-
заков. Об этом написано немало, но здесь нас будут интересовать в основном
казаки Северного Кавказа. В 1990 г. казачьи организации возникли в г. Грозном,
а также в Сунженском, Шелковском и Наурском районах. Среди первых меро-
приятий этих организаций были съезды терского казачества во Владикавказе
24 марта 1990 г. и 23-24 марта 1991 г., где выселение казаков из своих станиц в
1918 и 1921 гг. и расказачивание были названы “геноцидом”, а 17 апреля объявле-
но Днем траура. Там же казаки высказались за территориальное единство России,
подчеркнули свою неизменную лояльность державе и в то же время преданность
идее дружбы народов. Вместе с тем они обращали внимание на рост межэт-
нической напряженности на Северном Кавказе, в частности, большую мигра-
цию ингушей в Сунженский район и вытеснение русского населения из Чечено-
Ингушетии (Коняхин 1991). В этих условиях на своем сходе 12 января 1991 г.
местные казаки просили восстановить Сунженский административно-террито-
риальный район, упраздненный в 1928 г., а также Галашкинский район, где ис-
конно обитали ингуши и куда они могли бы вернуться (Подколзин, Иванов 1992).
При этом казаки признавали себя частью народа Чечено-Ингушетии и негативно
относились к планам отделения от нее Ингушетии.
Вскоре после проведения съезда терского казачества произошли столкно-
вения казаков с чеченцами и ингушами в Сунженском районе, повлекшие ги-
бель ряда активистов. Русские радикалы объявили это “геноцидом” казачества
(Козин 1991). Сессия местного сельского совета 1 мая приняла решение о вы-
селении казаков из республики, и те уже начали собираться в дорогу. Однако
власти Сунженского района выступили против этого и пообещали казакам вы-
полнить их просьбу и воссоздать Сунженский казачий округ (Резолюция 1991;
Леонтьева 1991; Skinner 1994: 1032-1033; Гакаев 1997: 146).
Обнаружив себя в списке “некоренного населения” (см., напр.: Битова и др.
1996: 6), казаки были шокированы и начали судорожно искать выход из соз-
давшегося положения. Больше всего их устраивало возвращение в соседние
административные образования с компактным русским большинством, како-
вым являлся соседний Ставропольский край. В ноябре 1990 г. на съезде тер-
ских казаков и ногайцев было выдвинуто требование восстановить единство
Ногайской степи, до 1957 г. целиком входившей в состав Ставропольского края,
а затем отдельные ее части были включены в состав Дагестана и Чечено-Ингу-
шетии (Музаев, Тодуа 1992: 38; О некоторых проблемах 1993: 269). Дополни-
тельный толчок казачьему движению дал принятый в апреле 1991 г. “Закон о
реабилитации репрессированных народов”, показавший, что и эти народы име-
ют легитимное право выдвигать свои требования (Данлоп 2001: 101, 139-144).
В Ставрополе 7-10 ноября 1991 г. прошел II съезд Союза казаков. Обеспоко-
енные массовыми гонениями, которым подвергались казаки и в целом русские
92
Этнографическое обозрение № 1, 2023
жители Чечни при режиме Дж. Дудаева, терские казаки расширили свои требо-
вания, включив в них возвращение Наурского и Шелковского районов Ставро-
польскому краю (Грошев 1991; Гакаев 1997: 146-147). Малый совет атаманов
Союза казаков 17 февраля 1992 г. выступил с заявлением “О дискриминации ка-
зачьего населения”, где приводились данные о массовом отъезде казачьих семей
из Чечено-Ингушетии. Несколько позднее, 22 февраля 1992 г., II съезд Терско-
го казачьего войска назвал почти всю чеченскую территорию “древней землей
терского казачества” (Lieven 1998: 229) и потребовал восстановить автономию
Сунженского казачьего округа и вернуть Наурский, Шелковской и Кизлярский
районы Чечни и Дагестана Ставропольскому краю (Петрович 1994). В октябре
1993 г. III съезд Союза казаков высказался за восстановление границ терского
казачества в левобережье Терека, а ряд других территорий назвал спорными
(Казаков Ассиновской… 1994). В поддержку терских казаков сотрудница архи-
ва МВД РФ Р.Г. Мельникова заявила на страницах популярной “Независимой
газеты”, что они должны получить не только левобережье Терека, но и все зем-
ли, переданные Чечне начиная с 1922 г. (Мельникова 1996). Российские военные
историки поддержали такой подход, утверждая, что казаки обосновались к югу
от Терека еще до середины XVI в., когда чеченцы обитали в основном в горах
(Азаров, Марущенко 2001: 2).
Таким образом, если поначалу казаки были озабочены культурным возро-
ждением, то со временем ими стала овладевать идея восстановления казачьих
административно-территориальных областей в границах до 1917 г. и введения
там атаманского правления для наведения “порядка” (Безродный 1994; об этом
см.: Баранов 1993: 39; Коротков 1994: 110; Крицкий 1995: 97-98, 102-105). При
этом территориальные требования терских казаков опирались, в частности, на
исторические построения В.Б. Виноградова, превращавшие казаков в “абори-
генов чеченской земли”. Это раздражало чеченских радикалов, обвинивших
ученого в “реакционной деятельности, настраивавшей казаков на отторжение
Наурского и Шелковского районов” (Шамаев 1992; Гакаев 1997: 147; Сайдулла-
ев 2002: 127), а в чеченской прессе появились утверждения о том, что земли к
северу от Терека едва ли не с первобытных времен были населены чеченцами и
их предками (Салигов 1992, 1993; Хожаев 1993).
Казаки требовали признания себя отдельным народом или по меньшей мере
“субэтносом”, в основе которого лежит особая история, самобытная культура
и чувство этнической самостоятельности. Казачьи авторы не желали считать
своими предками беглых крестьян и всеми силами пытались приписать себе
более престижное происхождение, связывая его с вольными степняками, со-
ставлявшими особый этнос (Скорик 1992, 1995: 10-13). В частности, один из
авторов настаивал на том, что казаки происходили от отрядов пограничной ох-
раны, расселявшихся далеко на юг по рекам еще в годы Киевской Руси, подчер-
кивая, что казаки нередко находили себе невест среди местных южных народов,
и изображая их особой национальностью, имевшей скорее не кровную, а соци-
альную основу (Безродный 1994). По словам А. Ливена, заместитель атамана
кубанского казачества Ю. Антонов настаивал на скифских и меото-хазарских
корнях казачества, что, по его мнению, делало казаков местным древним наро-
дом Кавказа (Lieven 1998: 226, 230).
Дальнейшее обострение этнополитической обстановки на Северном Кавка-
зе придало казачьему фактору особое значение, причем отношение различных
народов региона к казакам существенно различалось. Если ингуши, боровши-
еся за возвращение своих земель, рисовали казаков исключительно завоевате-
Шнирельман В.А. Травматическая память и возрождение казачества
93
лями и надежной опорой царизма (см., напр.: Костоев 1990: 133)4, то в других
северокавказских республиках встречалось и более позитивное отношение к
ним (Крицкий 1995: 100). Представители местных элит, сознавая большую роль
казачьего фактора, называли казаков “кавказцами” и призывали их поддержать
“братьев-горцев” в справедливой борьбе за независимость Кавказа (Игнатенко,
Салмин 1993: 105). В Кабардино-Балкарии подчеркивали дружеские отношения
терских казаков с горцами и указывали на выступления казаков против царизма
якобы во имя дружбы народов, а вину за Кавказскую войну возлагали на само-
державие (Коломиец 1994: 67-74).
В этом контексте и следует рассматривать стремление некоторых чеченских
авторов не просто подчеркивать родственные связи, издавна установившиеся
между терскими и гребенскими казаками и отдельными чеченскими тайпами
(Мужухоев 1995: 105-107; Barrett 1999), но и обосновывать кавказское (“чер-
кесское”) происхождение казачества, связывая его предков, в частности, с ру-
сифицированными чеченцами и аланами (Гапаев 1992; Куддузов 1992; Отку-
да пошли казаки 1993; Салигов 1993) или потомками беглых русских людей,
принятых горцами и породнившихся с ними (Саидов 1992; Хожаев 1993).
В авторитетном чеченском издании первые казаки представляются татарами и
северокавказскими горцами, состоявшими во второй половине XV в. на служ-
бе у различных правителей соседних государств. И лишь в начале XVI в. в их
состав начали вливаться прибывавшие с севера русские люди, что и привело к
формированию “вольного (гребенского) казачества” полвека спустя (Ахмадов
2006: 158-159). Вплоть до начала XVIII в. между казаками и чеченцами в ос-
новном поддерживались мирные отношения, причем казаки без труда смеши-
вались с горцами (Там же: 418-420). В некоторых публикациях со ссылками на
эмигрантскую казачью литературу утверждалось, что казаки вплоть до первой
половины XIX в. не признавали себя русскими и помнили о своем кавказском
происхождении (см., напр.: Откуда пошли казаки 1993). Дело доходило до того,
что терско-гребенские казаки объявлялись “частью чеченского народа, говоря-
щей по-русски” (Салигов 1993).
Осетины также вовсю заигрывали с терским казачеством, подчеркивая свое
вековое боевое братство, сложившееся, в частности, в борьбе с вайнахами. Так,
в Осетии был образован “Аланский особый казачий округ” (Хестанов 1996), и,
судя по опросам, движение за возрождение казачества получило у осетин мас-
совое одобрение (Дзуцев 1994: 103). Казаки, со своей стороны, высказались в
ноябре 1991 г. против “геноцида осетин” в Южной Осетии и за ее вхождение в
состав России (Таболина 1994: 326-327). Мало того, казаки активно участвовали
в осетино-ингушском конфликте 1992 г. на стороне осетин (Lieven 1998: 222).
В начале 1990-х годов северокавказские народы и казачество не теряли на-
дежды найти мирное решение своих проблем. Для этого 28 апреля 1993 г. со-
стоялась встреча представителей казачества и Конфедерации народов Кавказа
в Ставрополе, где стороны договорились избегать силового решения конфликт-
ных ситуаций и стремиться к мирному урегулированию территориальных и
иных спорных вопросов (Соглашение 1993). Однако первая чеченская война и
особенно захваты заложников в июне 1995 г. в Буденновске и в январе 1996 г.
в Кизляре резко изменили отношение казаков к чеченцам. Так, в конце января
1996 г. на траурном митинге жители Ставропольского края потребовали уста-
новления полной блокады Чечни, депортации туда всех чеченцев из России и
вывоза оттуда всего русского населения, выведения войск из Чечни и закрытия
российско-чеченской границы, экономической блокады Чечни и решительных
94
Этнографическое обозрение № 1, 2023
действий против проведения терактов (Бондарев 1996). Мало того, в начале
1996 г. был создан Ставропольский казачий полк имени генерала Ермолова,
одно имя которого вызывало ненависть у чеченцев. Подразделения этого полка
участвовали в чеченской войне (Демильханов 1996). Выступление казаков на
стороне федеральных войск было воспринято чеченцами как углубление проти-
востояния с казаками (Усманов 1997: 80).
Таким образом, одним из важнейших источников возрождения казачьей
идентичности стали исторические предания об автохтонном происхождении
предков. Как правило, они основываются на построениях казачьих истори-
ков-любителей, творивших в эмиграции. Как это квалифицирует Б. Скиннер,
“искажения [истории] помогают продвигать современную казачью идентич-
ность и [формулировать] цели активистами, заинтересованными в возрожден-
ческом движении” (Skinner 1994: 1023).
Примечания
1 Несмотря на то что в известной битве при Калке 16 июня 1223 г. бродники
выступали на стороне монгольского войска, местные донецкие казаки до недав-
него времени торжественно отмечали это событие как страницу своей славной
истории.
2 Об увлекательной истории Тмутараканского камня см.: Монгайт 1969.
3 Примечательно, что еще в 1952 г. в казачьей эмиграции встречались рас-
суждения об отсутствии у казаков какого-либо этнического единства, ибо в их
основе лежало сильно смешанное население (Самсонов 1991).
4 Действительно, не кто иной, как царский генерал Н.П. Слепцов подтверж-
дал, что земли по р. Сунже были отняты у горцев силой и отданы казакам
(Виноградов 2000: 5-6).
Источники и материалы
Азаров, Марущенко 2001 - Азаров В., Марущенко В. Кавказ в составе России //
Красная звезда. 19 января 2001. С. 2-3.
Ачкасов 1991 - Ачкасов В. Казачьему роду нет переводу! // Русский вестник.
1991. № 16. С. 4.
Базырыкхо 1935 - Базырыкхо Т. Аппетиты не по чину // Северный Кавказ. 1935.
№ 16. С. 14-17.
Базырыкхо 1938 - Базырыкхо Т. Ответ Евгену Луговому // Северный Кавказ.
1938. № 61-62. С. 13-19.
Безродный 1994 - Безродный О. Братья казаки // Независимая газета. 19 марта
1994. С. 8.
Билый 1930 - Билый И. Еще к горскому вопросу // Вольное казачество. 1930.
№ 51-52. С. 9-11.
Болдырев 1931 - Болдырев И. В Южине // Вольное казачество. 1931. № 95. C. 25.
Бондарев 1996 - Бондарев С. С войной в Чечне надо покончить // Ставрополь-
ская правда. 2 февраля 1996. С. 1.
Буданов 1954-1958 - Буданов И.П. Дон и Москва. Т. 1. Париж: Казака, 1954;
Т. 2. Париж: И.Г. Фетисов, 1956; Т. 3. Париж: И.Г. Фетисов, 1957; Т. 4.
Париж: И.Г. Фетисов, 1958.
Бузуртанов и др. 1980 - Бузуртанов М.О., Виноградов В.Б., Умаров С.Ц. Навеки
вместе. Грозный: Чечено-Ингушское книжное изд-во, 1980.
Шнирельман В.А. Травматическая память и возрождение казачества
95
Быкадоров 1927 - Быкадоров И.Ф. Происхождение казачества и возникновение
Вольных Казачьих Войск // Вольное казачество. 1927. № 2. С. 13-16.
Виноградов 1980 - Виноградов В.Б. Время, горы, люди. Книга очерков и крае-
ведческих репортажей. Грозный: Чечено-Ингушское книжное изд-во, 1980.
Виноградов 1982 - Виноградов В.Б. Не померкнет в веках // Вехи единства / Ред.
В.Б. Виноградов. Грозный: Чечено-Ингушское книжное изд-во, 1982. С. 73-77.
Виноградов
1985
- Виноградов В.Б. Средняя Кубань: земляки и соседи.
Армавир: АГПИ, 1995.
Виноградов 1988а - Виноградов В.Б. (ред.) История добровольного вхождения
чеченцев и ингушей в состав России и его прогрессивные последствия.
Грозный: Чечено-Ингушское книжное изд-во, 1988а.
Виноградов 1988б - Виноградов В.Б. Откуда они, гребенцы? // Грозненский ра-
бочий. 19 августа 1988б. С. 3.
Виноградов В.Б. 1995. - Виноградов В.Б. Средняя Кубань: земляки и соседи.
Армавир: АГПИ.
Виноградов 2000 - Виноградов В.Б. Н.П. Слепцов - “храбрый и умный гене-
рал”. Армавир: АГПИ, 2000.
Виноградов, Умаров 1979 - Виноградов В.Б., Умаров С.Ц. Вхождение Чечено-
Ингушетии в состав России. Грозный: ЧИГУ, 1979.
Волынкин 1949 - Волынкин Н.М. Предшественники казачества - бродники //
Вестник Ленинградского университета. 1949. № 8. С. 55-62.
Вольное казачество 1927 - Вольное казачество. 1927. № 1. С. 1-3.
Гапаев 1992 - Гапаев А. Генетическое родство вайнахов с терскими казаками //
Справедливость. 1992. № 7. С. 4.
Гордеев 1968 - Гордеев А.А. История казачества. Ч. 1, Золотая Орда и зарожде-
ние казачества. Париж, 1968.
Гриценко 1975 - Гриценко Н.П. Истоки дружбы. Грозный: Чечено-Ингушское
книжное изд-во, 1975.
Грошев 1991 - Грошев Г. Открытое письмо казака // Русский вестник. 1991.
№ 26. С. 6.
Губарев 1957 - Губарев Г.В. Книга о казаках. Материалы по истории казачьей
древности. Париж: Изд-во газеты “Казак”, 1957.
Губарев 1974 - Губарев Г.В. Казаки и их земля в свете новых данных. Вторая
книга о казаках. Буэнос Айрес: Изд-во Г.В. Карпенко, 1974.
Демильханов 1996 - Демильханов А. Казаки вступают в войну // Независимая
газета. 21 марта 1996. С. 3.
Елекхоти 1934 - Елекхоти Т. Горцы и казаки // Кавказ. 1934. № 1. С. 9-11.
Елекхоти 1936 - Елекхоти Т. Самоопределение горцев, в частности, осетин //
Кавказ. 1936. № 4 (28). С. 31-37.
Игнатович 1929а - Игнатович Т. Казачество и горский вопрос // Вольное каза-
чество. 1929а. № 37. С. 6-10.
Игнатович 1929б - Игнатович Т. Казачество и горский вопрос // Вольное каза-
чество. 1929б. № 38. С. 11-14.
Казаков Ассиновской… 1994 - Казаков Ассиновской обманом включили в
состав ЧР // Северный Кавказ. 10 сентября 1994.
Казачье самостийничество 1928 - Казачье самостийничество // Последние
новости. 25 января 1928. С. 1.
Козин 1991 - Козин А. Сунженская трагедия // Русский вестник. 1991. № 11. С. 2.
Коняхин 1991 - Коняхин В.Д. Склоняя головы // Социалистическая Осетия.
17 апреля 1991. С. 3.
96
Этнографическое обозрение № 1, 2023
Коротков 1994 - Коротков В.Е. Чеченская модель этнополитических процес-
сов // Общественные науки и современность. 1994. № 3. С. 104-112.
Костоев 1990 - Костоев А.У. (ред.) Второй съезд ингушского народа. Грозный:
Книга, 1990.
Куддузов 1992 - Куддузов А.-С. Ключ к тайнам // Республика. 22 августа 1992.
C. 5.
Леонтьева 1991 - Леонтьева Л. Казаки: война после драки // Московские ново-
сти. 12 мая 1991. С. 4.
Лосев 1991 - Лосев Е. Православный Дон // Русский вестник. 1991. № 18. С. 6.
Мельникова 1996 - Мельникова Р.Г. Вопрос о границах остается открытым //
Независимая газета. 16 августа 1996. С. 3.
Минаев 1928 - Минаев М. Очерки по истории аграрного законодательства в
Земле Войска Донского // Вольное казачество. 1928. № 6. С. 12-15.
Никитин 1993 - Никитин Н. Казачьи корни // Русский вестник. 1993. № 6. С. 8.
О некоторых проблемах 1993 - О некоторых проблемах, связанных с реаби-
литацией репрессированных народов (1991 г.) // Так это было. Т. 3 / Сост.
С.У. Алиева. М.: Инсан, 1993. С. 267-271.
Откуда пошли казаки 1993 - Откуда пошли казаки? // Ичкерия. 12 января 1993.С. 3.
Петрович 1994 - Петрович А. Казаки и Северный Кавказ // Независимая газета.
4 июня 1994. С. 5.
По страницам 1991 - По страницам патриотической прессы // Русский вестник.
1991. № 4. С. 11.
Подколзин, Иванов 1992 - Подколзин А.И., Иванов Д.В. Письмо председателю
исполкома съезда Чеченского народа Л.С. Умхаеву // Справедливость. 1992.
№ 5 (март). С. 5.
Проект 1932 - Проект. Основные законы Казачьего Союзного Государства:
Союзная конституция Казакии // Вольное казачество. 1932. № 96. С. 2-9.
Резолюция 1991 - Резолюция Совета атаманов // Русский вестник. 1991. № 11. С. 2.
Рядовой горец 1929 - Рядовой горец. Горский вопрос на страницах журнала
“Вольное казачество” // Горцы Кавказа. 1929. № 4-5. С. 10-16.
Савельев 1915 - Савельев Е.П. Древняя история казачества. Ч. 1. Вып. 3. Ново-
черкасск: Донской печатник, 1915.
Саидов 1992 - Саидов И.М. Истоки. Краткая этнографическая справка о казаках //
Справедливость. 1992. № 9. С. 3.
Сайдуллаев 2002 - Сайдуллаев М.М. Чеченскому роду нет переводу. М.: Ковиан,
2002.
Салигов 1992 - Салигов Л. Простите братья, но истина дороже… // Справедли-
вость. 1992. № 8 (апрель). С. 3-4.
Салигов 1993 - Салигов Л. Быть или не быть чеченскому казачеству // Ичкерия.
21 января 1993. С. 3.
Самсонов 1991 - Самсонов Б. Казачий мир // Русский вестник. 1991. № 32. С. 11.
Соглашение 1993 - Соглашение между Конфедерацией народов Кавказа и каза-
чествами юга России // Известия. 29 апреля 1993. С. 1.
Ткаченко 1991 - Ткаченко П. Кто же создал казачество? // Русский вестник.
1991. № 19. С. 4.
Усманов 1997 - Усманов Л. Непокоренная Чечня. М.: Парус, 1997.
Федоров 1928а - Федоров С. Казачество по взглядам ученых // Вольное казачество.
1928а. № 3. С. 15-18; № 4. С. 11-13.
Федоров 1928б - Федоров С. Нациологическая терминология и казачество //
Вольное казачество. 1928б. № 5. С. 13-14.
Шнирельман В.А. Травматическая память и возрождение казачества
97
Федоров 1928в - Федоров С. Донцы в наследии Чингиз-хановом // Вольное ка-
зачество. 1928в. № 11. С. 17-18; № 12. С. 11-13.
Хестанов 1996 - Хестанов К.А. В казачьем братстве // Æлантæ. 1996. № 10
(ноябрь). C. 4.
Хожаев 1993 - Хожаев Д. Чеченцы на левобережье Терека // Ичкерия. 15 июня
1993. С. 3.
Чукуа 1937 - Чукуа М. Еще о северных границах // Северный Кавказ (Варшава).
1937. № 44. С. 17-20.
Шамаев 1992 - Шамаев М. Народ устал. Открытое письмо президенту Чечен-
ской республики Джохару Дудаеву // Республика. 11 января 1992. С. 9.
Научная литература
Ахмадов Ш.Б. (ред.) История Чечни с древнейших времен до наших дней. Т. 1.
Грозный: Книжное изд-во, 2006.
Баранов А.В. Российская государственность и Северный Кавказ: критика идео-
логии “самостийности” // Кентавр. 1993. № 6. С. 34-41.
Битова Е.Г., Боров А.Х., Дзамихов К.Ф., Саральпов З.С. Современная Кабар-
дино-Балкария: проблемы общественной динамики, науки и образования.
Нальчик: Эль-Фа, 1996.
Благова Г.Ф. Исторические взаимоотношения слов “казак” и “казах” // Этнони-
мы / Отв. ред. В.А. Никонов. М.: Наука, 1970. С. 143-159.
Гакаев Д.Д. Очерки политической истории Чечни (XX век). М.: Чеченский куль-
турный центр, 1997.
Гарданов Б. Покорение Кавказа в военной историографии // Известия Северо-
осетинского НИИ. 1935. Т. 8. С. 233-271.
Гонов А.М. Северный Кавказ: актуальные проблемы русского этноса (20-30-е
годы). Ростов-на-Дону: Ростовская высшая школа МВД РФ, 1997.
Данлоп Д. Россия и Чечня: история противоборства. М.: Р. Валент, 2001.
Дзуцев Х.В. Этнополитический конфликт в Северной Осетии и вокруг нее //
В тумане над пропастью. Владикавказ: Ир, 1994. C. 88-111.
Дулимов E.И., Цечоев В.К. Славяне средневекового Дона (к вопросу о пред-
посылках формирования казачьей государственности). Ростов-на-Дону:
Ростиздат, 2001.
Ибрагимова З.Х. Чеченская история: политика, экономика, культура второй по-
ловины XIX в. М.: Евразия, 2002.
Игнатенко А.А., Салмин А.М. Конфедерация народов Кавказа в политическом
контексте Кавказского региона // Мировая экономика и международные от-
ношения. 1993. № 9. С. 96-107.
Кириенко Ю.К. Казачество в эмиграции: споры о его судьбах (1921-1945 гг.) //
Вопросы истории. 1996. № 10. С. 3-18.
Кислицын С.А. О соотношении российской и региональной идентичности в ис-
следованиях по истории краев и областей Российской Федерации // Исто-
рия края как поле конструирования региональной идентичности: материалы
семинара, проведенного Волгоградским государственным университетом и
Институтом Кеннана 11 апреля 2008 года / Под ред. И.И. Куриллы. Волго-
град: Изд-во ВолГУ, 2008. C. 75-88.
Козлов С.А. Кавказ в судьбах казачества (XVI-XVIII вв.). СПб.: Кольна, 1996.
Коломиец В.Г. Очерки истории и культуры терских казаков. Нальчик: Эльбрус,
1994.
98
Этнографическое обозрение № 1, 2023
Крицкий Е.В. (ред.) Чеченский кризис в массовом сознании населения Север-
ного Кавказа. Краснодар: Северо-Кавказский центр Института социально-
политических исследований РАН, 1995.
Кушева Е.Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией (вторая половина
XVI - 30-е годы XVII века). М.: АН СССР, 1963.
Маркедонов С.М. От истории к конструированию национальной идентично-
сти (исторические воззрения участников “Вольноказачьего движения”) //
Ab Imperio. 2001. № 3. С. 527-558.
Монгайт А.Л. Надпись на камне. М.: Знание, 1969.
Мужухоев М.Б. Ингуши. Страницы истории, вопросы материальной и духовной
культуры. Саратов: Детская книга, 1995.
Музаев Т., Тодуа З. Новая Чечено-Ингушетия. М.: Панорама, 1992.
Плетнева С.А. Беспокойное соседство. Русь и степные кочевники в домонголь-
ское время // Родина. 1996. № 12. С. 28-41.
Скорик A.П. Возникновение донского казачества как этноса: изначальные куль-
турные традиции. Учебное пособие для студентов по базовому учебному
курсу “История России”. Новочеркасск: Новочеркасский политехнический
институт, 1992.
Скорик А.П. (ред.) Казачий Дон: очерки истории. Ч. 1. Ростов-на-Дону: Изд-во
Ростовского областного института усовершенствования учителей, 1995.
Таболина Т.В. Возрождение казачества. 1980-1994. Истоки. Хроника. Перспек-
тивы. М.: ИЭА РАН, 1994.
Трепавлов В.В. (ред.) Россия и Северный Кавказ: 400 лет войны. М.: ИРИ РАН,
1998.
Хунагов А.С. “Выселить без права возвращения…”. Депортация народов юга
России. 20-50-е годы (на материалах Краснодарского и Ставропольского
краев). Майкоп: Меоты, 1999.
Черницын С.В. Донские татары: некоторые вопросы этнической истории и
расселения // Историческая география Дона и Северного Кавказа / Ред.
В.Е. Максименко, В.Н. Королев. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та,
1992. С. 106-114.
Шнирельман В.А. Злоключения одной науки: этногенетические исследования
и сталинская национальная политика // Этнографическое обозрение. 1993.
№ 3. С. 52-68.
Barrett T.M. At the Edge of Empire: The Terek Cossacks and the North Caucasus
Frontier, 1700-1860. Boulder: Westview, 1999.
Lieven A. Chechnya: Tombstone of Russian Power. New Haven: Yale University
Press, 1998.
Skinner B. Identity Formation in the Russian Cossack Revival // Europe-Asia Studies.
1994. Vol. 46. No. 6. P. 1017-1037.
R e s e a r c h A r t i c l e
Shnirelman, V.А. Traumatic Memory and the Cossack Revival [Travmaticheskaia
pamiat’ i vozrozhdenie kazachestva]. Etnograficheskoe obozrenie, 2023, no. 1,
pp.
ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and
Anthropology RAS]
Шнирельман В.А. Травматическая память и возрождение казачества
99
Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (32-a
Leninsky prospect, Moscow, 119991, Russia)
Keywords
North Caucasus, Cossacks, Brodniks, traumatic memory, national revival
Abstract
As a rule, a traumatic memory includes two points: a memory of the recent tragedy
and a view of the lost Golden Age, i.e. victimization combines with glorification
which has to offset a disadvantage with the help of symbolic images. This dichotomy
is analyzed with respect to the Cossacks whose memory maintains both the tragedies
of the Civil war including their relocation, and a reference to the deep past with an
emphasis on indigenous ancestors and also dreams of the own state. At the same time,
the Cossack’s narrative confronts the North Caucasian views of the past which are
also fed by the traumatic memory. A clash of memories provokes a territorial conflict.
The historical constructs of the Cossack emigree historians made an impact on the
post-Soviet Cossack historiography.
Funding Information
This research was supported by the following institutions and grants:
Russian
Science
Foundation,
[grant no. 22-18-00241]
References
Akhmadov, S.B., ed. 2006. Istoriia Chechni s drevneishikh vremen do nashikh dnei
[A History of Chechnya from the Earliest Times until the Present]. Vol. 1. Groznyi:
Knizhnoe izdatel’stvo.
Baranov, A.V. 1993. Rossiiskaia gosudarstvennost’ i Severny Kavkaz: kritika
ideologii “samostiinosti” [Russian State and the North Caucasus: A Criticism of
the “Self-Management” Ideology]. Kentavr 6: 34-41.
Barrett, T.M. 1999. At the Edge of Empire: The Terek Cossacks and the North
Caucasus Frontier, 1700-1860. Boulder: Westview.
Bitova, E.G., A.G. Borov, K.F. Dzamikhov, and Z.S. Saralpov. 1996. Sovremennaia
Kabardino-Balkaria: problemy obshchestvennoi dinamiki, nauki i obrazovania
[Contemporary Kabardino-Balkaria: An Issue of Social Dynamics, Science and
Education]. Nal’chik: El’-Fa.
Blagova, G.F. 1970. Istoricheskie vzaimootnoshenia slov “kazak” i “kazakh”
[Historical Relationships between the Words of “Kazak” and “Kaxakh”].
In Etnonimy [Ethnonymy], edited by V.F. Nikonov, 143-159. Moscow: Nauka.
Chernitsyn, S.V. 1992. Donskie tatary: nekotorye voprosy etnicheskoi istorii i
rasselenia [The Don Tatars: Some Problems of Ethnic History and Settlement].
In Istoricheskaia Geografia Dona i Severnogo Kavkaza [A Historical Geography
of Don and Northern Caucasus], edited by. V.E. Maksimenko and V.N. Korolev,
106-114. Rostov-na-Donu: Izdatel’stvo Rostovskogo universiteta.
Dunlop, J. 2001. Rossia i Chechnia: istoriia protivoborstva [Russia and Chechnya:
A History of Confrontation]. Moscow: R. Valent.
Dulimov, E.I., and V.K. Tsechoev. 2001. Slaviane srednevekovogo Dona (k voprosu
o predposylkakh formirovaniia kazachei gosudarstvennosti) [The Slavs of the
Medieval Don (An Issue of Pre-Conditions of the Cossack State Formation)].
Rostov-na-Donu: Rosizdat.
100
Этнографическое обозрение № 1, 2023
Dzutsev, K.V. 1994. Etnopoliticheskii konflikt v Severnoi Osetii i vokrug nego [Ethno-
Political Conflict in Northern Ossetia and Around This Issue]. In V tumane nad
propastiu [In the Mist over the Precipice], 88-111. Vladikavkaz: Ir.
Gakaev, D.D. 1997. Ocherki politicheskoi istorii Chechni (XX vek) [Essays of the
Chechnya (20th Century)]. Moscow: Chechenskii kul’turnyi tsentr.
Gardanov, B. 1935. Pokorenie Kavkaza v voennoi istoriografii [The Conquest of
the Caucasus in the Military Historiography]. Izvestia Severo-osetinskogo NII 8:
233-271.
Gonov, A.M. 1997. Severny Kavkaz: aktual’nye problemy russkogo etnosa (20-30-e
gody) [Northern Caucasus: Actual Problems of the Russian Ethnos (1920s and
1930s)]. Rostov-na-Donu: Rostovskaia vysshaia shkola MVD RF.
Ibragimova, Z.K. 2002. Chechenskaia istoria: politika, ekonomika, kul’tura vtoroi
poloviny XIX v. [The Chechen History: Politics, Economics and Culture in the
Late 19th Century]. Moscow: Evrazia.
Ignatenko, A.A., and A.M. Salmin. 1993. Konfederatsiia narodov Kavkaza v
politicheskom kontekste Kavkazskogo regiona [A Confederation of the Caucasian
Peoples in Political Context of the Caucasian Region]. Mirovaia ekonomika i
mezhdunarodnye otnosheniia 9: 96-107.
Khunagov, A.S. 1999. “Vyselit’ bez prava vozvrashchenia…”. Deportatsia narodov
yuga Rossii. 20-50-e gody (na materialakh Krasnodarskogo i Stavropol’skogo
kraev) [“To Uproot without the Right to Come Back…”: A Deportation of the
Peoples of Southern Russia in 1920s to 1950s (On the Basis of the Krasnodar and
Stavropol Territories)]. Maikop: Meoty.
Kirienko, Y.K. 1996. Kazachestvo v emigratsii: spory o ego sud’bakh (1921-1945 gg.)
[Cossacks in Emigration: A Discussion of Their Fate (1921-1945)]. Voprosy
istorii 10: 3-18.
Kislitsyn, S.A. 2008. O sootnoshenii rossiiskoi i regional’noi identichnosti v
issledovaniakh po istorii kraev i oblastei Rossiiskoi Federatsii [On the Relationships
between the Russian and Regional Identity in the Studies of Regional History of
the Russian Federation]. In Istoria kraia kak pole konstruirovania regional’noi
identichnosti [Local History as a Field for the Construction of Regional Identity],
edited by I.I. Kurilla, 75-88. Volgograd: Izdatel’stvo VolGU.
Kolomiets, V.G. 1994. Ocherki istorii i kul’tury terskikh kazakov [Essays in History
and Culture of the Terek Cossacks]. Nal’chik: El’brus.
Kozlov, S.A. 1996. Kavkaz v sud’bakh kazachestva (XVI-XVIII vv.) [Caucasus in the
Cossack History (16th to 18th Centuries)]. St. Petersburg: Kol’na.
Kritsky, E.V., ed. 1995. Chechenskii krizis v massovom soznanii naseleniia
Severnogo Kavkaza [The Chechen Crisis in the Mass Consciousness of the North
Caucasus Inhabitants]. Krasnodar: Severo-Kavkazskii tsentr Instituta sotsial’no-
politicheskikh issledovanii RAN.
Kusheva, E.N. 1963. Narody Severnogo Kavkaza i ikh sviazi s Rossiei (vtoraia
polovina XVI - 30-e gody XVII veka [The North Caucasian Peoples and Their
Connections with Russia (Late 16th Century to 1730s)]. Moscow: AN SSSR.
Lieven, A. 1998. Chechnya: Tombstone of Russian Power. New Haven: Yale
University Press.
Markedonov, C.M. 2001. Ot istorii k konstruirovaniiu natsional’noi identichnosti
(istoricheskie vozzreniia uchastnikov “Vol’nokazachego dvizhenia”) [From
History to a Construction of the National Identity (Historical Views of the
Participants of the “Liberal Cossack Movement”)]. Ab Imperio 3: 527-558.
Mongait, A.L. 1969. Nadpis’ na kamne [An Inscription of the Stone]. Moscow: Znanie.
Шнирельман В.А. Травматическая память и возрождение казачества
101
Muzaev, T., and Z. Todua. 1992. Novaia Checheno-Ingushetiia [New Checheno-
Ingushetia]. Moscow: Panorama.
Muzhukhoev, M.B. 1995. Ingushi. Stranitsy istorii, voprosy material’noi i dukhovnoi
kul’tury [The Ingush: Essays in History, Material and Spiritual Culture]. Saratov:
Detskaia kniga.
Pletneva, S.A. 1996. Bespokoinoe sosedstvo. Rus’ i stepnye kochevniki v mongol’skoe
vremia [Restless Neighborhood: Rus’ and the Steppe Nomads at the Mongol
Period]. Rodina 12: 28-41.
Shnirelman, V.A. 1993. Zlokliuchenia odnoi nauki: etnogeneticheskie issledovania i
stalinskaia natsional’naia politika [A Poor Fate of the Discipline: Ethnogenetic
Studies and Stalin’s Ethnic Policy]. Etnograficheskoe obozrenie 3: 52-68.
Skinner, B. 1994. Identity Formation in the Russian Cossack Revival. Europe-Asia
Studies 46 (6): 1017-1037.
Skorik, A.P. 1992. Vozniknovenie donskogo kazachestva kak etnosa: iznachal’nye
kul’turnye traditsii [An Emergence of the Don Cossacks as an Ethnos: The Early
Culture Traditions]. Novocherkassk: Novocherkasskii politekhnicheskii institut.
Skorik, A.P., ed. 1995. Kazachii Don: ocherki istorii [The Cossack Don: Essays in
History]. Pt. 1. Rostov-na-Donu: Izdatel’stvo Rostovskogo oblastnogo instituta
usovershenstvovaniia uchitelei.
Tabolina, T.V. 1994. Vozrozhdenie kazachestva, 1980-1994: Istoki; Khronika;
Perspektivy [A Cossack Rebirth, 1980-1994: The Beginnings; Chronicle;
Perspectives]. Moscow: IEA RAN.
Trepavlov, V.V., ed. 1998. Rossia i Severny Kavkaz: 400 let voiny [Russia and North
Caucasus: 400 Years of War]. Moscow: IRI RAN.