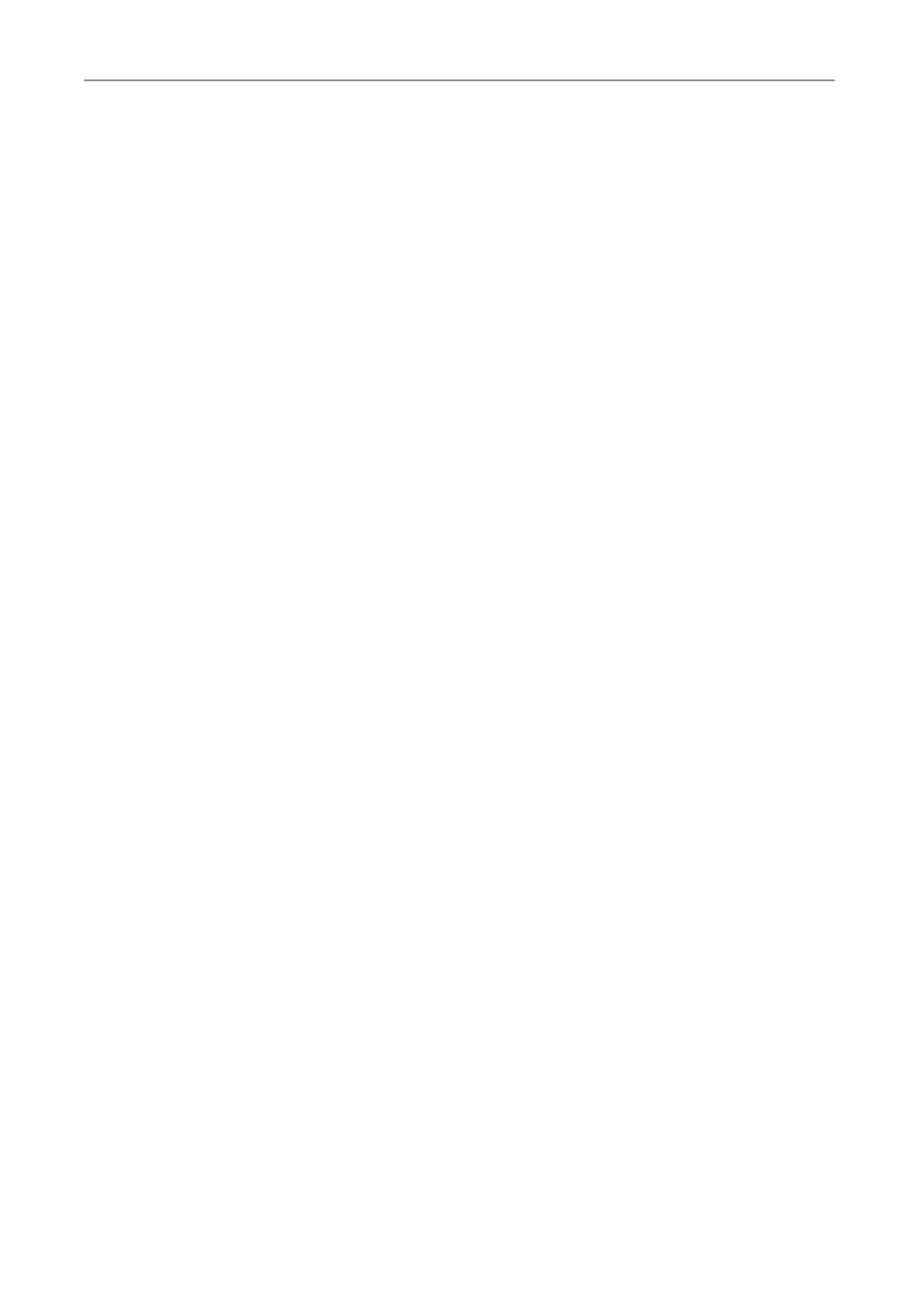ИССЛЕДОВАНИЯ МИГРАЦИИ И МИГРАНТОВ
МАТЕРИНСТВО В МИГРАЦИИ: СТРАТЕГИИ,
ВЫБИРАЕМЫЕ ЖЕНЩИНАМИ-МИГРАНТКАМИ
ИЗ СТРАН СРЕДНЕЙ АЗИИ
Е.Б. Деминцева
Екатерина Борисовна Деминцева
|
|
edemintseva@hse.ru | к. и. н., заведующая Центром качественных исследований соци-
альной политики Института социальной политики; доцент факультета гуманитарных
наук Школы философии и культурологии | Национальный исследовательский универ-
ситет “Высшая школа экономики” (Покровский бульвар 11, Москва, 109028, Россия)
Ключевые слова
женщины-мигрантки, материнство, трудовая миграция, Средняя Азия, Россия
Аннотация
В статье анализируется миграционный опыт матерей, уезжающих на заработки из стран
Средней Азии в Россию. На основании интервью рассматриваются ситуации, когда жен-
щины вынуждены оставлять детей на попечении родственников на родине и когда они
имеют возможность привозить детей в Россию. Делается вывод, что основными пробле-
мами, препятствующими совместному проживанию с детьми в миграции, являются не
только низкий заработок мигрантов и невозможность на первых порах снимать отдельное
жилье в России, но и ограниченный доступ к социальным институтам, таким как детские
сады или школы, запись ребенка в которые сопряжена с большими сложностями. При пла-
нировании жизни в другой стране с ребенком для женщины также важно, сможет ли она
заботиться о нем при ненормированном графике работы и обеспечить для него безопасное
пребывание в России.
Информация о финансовой поддержке
Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований
НИУ ВШЭ
последние годы исследователи пишут о смене гендерных ролей в семьях
мигрантов в связи с длительным пребыванием женщин в других стра-
В
нах на заработках (Ryan 2007; Erel 2009; Baldassar, Merla 2014). Одни
обращают внимание на то, что миграция дает женщинам возможность обрести
экономическую независимость и повышает их социальный статус в семьях и
странах происхождения (Castles, Miller 2003; Coyle 2007). Другие пишут, что
миграция создает условия для разрыва нового образа жены и матери с тради-
Статья поступила 28.02.2022 | Окончательный вариант принят к публикации 28.10.2022
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Деминцева Е.Б. Материнство в миграции: стратегии, выбираемые женщинами-ми-
грантками из стран Средней Азии // Этнографическое обозрение.
2023.
№ 1. С.102-122.
Demintseva, Е.B. 2023. Materinstvo v migratsii: strategii, vybiraemye zhenshchinami-migrantkami
iz stran Srednei Azii [Motherhood in Migration: Strategies of Migrant Women from Central Asia].
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
Деминцева Е.Б. Материнство в миграции...
103
ционным пониманием роли женщины в отправляющих обществах (Curran et
al. 2006; Brettell 2016). Часто мигрантке приходится оставлять ребенка (или не-
скольких детей) на родине с родственниками или знакомыми, жить с ним(и) на
расстоянии. И, как следствие, женщина не может выполнять ту роль, которую
отводит ей ее традиционное общество - матери, заботящейся дома о своих де-
тях (Brettell 2016).
Чтобы приспособиться к жизни на две страны, женщины меняют модель
взаимоотношений с детьми, заботясь о них на расстоянии (Hondagneu-Sotelo,
Avila 1997). Исследователи используют понятие “транснациональное материн-
ство”, понимая под ним следующее: “матери любой культуры, этнического и
социального происхождения живут в разных странах со своими детьми-ижди-
венцами и поддерживают эмоциональные, экономические и коммуникативные
связи через географические границы” (Cervantes 2016: 1). Женщины хотели бы
быть вместе с детьми и, как правило, намерены через какое-то время воссое-
диниться с ними по одну или другую сторону границы. Но они не могут это
сделать по экономическим, социальным и личным причинам.
Однако не всегда мать расстается с ребенком, она может привезти его с со-
бой в другую страну, но и в этом случае ее роль в семье меняется. В миграции
появляется проблема заботы о детях в условиях нехватки у женщины времени
на семью в связи с ненормированным графиком работы (Boyd 1989; Menjívar
2000; Barglowski, Pustulka 2018). Исследователи обращают внимание на важную
роль социального капитала в жизни мигранток, оказавшихся с детьми в другой
стране. Многие женщины активно используют социальные сети и включены
в сообщества земляков, так как иногда получают от них помощь в присмотре
за ребенком, а также информацию о возможностях жизни с ним в миграции -
по сути, им помогают быть матерью в новых условиях, рассказывают о дей-
ственных стратегиях при устройстве ребенка в школу, получении пособий и пр.
(Leah 2022).
В процессе исследования, посвященного жизни трудовых мигрантов из
стран Средней Азии в Москве и адаптации детей из семей мигрантов в шко-
лах России, я не раз общалась с женщинами-мигрантками. Несмотря на то что
исследование не было связано с темой материнства, многие мои информантки,
обсуждая во время беседы стратегии миграции и жизни в России, часто упоми-
нали и свою роль матери как первостепенную, и заботу о детях в сложной си-
туации нахождения вдали от них и от дома. Поэтому возникла идея написания
статьи, в которой анализируется роль материнства при планировании отъезда
из страны и жизни в миграции.
Миграция в Россию из стран Средней Азии за последние три десятилетия
стала масштабным явлением, но до сих пор не было работ, посвященных стра-
тегиям матерей в выборе заботы о детях в миграции - как при совместном,
так и при раздельном (на расстоянии) проживании с ними. В начале 2010-х
годов исследователи начали говорить о феминизации миграции из этого ре-
гиона: об увеличении потока женщин и их доли на российском рынке труда
(Тюрюканова 2011); анализировались причины миграции женщин из Средней
Азии в Россию и адаптация к новым условиям жизни (Бредникова, Ткач 2010;
Ryazantsev et al. 2014), трансформация гендерных отношений в среднеазиатских
семьях под влиянием миграции (Бредникова 2003; Полетаев 2016; Kholmatova
2018). Значительный корпус академической литературы посвящен роли жен-
щин-мигранток на рынке домашнего труда в России (Ткач 2009; Варшавская
2013; Карачурина 2015; Kholmatova 2018; Rocheva, Varshaver 2018). В целом
104
Этнографическое обозрение № 1, 2023
ряде публикаций акцентируется внимание на статусе женщины в миграции и
ее уязвимости во взаимодействии с принимающим государством (FIDH 2016;
Rocheva, Varshaver 2018; Kosmarskaya, Savin 2016). Есть работы, посвященные
отдельным темам, таким как риски ВИЧ-инфекций в миграции у среднеазиат-
ских женщин (Агаджанян, Зотова 2014) или же отношение к ним в родильных
домах России (Рочева 2014). Во всех этих исследованиях показаны проблемы,
с которыми сталкиваются мигрантки из стран Средней Азии в нашей стране, те
барьеры, которые им приходится преодолевать в российском обществе.
Тема материнства в миграции до настоящего времени на материалах стран
постсоветского пространства описывалась лишь в отдельных работах. Несколь-
ко статей А. Толстокоровой были посвящены женщинам, уехавшим из Украины
на заработки в Италию. В них рассматривались влияние миграции на институт
семьи (Tolstokorova 2010; Толстокорова 2013) и изменение гендерных ролей
в транснациональных семьях (Толстокорова 2012). Автор приходит к заклю-
чению, что эта трансформация затрагивает преимущественно матерей. Работы
Е. Борисовой посвящены транснациональным семьям в Таджикистане и роли
матери, уехавшей в миграцию (см., напр.: Борисова 2016). Автор делает вывод,
что женщины сохраняют свои обязанности по воспитанию детей и осуществля-
ют их с помощью современных средств коммуникации.
Эта статья описывает опыт матерей, приехавших из Кыргызстана, Узбеки-
стана и Таджикистана и на момент интервью пребывающих в России с детьми
или без них. Я анализирую практики проживания в России среднеазиатских
женщин и основные причины выбора ими той или иной стратегии в отношении
детей. В статье я покажу, как мигрантки обосновывают те решения, которые
они принимают, заботясь о своих детях, в зависимости от обстоятельств: мигра-
ционного статуса, семейного положения, рабочего графика, возможности съема
жилья, интеграции детей в российскую систему образования и др.
В статье я использую материалы исследований 2014-2021 гг., так как они
иллюстрируют то, с чем приходится сталкиваться женщине-мигрантке из Сред-
ней Азии в России в последнее десятилетие: социальная несправедливость,
сложности с легализацией на рынке труда, дискриминация (начиная от поиска
жилья и заканчивая произволом полиции). Все эти факторы также влияют на
принятие решения женщиной: жить с детьми в миграции или заботиться о них
на расстоянии.
Методология исследования
Выводы, сделанные в настоящей статье, основаны на анализе 35 интервью,
взятых мной из сформированных в разные периоды разных баз данных: 11 ин-
тервью были проведены в Москве в 2013 и 2014 гг., по четыре - в Томске и
Иркутске в 2018 и 2019 гг. Все три проекта были направлены на понимание
того, как мигранты из стран Средней Азии живут в городах России: каким обра-
зом находят работу, жилье, выстраивают свои социальные связи. Кроме того, 16
интервью были выбраны из базы данных исследования, которое было направле-
но на изучение интеграции детей мигрантов в школах. Эти интервью были взя-
ты в Москве, Подмосковье, Томске и Иркутске. Основной темой в разговорах с
женщинами из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана была адаптация их
детей в школе и взаимоотношения с учителями. Во многих интервью женщины
говорили не только об этом, но и о своей жизни и работе в России.
Все мигрантки, с которыми проводились интервью, были матерями. У девяти
Деминцева Е.Б. Материнство в миграции...
105
из них дети остались с родственниками на родине, у пяти - дети были разде-
лены (один/два ребенка жили с матерями в России, остальные - с родными в
стране исхода), у 21 - дети жили с ними в миграции. Большинство женщин на
момент интервью были замужем (N=28), но среди них были и вдовы (N=3), и
разведенные женщины (N=4)1. Среди используемых мной интервью два взято у
женщин, чьи дети уже достигли совершеннолетия, но информантки рассказали
о своем опыте материнства в миграции в предыдущие годы.
У выборки есть свои ограничения: в моем случае большинство интервью
были проведены с женщинами, дети которых живут с ними в миграции и учатся
в российских школах, что обусловлено методологией одного из исследований,
базой которого я пользуюсь. В целом же большинство женщин из стран Сред-
ней Азии приезжает на заработки без детей (Demintseva 2020). Но на анализ,
который я делаю в данной статье, эта выборка не влияет, так как я хочу показать
возможные сценарии, которые осуществляют матери в миграции в отношении
заботы о своих детях. И для такого подхода выборка репрезентативна и позво-
ляет увидеть различные стратегии, выбираемые мигрантками.
Возраст информанток от 24 до 54 лет. Все они хотя бы раз во время беседы
упоминают опыт материнства и заботы о детях в миграции. Часть интервью
были зафиксированы на диктофон (именно эти тексты я цитирую в статье),
часть описаны мной в дневнике наблюдений (их я использую при изложении
своими словами ситуаций, рассказанных женщинами).
Теоретическая рамка
Я выстраиваю свое исследование вокруг двух концептов: “транснациональ-
ное материнство” и “транснациональная семья”. “Транснациональное мате-
ринство” обозначает явление, при котором матери вынуждены оставлять сво-
их детей в стране своего происхождения, чтобы иметь возможность работать в
принимающей стране (Hondagneu-Sotelo, Avila 1997). В работах, основанных на
этом концепте, анализируются отношения между матерями-мигрантками и их
детьми, оставшимися на родине. Исследователи пишут об изменениях гендер-
ных норм, существующих в отправляющем обществе. Женщины, уезжающие
на заработки, нарушают традиционные представления о роли жены и матери
в семье, принятые в их социуме (Hondagneu-Sotelo, Avila 1997; Dreby 2006;
Gamburd 2008). Муж перестает быть единственным кормильцем, а жена больше
не выполняет единственную функцию домохозяйки, которая заботится о муже и
детях. Авторы этих работ отмечают, что семьи, в которых есть матери-мигрант-
ки, часто сталкиваются с социальной стигмой у себя на родине.
Также в исследованиях обсуждаются новые практики взаимодействия мате-
ри и ребенка на расстоянии, когда ребенок остается на родине, а мать уезжает в
другую страну на заработки. Так, в 1997 г. журнал Gender & Society опубликовал
статью о латиноамериканских женщинах, работающих нянями и уборщицами в
Лос-Анджелесе, в которой говорится, что знания, полученные в американских
семьях, помогают мигранткам построить новые отношения со своим ребенком,
оставшимся на родине (Hondagneu-Sotelo, Avila 1997). Исследование, анализи-
рующее изменение роли шриланкийских женщин, отправляющихся на работу
горничными на Ближний Восток, показывает важную роль расширенных се-
мей и “новых матерей” (как правило, близких родственниц), на чьем попечении
остаются дети (Gamburd 2008). Это и другие исследования часто развенчивают
существующие в публичном дискурсе мифы о брошенных детях, подвергаю-
106
Этнографическое обозрение № 1, 2023
щихся рискам дома без матери (Olwig 2012; Åkesson et al. 2012). На примере
миграции из Кабо-Верде в Европу и Северную Америку Л. Окессон с соавтора-
ми показывает, что длительное отсутствие матери создает новые нормы в семье
в условиях транснациональной жизни, а “временная” и биологическая матери
играют взаимодополняющие роли (Åkesson et al. 2012).
Одновременно с появлением исследований, посвященных транснацио-
нальному материнству, был разработан концепт “транснациональная семья”
(Bryceson, Vuorela 2002). Транснациональные семьи определяются как семей-
ные группы, члены которых некоторое время или большую часть времени жи-
вут отдельно друг от друга, но сохраняют «чувство коллективного благополучия
и единства, короче говоря “семейственности”, даже за пределами националь-
ных границ» (Bryceson, Vuorela 2002: 18). Сегодня этот концепт позволяет шире
взглянуть на тему материнства в миграции, изначально же он включал в себя по-
нятие “транснациональное материнство”, поскольку исследования транснацио-
нальных семей были сосредоточены на анализе транснациональных отношений
между членами одной семьи (Parreñas 2001; Dreby 2006). Однако с 2010-х годов
в социальных науках все чаще стали рассматривать детей как активных аген-
тов транснациональных семейных практик (Mazzucato, Schans 2011), отказались
от дуальности в исследованиях, а транснациональные семьи стали анализиро-
ваться как живущие в постоянном состоянии соприсутствия (Sørensen, Vammen
2014). Новый взгляд на транснациональные семьи позволяет говорить о непре-
рывном движении семьи, изменении локации разных ее членов и в связи с этим
о новых формах взаимоотношений между ними. Этот концепт подходит для ана-
лиза ситуаций приезда детей мигрантов к своим матерям и возможного отъезда
впоследствии. Как я покажу ниже, сложно говорить о какой-то определенной
модели для каждой семьи, поскольку транснациональные практики меняются
в зависимости от правового статуса ее членов, социально-экономической кате-
гории, к которой они относятся, и, в частности, от длительности проживания в
стране (Ducu 2018).
В данной статье оба концепта дополняют друг друга. Через “транснаци-
ональную семью” можно увидеть меняющиеся практики и стратегии мате-
рей-мигранток в зависимости от целого ряда факторов: социального и право-
вого статусов в стране, семейных отношений и дискриминационных практик в
отношении определенных этнических групп. Тогда как через “транснациональ-
ное материнство” можно проанализировать опыт заботы женщин-мигранток о
детях. Находясь за тысячи километров от своих детей, женщины не снимают с
себя обязанности по уходу за ними, переделывая практики материнства, обме-
нивая свое физическое присутствие и заботу на их материальное благополучие
(Hondagneu-Sotelo, Avila 1997; Parreñas 2005).
Миграционные стратегии женщин с детьми
Женщина, имеющая детей, уже на стадии планирования отъезда в другую
страну должна определить для себя, останутся ли дети на родине или поедут с
ней. Основной вопрос для матери: кто будет заботиться о детях, пока она будет
на заработках? Будут ли дети под опекой близких в нескольких тысячах кило-
метрах от нее, или же она сможет заботиться о них в миграции? В интервью
матери говорят о том, что в первые годы жизни в России большинство из них
оставляли детей на родине. Как правило, женщина договаривалась со своими
родителями, с родителями мужа или же со своими семейными братьями либо
Деминцева Е.Б. Материнство в миграции...
107
сестрами, что те будут заботиться во время ее отъезда о детях. Многие говори-
ли об этом решении как сложном для них. Большинство моих информанток до
отъезда были домохозяйками, постоянно проводящими время дома с детьми.
Те же, кто работал, не расставались с детьми надолго. Для большинства ма-
терей, уезжавших впервые в миграцию, это было первое долгое расставание
с ребенком.
Все собеседницы, рассказывая о решении оставить дома ребенка, подчер-
кивали, что знали до отъезда, в каких условиях они будут жить в России. Боль-
шинство уезжало к мужьям, родственникам или близким знакомым, которые
помогали им с работой. Многие понимали, что первое время они будут ночевать
с несколькими людьми в одной комнате, а некоторые даже не имели представ-
ления о том, кто будет их соседями. Женщины знали от своих соотечественниц,
работавших в России, о ненормированном графике работы и сложностях с ле-
гализацией, поэтому они принимали решение оставить хотя бы на первое время
детей на родине, будучи уверены, что им будет лучше в привычной среде под
присмотром родственников.
Варианты, кому доверить детей на родине, могут быть разными. Многие
женщины старались оставить детей со своей матерью или своими родителями.
“Сестра предложила поехать, денег заработать. Папа как раз только умер, мы с
мамой и тремя детьми остались. Надо было их кормить. Мы с мамой решили,
что я уеду, буду зарабатывать деньги и кормить семью” (Женщина из Узбеки-
стана, трое детей, с мужем в разводе). По признанию некоторых информанток,
оставляя детей со своей матерью, они были уверены, что пересылаемые деньги
будут потрачены только на их содержание. Кроме того, со своей матерью проще
быть в постоянном контакте, следить за тем, что происходит дома. “Я посто-
янно с мамой на связи. WhatsApp чаще всего. Я утром поговорю с ней, потом
узнаю, как дети из школы вернулись. Я знаю, где они, куда пошли, что ели”
(Женщина из Кыргызстана, двое детей, вдова).
Некоторые женщины, работая в России, могли обеспечить достойное про-
живание на родине не только детям, но и своим пожилым родителям.
Я оставила дочку маме. Посылала ей сначала немного денег, но отдавала большую часть
заработанного мужу и свекрови. Потому что там была моя семья (она жила после заму-
жества и до отъезда в Россию в семье мужа. - Е.Д.). Но я была рада, что дочка с мамой
получают от меня немного денег, я знала, что они не голодали. Когда муж умер, оказа-
лось, что у меня денег больше нет. То, что я отдавала свекрови, все пропало куда-то.
Я теперь деньги трачу только на маму и дочку. Я знаю, куда идут деньги. На ремонт дома,
на образование. Она английским занимается на курсах. Очень жалею, что давала деньги
свекрови, я бы много скопила за эти годы (Женщина из Кыргызстана, уезжала с мужем,
потом овдовела, один ребенок).
В других случаях более доверительные отношения складывались со свекро-
вью, как, например, у моей информантки из Узбекистана, которая выражала на-
дежду, что родители мужа смогут безбедно жить на родине с ее детьми, так как
своим заработком они с супругом обеспечивают им достойное существование.
Таким образом, для многих женщин забота о детях перекликается с заботой об
оставленных дома родителях. Мои собеседницы, высылая деньги на содержа-
ние детей, не забывали и о том, что оставили их на своих родителей, у которых
небольшая пенсия, а эти деньги позволяют хорошо питаться всей семье, в кото-
рой живут их дети.
В том случае, если женщина замужем, решение о том, с кем остаются дети,
принимается и семьей мужа.
108
Этнографическое обозрение № 1, 2023
- Муж заболел, денег совсем не стало. Я спросила сестру, можно ли поехать с ней
в Москву. Она сказала, что найдет работу.
- Вы детей с кем оставили?
- Дочку со свекровью. А сына у матери.
- Почему?
- Свекрови тяжело с двумя было бы. А сына мы потом забрали. Дочка привыкла за
несколько лет к свекрови и не хочет уезжать. Нас почти не знает (Женщина из Кыргыз-
стана, замужем, двое детей).
Такой вариант, когда дети “делятся” между родственниками, нередкий:
одних могут оставить с одной бабушкой, других - с другой или с какими-то еще
близкими родственниками. Женщины указывали на то, что с каждой стороной
отдельно велись переговоры: сколько будет высылаться денег на содержание
ребенка, какие будут условия его проживания.
Иногда мигрантки приезжают в Россию с детьми. Как правило, это проис-
ходит в том случае, если муж долгое время был здесь на заработках, получал
стабильный доход и мог снять комнату для семьи до ее приезда.
Первый раз, когда я приехала в миграцию, было все просто. Муж снял комнату к нашему
приезду, мы с дочкой и мужем жили в ней. Потом я развелась с мужем и вернулась с доч-
кой в Ош. Через несколько лет я опять решила уехать в Россию, но оставила младшую
дочь (которая родилась уже на родине от другого брака. - Е.Д.) с семьей старшей сестры.
Одна я не могу снять комнату для меня и дочки. Поэтому она осталась там (Женщина их
Кыргызстана, была замужем, развелась, повторно вышла замуж, двое детей).
Именно условия жизни, в которых оказываются мигранты в принимающей
стране, являются главным аргументом в пользу того, что матери на этапе отъез-
да расстаются с ребенком и доверяют его своим близким. Не имея опыта прожи-
вания в России, не сталкиваясь лично с проблемами, женщина принимает такое
решение исходя из опыта других мигрантов и их представлений о пребывании
в чужой стране. Бывают ситуации, когда не остается ничего другого, кроме как
привезти ребенка с собой, даже если условия не позволяют. Но в известных
мне кейсах такие решения принимались только из-за непредвиденных обсто-
ятельств, таких как смерть или болезнь родственника, на которого оставили
ребенка.
Я привезла дочку в январе (в Москву. - Е.Д.), потому что умерла моя мама. Это произо-
шло неожиданно, мы не планировали, что она будет здесь с нами (женщина с мужем. -
Е.Д.). Мы живем с братом и его женой в комнате. Все работают. Она одна почти весь
день. Иногда у нас ночные смены, и мы днем дома. Но чаще мы спим (Женщина из
Узбекистана, замужем, один ребенок).
Еще одна информантка из Кыргызстана перед отъездом оставила одного из
двоих детей с матерью, а другого со свекровью. Когда мать умерла, свекровь от-
казалась брать на себя еще одного ребенка, и супруги вынуждены были забрать
девочку в Москву. Это было начало 2010-х годов, тогда многие мигранты жили
в подвалах домов. Девочка целые дни проводила в подвале, так как для мигран-
тов мест в детском саду не было и, по словам матери, смотрела целыми днями
телевизор. Когда девочке исполнилось семь лет, ее смогли записать в школу, и
часть дня она проводила там.
Выбирая миграционную стратегию, матери еще на стадии отъезда старают-
ся решить проблему заботы о детях. Большинство останавливается на расстава-
нии с детьми - мигрантки знают о тех условиях, в которых будут жить и рабо-
Деминцева Е.Б. Материнство в миграции...
109
тать. Понимая, что это оптимальное решение, практически все они надеются,
что через какое-то время смогут привезти детей в Россию или сами вернуться
домой. Дальнейшие практики заботы о детях зависят от целого ряда личных,
экономических и социальных факторов.
Забота о детях в иммиграции
Айперим2, приехавшая с мужем 12 лет назад в Москву, знала об условиях
жизни в России для трудовых мигрантов и планировала, что первое время они
будут жить без дочки. Через год супруги смогли накопить денег на отдельную
комнату в квартире, которую снимали с другими мигрантами на окраине города,
и привезли ребенка и мать Айперим. Предполагалось, что девочка будет прово-
дить время с бабушкой, пока родители работают. Через полгода после воссое-
динения семьи в Москве у мужа Айперим возникли проблемы с документами,
и ему пришлось срочно вернуться в Кыргызстан. Айперим, хотя очень хотела
быть рядом с дочерью, была вынуждена отправить девочку с бабушкой домой,
так как без заработка мужа уже не могла позволить себе снимать отдельную
комнату. Уехать вместе с ними она тоже не могла, поскольку семья расплачива-
лась с долгами в Кыргызстане и ее заработок был жизненно важен.
Похожая ситуация возникла и у Нургул. Приехав в Томск к мужу, женщина
через какое-то время родила ребенка и собиралась жить с семьей в России.
Несколько месяцев она кормила ребенка и не могла работать. Быстро выясни-
лось, что заработка мужа не хватает, чтобы снимать отдельную комнату для
троих. Тогда Нургул вернулась в Кыргызстан, провела там несколько месяцев
с младенцем и вернулась в Россию уже без сына. Ей пришлось оставить ре-
бенка на родине, так как им с мужем надо было зарабатывать деньги, а воз-
можности отдать сына в ясли или же оставлять на день с няней у них не было.
Через четыре года Нургул удалось привезти мальчика обратно, поскольку она,
муж и сын получили российское гражданство и смогли оформить ребенка в
детский сад.
И Айперим, и Нургул были вынуждены на время расстаться с детьми, так
как если один из родителей не мог по каким-то причинам работать, тут же воз-
никали финансовые проблемы и, как следствие, не было возможности снимать
отдельное жилье. Даже если оба родителя (или мать) легализовываются в стра-
не, из-за отсутствия программ предоставления социального жилья мигрантам
им приходится рассчитывать только на собственные силы и связи, они снимают
комнаты по цене рынка, у них нет никаких льгот.
Из примеров этих двух женщин видно, что основной проблемой для со-
вместного проживания с детьми, наряду с низким заработком мигрантов и не-
возможностью на первых порах жизни в России снимать отдельное жилье, яв-
ляется ограниченный доступ к социальным институтам. Даже если родители
могут позволить себе оплачивать отдельную комнату, возникает вопрос заботы
о ребенке в условиях миграции. Так, они не могут записать ребенка в детский
сад, что связано с лимитом мест и необязательным дошкольным образованием
в России.
В первом случае (Айперим) девочку планировали оставлять с бабушкой, так
как мигрантам обычно отказывают в местах в детских садах из-за их перепол-
ненности. До 6-7 лет, т.е. до поступления в школу, ребенок может оставаться
либо с родственниками (а привезти их не всегда получается), либо с няней - но,
как правило, денег на няню или частный детский сад у мигрантов нет.
110
Этнографическое обозрение № 1, 2023
Здесь для местных (россиян. - Е.Д.) детских садов мало, а приезжих тем более не берут.
Я бы с удовольствием отдала детей. У меня два годика сыну и дочке четыре года. Дочка
очень активный ребенок. Я ходила (в детский сад. - Е.Д.), разговаривала. Мне сказали:
“Приезжих мы не принимаем”. Из-за этого мы дома (Женщина из Узбекистана, замужем,
четверо детей).
Во втором случае (Нургул) женщина вынуждена была вернуться с ребен-
ком в Кыргызстан и оставить его со своей мамой. Эта ситуация довольно рас-
пространена у молодых родителей-мигрантов. Если женщина может работать
практически до родов, то после рождения ребенка она должна заботиться о
младенце. Даже если родителям удалось снять отдельную комнату, то, как от-
мечали многие информантки, через несколько месяцев после родов начинаются
финансовые сложности, так как зарабатывает один муж, а с рождением ребен-
ка расходы увеличиваются. И женщина принимает решение хотя бы на время
отдать ребенка своим родителям, которые остались на родине. В двух интер-
вью мне встретился и другой вариант: за маленьким ребенком присматривала
старшая дочь. Обе женщины привезли с родины девочек-подростков, оставлен-
ных несколько лет назад с родственниками, и поручили им заботу о младенцах.
Девочки 12 и 14 лет не ходили в школу и проводили целый день дома3.
Женщины, которые хотят жить в России с детьми, стараются планировать
свои шаги так, чтобы привезти ребенка в страну к первому классу (Омельченко
2018). Поскольку школьное образование по закону должно быть доступно для
всех детей, они надеются, что смогут записать ребенка в школу и тем самым
обеспечить хотя бы на часть дня присмотр за ним. Однако многие встречаются с
барьерами на этом пути: необходима регистрация в районе, относящемся к шко-
ле, а регистрацию приезжие могут только купить (Деминцева, Пешкова 2014;
Demintseva 2017; Malakhov, Simon 2018). Кроме того, некоторые школы под раз-
ными предлогами отказывают в зачислении детей мигрантов (Demintseva 2020).
“Я не привожу сюда сына, потому что я не уверена, что его возьмут в школу.
У моих соседей по квартире (кыргызов. - Е.Д.) есть российское гражданство,
их детей приняли в школу. Но у других нет, они не смогли записать ребенка в
школу, и мальчик год сидел дома. Потом отвезли его на родину” (Женщина из
Кыргызстана, вдова, мать двоих детей). Поскольку мигрантам сложно противо-
стоять государственным институтам, многие не пытаются узнать все правила и
законы, а иногда просто боятся идти наперекор “людям от власти”, и некоторые
дети просто не ходят в школу.
О проблемах зачисления детей в школу рассказывали многие женщины. Еще
несколько лет назад запись осуществлялась непосредственно в учебных заве-
дениях, поэтому зачастую мигранты сталкивались с тем, что директора школ
отказывали им, ссылаясь на нехватку мест. Сейчас заявление о приеме ребенка
в образовательное учреждение можно подать в электронном виде, но проблема
остается. В лучших школах города, как правило, все места оказываются заняты
практически сразу после открытия записи. Мигранты, по свидетельству дирек-
торов школ, чаще всего оформляют детей перед учебным годом (Demintseva
2020). Это связано с тем, что регистрацию в целях экономии приобретают в
последних числах августа и в эти же сроки обычно привозят ребенка. Таким
образом, чаще всего дети попадают в школы, в которых остались места. И, как
правило, это школы с низким рейтингом.
Кроме того, значимую роль играет социальный статус мигранта. Исследо-
ватели, изучавшие отношение москвичей к выходцам из стран Средней Азии,
пишут, что наши СМИ формируют образ некоего усредненного, со “своей куль-
Деминцева Е.Б. Материнство в миграции...
111
турой” и без знания языка, “несущего угрозу российскому обществу” мигранта
(Зайончковская и др. 2014). Несмотря на то что некоторые мои информантки
имели высшее или специальное техническое образование, в миграции они ра-
ботали в основном уборщицами. Многие высокорейтинговые школы старают-
ся не брать детей из Средней Азии, так как администрация предполагает, что
они встретятся с проблемами адаптации в связи с происхождением и низким
социальным статусом родителей (Demintseva 2020). Одну из информанток,
при попытке оформить ребенка в школу в Москве, уверили, что иностранец не
имеет права учиться в России. После этого она не пыталась записать сына в
школу, и мальчик несколько месяцев провел дома, а потом его отвезли обратно
на родину.
Стратегии матерей часто зависят от возможности (или невозможности)
включения детей в государственную образовательную структуру. Женщины,
привозящие детей, часто надеются на поддержку соотечественников: как по-
казали интервью, большую часть информации они узнают не из официальных
источников, а от родственников, знакомых, из групп своих земляков в социаль-
ных сетях, в которых обсуждаются в том числе и вопросы заботы о детях. Одна
из женщин, у которых я брала интервью, попросила о помощи своего родствен-
ника - его дети уже учились в одной из школ Иркутска, и было известно, что
там готовы закрыть глаза на какие-то документы и принять ученика-мигранта.
Но такая информация о “записывающих к себе детей мигрантов школах” есть
не у всех, поэтому многие не решаются привезти ребенка, так как боятся, что в
России не смогут не только обеспечить ему уход, но и дать образование.
При отсутствии поддержки государства и ограниченных доходах часть жен-
щин, даже если не хочет расставаться с ребенком, отказывается от идеи забрать
его в Россию. Пожалуй, самым важным в этой ситуации для матери становит-
ся поиск возможностей обеспечить ребенку те внимание и заботу, которые он
получал от нее на родине. Из 35 женщин, интервью с которыми я использую,
только одна не работала и проводила время с детьми. Это было связано с дли-
тельным пребыванием семьи в России и достаточными для содержания семьи
заработками мужа, который был предпринимателем и занимался частным стро-
ительством. У всех 34 работающих информанток были ненормированный гра-
фик, ночные смены, один выходной в неделю и пр. Все женщины понимали, что
с таким режимом жизни и работы они не могут заботиться о детях так, как, по
их мнению, это необходимо.
“Ему лучше там, я могу дать ему больше”
Гуля вдова, много лет она работает в Москве уборщицей. Кроме основной
работы у нее есть подработка: в выходные дни она занимается частной уборкой.
Ее дочь и сын живут с бабушкой (мамой Гули) в небольшом селе в Ошской об-
ласти. Оба ходят в школу. Девочка любит английский, а мальчик почти каждый
день посещает разные кружки, и Гуля оплачивает языковые курсы дочери и
занятия сына. “Я не смогла бы дать все это своим детям здесь. Там они посе-
щают дополнительные занятия, моя мама всегда рядом с ними. Они всегда под
присмотром. Здесь я работаю каждый день, что бы делал после школы мой сын
в Москве?”
Чинара и ее муж много лет работают в Москве. Их дети живут у сестры
Чинары в небольшом городе в Узбекистане. У сестры своих трое детей. “Доч-
ка хорошо учится. Сын сейчас в десятом классе, он второй год занимается с
112
Этнографическое обозрение № 1, 2023
репетитором английским языком. У него мечта в дальнейшем куда-то за грани-
цу поехать учиться”, - рассказывает Чинара. Она считает, что ее дети находятся
в более выгодном положении, оставшись на родине, нежели если бы они жили
в Москве. Еще до отъезда женщина обговорила с сестрой, сколько денег она
будет высылать на еду для детей и на их дополнительное образование, в том
числе на репетиторов. Благодаря деньгам, заработанным в миграции, Чинара
может обеспечить своим детям условия для качественного обучения дома, в
привычной для них среде.
Многие матери, оставившие сыновей/дочерей дома, говорили, что доходы,
полученные в России, помогают им дать детям лучшее образование, чем то,
которое получают их сверстники на родине. Одна из информанток рассказала,
что записала сына в частную турецкую школу в Кыргызстане и надеется, что
он продолжит образование в Турции. Другая - о том, что смогла выбрать для
своего ребенка лучшую школу в городе и оплачивает дополнительные занятия.
Как правило, расходы на эти кружки контролируют родственники, с которыми
дети остались дома.
При этом все эти матери знают, что в России образование качественнее, чем
в их странах (особенно в небольших городах и деревнях, откуда родом боль-
шинство моих информанток). Но у них есть два аргумента в пользу того, что
при выборе школы все же стоит склоняться к образовательному учреждению
на родине. Во-первых, по опыту их знакомых, детей мигрантов в России берут
не во все школы, как правило, они попадают в учебные заведения с самыми
низкими рейтингами - об этом говорили мамы, и это подтверждают наши ис-
следования (Demintseva 2020). Поэтому в разговорах упоминалось, что лучше
отдать ребенка в лучшую школу на родине, чем в худшую в России. Во-вторых,
для женщин был важен вопрос отношения к их детям в образовательном
учреждении. В интервью матери школьников говорили об иногда предвзя-
том отношении некоторых учителей к детям мигрантов. Так, мама четверых
детей, родом из Самарканда, рассказала, что ей пришлось перевести сына в
другой класс из-за постоянных претензий учительницы. А другая мама упомя-
нула о том, что в старшей школе одна из учительниц постоянно поддевала ее
дочь, указывая на ее происхождение. Многие родители детей мигрантов знают
о подобных ситуациях, хотя в интервью предпочитают не говорить об этом.
С некоторыми информантками после нескольких встреч у меня установились
доверительные отношения, и они рассказывали о случаях дискриминации де-
тей. Поэтому опасение, что их ребенок может столкнуться с травлей на этни-
ческой почве, выступает еще одним аргументом в пользу того, чтобы оставить
его на родине.
Кроме страха перед школой, у матерей есть страх перед государством в
целом. Это связано с тем, что люди боятся не понять закон или нарушить его
случайно. Многие имеют опыт задержания полицией и проверки документов
прямо на улице, и, как говорили информантки, они никогда не знали, чем все
это закончится, даже если были все необходимые “бумаги”. Так, женщина из
Кыргызстана рассказывала, что сняла с дочкой и мамой комнату по объявле-
нию. В другой комнате жили тоже мигранты - женщина из Таджикистана со
взрослыми сыновьями. Однажды одного из сыновей соседки задержала поли-
ция. Стали выяснять, где он живет, и юноша вынужден был показать кварти-
ру. Как и у большинства мигрантов, которые арендуют жилье, регистрации по
месту проживания ни у кого в этой квартире не было. У моей информантки
была купленная регистрация. Полиция вызвала хозяина и потребовала всех
Деминцева Е.Б. Материнство в миграции...
113
выгнать. Моя знакомая была вынуждена на следующей день собрать вещи и
уйти из квартиры. Быстро найти отдельную недорогую комнату сложно, поэто-
му она смогла арендовать только койко-место.
В той квартире было три комнаты. В одной была я с мамой и дочкой и семейная пара.
В двух других и мужчины, и женщины. Я очень беспокоилась, когда уходила на работу,
как там дочка. Я не знала никого в квартире, боялась за нее. Через несколько недель
я скопила денег на билет и отправила их домой (в Кыргызстан. - Е.Д.) (Женщина из
Кыргызстана, на момент интервью вдова, мать одного ребенка).
Вопросы безопасности детей одни из приоритетных для матерей при вы-
боре стратегии заботы о них. Если говорить об этом аспекте, то необходимо
отметить, что приезд в Россию сопряжен для женщин с несколькими большими
проблемами. Первая - безопасность ребенка в съемном жилье. Как уже говори-
лось, мигранты чаще всего привозят детей, если могут арендовать отдельную
комнату для семьи. Кроме того, многие отмечали, что они либо делят квартиру
со знакомыми, либо выбирают “безопасное соседство”.
- Я живу с дочкой и сестрой. В квартире с двоюродным братом. Но нашу квартиру долж-
ны продать хозяева, и я ищу комнату.
- Как Вы ищете?
- В наших кыргызских группах. Там можно найти. Но я ищу, чтобы в других комнатах
тоже были женщины. Моей дочке 16 лет, я боюсь за нее. Нельзя жить в квартире с моло-
дыми парнями. Я нашла комнату на Планерной, в другой девушки живут. Говорят одни.
Но там парни были, к ним приходят. Мне это не нравится. Поэтому еще ищу (Женщина
из Кыргызстана, в разводе, двое детей, дочь живет с мамой).
В результате женщина смогла найти комнату в двухкомнатной квартире, где
соседками были женщины 40-50 лет, которые, по признанию информантки, не
искали встреч с мужчинами. Поэтому она была спокойна за безопасность своей
дочери.
Многие женщины боятся, что в миграции, в условиях проживания в мно-
гонаселенной квартире с незнакомыми соседями, с ребенком может произойти
все, что угодно, вплоть до физического насилия. Мои информантки с такими
случаями не сталкивались, или же они о них не рассказывали, но в своих исто-
риях отмечали, что хотят жить со знакомыми людьми или договариваются с
родственниками о съеме квартиры, чтобы ребенок жил в безопасном месте.
Мамы предпочитают подождать с приездом детей, если они не могут обеспе-
чить безопасное жилье.
Вторая проблема - безопасность на улице. Здесь уже звучала тема отноше-
ния к детям мигрантов, которые внешне отличаются от большинства населе-
ния. “Я говорю сыну - ты не уходи из двора. Тебя остановят (полиция. - Е.Д.),
попросят документы. Меня вызовут или папу, будут документы все проверять.
У меня все документы есть, но все равно что-нибудь найдут”, - делится женщи-
на из Узбекистана. Информантка из Кыргызстана рассказывает, что не пускает
свою 16-летнюю дочь по вечерам гулять, так как боится, что ее также остановит
полиция и придется вызволять ее из отделения. Матери, особенно подростков,
испытывают страх не столько перед тем, что с их детьми может что-то случить-
ся, когда они гуляют с друзьями, сколько перед властью в лице полиции, от
которой ждут проверки документов и возможных последствий.
Третья проблема - безопасность в новом обществе, в котором у ребенка по-
является большая свобода, нежели на родине. Эта тема много раз обсуждалась
не только с матерями, но и с детьми мигрантов, достигшими 16-летнего воз-
114
Этнографическое обозрение № 1, 2023
раста. Дети не приводят друзей домой, так как нет условий для приема гостей.
Родители боятся новой компании, которая для них часто остается неизвестной.
Они не знают родителей друзей своих детей - в большом городе нет круга зна-
комых (многие происходят из небольших селений или же городов, где зачастую
семьи друг с другом знакомы). Поэтому некоторые матери предпочитают остав-
лять ребенка на родине, так как он продолжает жить в привычной среде.
Все эти аргументы в пользу безопасности детей, остающихся на родине,
приводились информантками в разговорах со мной. Даже если у женщины по-
является возможность привезти ребенка в Россию, она не всегда это делает,
считая, что дома ему будет лучше. Есть те сферы жизни, которые мать не мо-
жет контролировать, такие, например, как отношение к ребенку принимающего
общества или же его безопасность. Имея опыт жизни в России, сталкиваясь
иногда с проявлениями агрессии или ксенофобии в отношении самих себя, жен-
щины не хотят, чтобы такой опыт приобретал их ребенок.
* * *
Как показывает исследование, матери-мигрантки из стран Средней Азии
повторяют основные миграционные стратегии, которые мы видели, например,
у матерей из стран Латинской Америки в США (Hondagneu-Sotelo, Avila 1997)
или из Восточной Европы в Великобритании и Германии (Barglowski, Pustulka
2018). Женщина постоянно находится в поисках оптимального решения: как
совместить материнство с жизнью в миграции. Как и большинство женщин,
уезжающих на заработки, имеющих ненормированный рабочий день и тяжелые
условия проживания в другой стране, женщины из Средней Азии предпочитают
хотя бы в первые годы миграции оставлять детей на родине. Непростое реше-
ние о работе в другой стране и последующие переговоры с родственниками
лежат в основе выбора миграционной стратегии на начальном этапе. Во время
подготовки к отъезду для женщины остается самым главным вопрос заботы о
детях и, следовательно, доверия к тем людям, с которыми она их оставляет. Для
матерей важно, что они обеспечивают финансовую поддержку и своих пожи-
лых родственников, на чьем попечении будут дети.
Транснациональное материнство, предполагающее заботу о детях на рас-
стоянии, является одной из наиболее часто встречающихся стратегий женщин
из Средней Азии в первые годы жизни в России. Существующие недорогие
средства коммуникации, такие как, например, WhatsApp, облегчают постоянное
общение детей и родителей, в том числе эмоциональное. Как правило, матери
в течение дня контролируют детей, находясь на связи с ними и их опекунами.
Как показало исследование, женщины выстраивают новые практики взаи-
моотношений с детьми на расстоянии. Эти практики похожи на те, которые мы
отмечали в работах коллег из других стран о транснациональном материнстве
(Gamburd 2008; Olwig 2012; Åkesson et al. 2012). Как правило, тот, кто остается
на родине с ребенком, является посредником взаимодействия матери и ребенка.
Выстраивается своего рода треугольник, в котором у каждого появляются свои
роли, в том числе и у “новой матери”. Транснациональное материнство пред-
полагает постоянное приспособление к существующим обстоятельствам. Так,
женщина может оставить детей с несколькими опекунами на родине, если не
найдет одного, готового заботиться обо всех сразу.
Вторая стратегия, которую выбирают матери, - совместное проживание в
миграции с ребенком или с несколькими детьми. Здесь стоит выделить два мо-
Деминцева Е.Б. Материнство в миграции...
115
тива, по которым женщина идет на такой шаг. В первом случае это тщательно
продуманные действия (заранее выбираются жилье, место учебы ребенка, со-
бираются все необходимые документы для легализации в России), за которыми
стоит осознание перспектив для себя и своего ребенка в стране пребывания.
Обычно переезд осуществляется через несколько лет жизни женщины (или
мужа и жены) в России. Но бывают моменты, когда выбранная стратегия может
поменяться в одночасье, например, в связи с болезнью или смертью родствен-
ника, с которым жил ребенок на родине, и тогда мать вынуждена забирать его к
себе. Это второй случай - вынужденное совместное проживание с детьми. Как
правило, при таком внезапном переезде все вопросы, связанные с организацией
пребывания детей в России, решаются в экстренном режиме. Интервью показы-
вают, что обычно у женщины нет возможности быстро наладить жизнь ребенка
и заботу о нем в иммиграции.
Даже если мать решила (планируя это заранее или нет) привезти одного или
нескольких детей в Россию, в связи с различными обстоятельствами это реше-
ние не может быть окончательным. Прежде всего в силу “документированной
неопределенности” (documentary uncertainty), когда женщина, даже имея на ру-
ках все необходимые документы для жизни и работы, не может быть уверена
в том, что она и ее близкие не пострадают из-за проблем “с бумагами” (Reeves
2015). Так, мигрантам в России сложно добиться от собственников квартир
предоставления регистрации по месту жительства, поэтому чаще всего они по-
купают регистрацию (Malakhov, Simon 2018) - а это документ необходимый и
для жизни в нашей стране, и для оформления детей в школу. Мигрант никогда
не знает, закроет полиция при проверке документов глаза на это или же нет,
может возникнуть ситуация, при которой документ будет признан поддельным
(напр., полиция попросит показать место проживания мигранта) (Reeves 2015).
Ситуация может повториться при приеме детей в школу. Мигрант, приходя за-
писывать ребенка, никогда не знает, примет ли администрация образователь-
ного учреждения документ о регистрации или же заявит, что он сделан не по
той форме, попросит показать место проживания ребенка либо найдет другие
причины для отказа.
Для матери-мигрантки вопрос привозить детей в Россию или нет связан не
только с экономическими и социальными трудностями, но и с пониманием того,
что ее ребенок будет “видим” в российском обществе и может столкнуться с
ксенофобией. Опыт самих женщин, прошедших через бытовой расизм, слы-
шавших некрасивые высказывания в свой адрес в публичных местах или же
знающих от соотечественников о каких-то примерах негативного отношения к
детям из стран Средней Азии, заставляет их на эмоциональном уровне думать
о благополучии своих детей. Иногда, даже имея возможности привезти ребен-
ка/детей, мигрантки из-за таких опасений оставляют его/их на родине. Если
женщина понимает, что она не может решить самостоятельно или совместно с
мужем эмоциональные проблемы и проблемы безопасности, она предпочитает
жить с ребенком на расстоянии, обеспечивая ему заботу и защищенность при
участии близких родственников.
В ситуации миграции мы можем говорить о детях не как о пассивных фи-
гурах, которые можно переместить из одного пространства в другое, а как об
активных агентах транснациональных семейных практик. В выборе стратегии
матери ориентируются на то, что для них важно: чтобы ребенок имел легальное
положение в новой стране, чтобы ему было комфортно и безопасно в новом
обществе. Когда мать понимает, что ребенок испытывает трудности, она может
116
Этнографическое обозрение № 1, 2023
принять решение о его отъезде на родину. Поэтому, даже если мы и говорим о
стратегиях женщин в миграции, мы должны отказаться от дуальности (быть
с ребенком в миграции или не быть). Интервью показывают, что из-за неуве-
ренности в завтрашнем дне, отсутствия социальных программ для мигрантов,
проблем, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни, семьи
находятся в постоянном движении. Меняются локации членов семьи: дети мо-
гут долго оставаться на родине, потом родители могут привезти их в Россию,
планируя долгосрочное пребывание, затем ситуация может измениться из-за
разных обстоятельств, которые часто мигрант не может предвидеть заранее.
Транснациональные семьи - к ним по итогам этого исследования мы можем
отнести и семьи мигрантов из стран Средней Азии - живут в постоянном состо-
янии соприсутствия (Sørensen, Vammen 2014).
Примечания
1 Я говорю о статусе женщин на момент интервью, так как у некоторых ин-
форманток он впоследствии изменился.
2 Имена всех информанток изменены.
3 К сожалению, с обеими информантками я встречалась один раз и не знаю
дальнейшей судьбы девочек. Но в то время, когда проводилось интервью, обе
девочки уже год сидели дома с младшими детьми и планов у родителей отдать
их в школу в России не было.
Источники и материалы
FIDH 2016 - Women and Children from Kyrgyzstan Affected by Migration. An
Exacerbated Vulnerability [FIDH Report] // FIDH - International Federation for
web2.pdf
Научная литература
Агаджанян В.C., Зотова Н.А. Миграция и риски ВИЧ-инфекции: женщины - вы-
ходцы из Средней Азии в Российской Федерации // Демографическое обозре-
Борисова Е.В. Родительство на расстоянии: транснациональные практики в
семьях мигрантов из Таджикистана // Антропологический форум. 2016.
№ 28. С. 228-245.
Бредникова О. Женская трудовая миграция: смена гендерных контрактов? // Ген-
дерные отношения в современной России: исследования 1990-х годов / Под ред.
Л.Н. Попковой, И.Н. Тартаковской. Самара: Самарский ун-т, 2003. С. 143-154.
Бредникова О., Ткач О. Дом для номады // Laboratorium. 2010. № 3. С. 72-95.
Варшавская Е. Особенности занятых домашних работников: западный и
отечественный опыт // Человек и труд. 2013. № 9. С. 25-29.
Деминцева Е.Б., Пешкова В.М. Мигранты из Среднеи Азии в Москве // Демоскоп
tema01.php
Зайончковская Ж.А., Флоринская Ю.Ф., Доронина К.А., Полетаев Д.А. Мигран-
ты глазами москвичей // Демоскоп Weekly. 2014. № 605-606 (1-24 августа).
Деминцева Е.Б. Материнство в миграции...
117
Карачурина Л.Б. Женщины-мигранты в нише домашнего труда в России //
Социологические исследования. 2015. № 5. С. 93-101.
Омельченко Е. Интеграция мигрантов средствами образования: российский и
мировой опыт. М.: Этносфера, 2018.
Полетаев Д.В. Феминизация сообществ трудовых мигрантов из Средней Азии:
новые социальные роли таджичек и киргизок // Транснациональные ми-
грации и современные государства в условиях экономического кризиса /
Отв. ред. В.С. Малахов, М.Е. Симон. М.: РСМД, 2016. С. 202-232.
Рочева А.Л. “Понаехали тут” в роддомах России: исследование режима стра-
тифицированного воспроизводства на примере киргизских мигрантов
в Москве // Журнал исследовании социальной политики. 2014. № 12 (3).
С. 367-380.
Ткач О. Уборщица или помощница? Вариации гендерного контракта в услови-
ях коммерциализации быта // Новый быт в современной России: гендерные
исследования повседневности / Под ред. Е. Здравомысловои, А. Роткирх,
А. Темкинои. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2009.
С. 137-188.
Толстокорова А.В. “Мама моет раму в Риме”: гендерные аспекты транснацио-
нального родительства в Украине // Журнал исследований социальной поли-
тики. 2012. Т. 10. № 3. С. 393-408.
Толстокорова А.В. Украинская транснациональная семья как модернизиро-
ванная модель cемейных отношений: панацея, яд или плацебо? // Социо-
логический журнал. 2013. № 2. С. 43-64.
Тюрюканова Е.В. Женщины-мигранты из стран СНГ в России. М.: МАКС Пресс,
2011.
Åkesson L., Carling J., Drotbohm H. Mobility, Moralities and Motherhood:
Navigating the Contingencies of Cape Verdean Lives // Journal of Ethnic and
183X.2012.646420
Baldassar L, Merla L. Transnational Families, Migration and the Circulation of Care:
Understanding Mobility and Absence in Family Life. N.Y.: Routledge, 2014.
Barglowski K., Pustulka P. Tightening Early Childcare Choices - Gender and Social
Class Inequalities Among Polish Mothers in Germany and the UK // Comparative
Boyd M. Family and Personal Networks in International Migration: Recent
Developments and New Agendas // International Migration Review.
1989.
Brettell C. Gender and Migration. Cambridge: Polity Press, 2016.
Bryceson D., Vuorela U. Transnational Families in the Twenty-First Century // The
Transnational Family: New European Frontiers and Global Networks / Eds.
D. Bryceson, U. Vuorela. Oxford: Berg, 2002. P. 3-30.
Castles S., Miller M.J. The Age of Migration: International Population Movements in
the Modern World. N.Y.: The Guilford Press, 2003.
Cervantes A.G. Transnational Motherhood // Wiley-Blackwell Encyclopedias in
Social Science: The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies / Ed. C.L.
wbefs091
Coyle A. Resistance, Regulation and Rights: The Changing Status of Polish Women’s
Migration and Work in the New Europe // European Journal of Women’s Studies.
2007. No. 14 (1). P. 37-50.
118
Этнографическое обозрение № 1, 2023
Curran S., Shafer S., Donato K., Garip F. Mapping Gender and Migration in Sociological
Scholarship: Is It Segregation or Integration? // International Migration Review.
Demintseva E. Labour Migrants in Post-Soviet Moscow: Patterns of Settlement //
Journal of Ethnic and Migration Studies. 2017. No. 43 (15). P. 2556-2572.
Demintseva E. “Migrant Schools” and the “Children of Migrants”: Constructing
Boundaries Around and Inside School Space // Race Ethnicity and Education.
Dreby J. Honor and Virtue: Mexican Parenting in the Transnational Context // Gender
Ducu V. Romanian Transnational Families: Gender, Family Practices and Difference.
L.: Palgrave Macmillan, 2018.
Erel U. Migrant Women Transforming Citizenship: Life-Stories from Britain and
Germany. L.: Routledge, 2009.
Gamburd M. Milk Teeth and Jet Planes: Kin Relations in Families of Sri Lanka’s
Transnational Domestic Servants // City & Society. 2008. No. 20. P. 5-31.
Hondagneu-Sotelo P., Avila E. “I’m Here, but I’m There”: The Meanings of Latina
Transnational Motherhood // Gender & Society. 1997. No. 11 (5). P. 548-571.
Kholmatova N. Changing the Face of Labor Migration? The Feminization of Migration
from Tajikistan to Russia // Eurasia on the Move: Interdisciplinary Approaches
to a Dynamic Migration Region / Eds. M. Laruelle, S. Caress. Washington:
The George Washington University, 2018. P. 42-54.
Kosmarskaya N., Savin I. Everyday Nationalism in Russia in European Context:
Moscow Residents’ Perceptions of Ethnic Minority Migrants and Migration //
The New Russian Nationalism: Between Imperial and Ethnic / Eds. P. Kolstø,
H. Blakkisrud. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016. P. 132-159.
Leah W.V. Migrant Mothers and the Ambivalence of Co-Ethnicity in Online
Communities // Journal of Ethnic and Migration Studies. 2022. Vol. 48 (7).
Malakhov V.S., Simon M.E. Labour Migration Policy in Russia: Considerations
on Governmentality // International Migration. 2018. No. 56 (3). P. 61-72.
Mazzucato V., Schans D. Transnational Families and the Well-Being of Children:
Conceptual and Methodological Challenges // Journal of Marriage and the Family.
Menjívar C. Fragmented Ties: Salvadoran Immigrant Networks in America. Berkeley:
University of California Press, 2000.
Olwig K.F. The “Successful” Return: Caribbean Narratives of Migration, Family,
and Gender // The Journal of the Royal Anthropological Institute. 2012. No. 4.
P. 828-845.
Parreñas R.S. Servants of Globalization: Women, Migration, and Domestic Work.
Stanford: Stanford University Press, 2001.
Parreñas R.S. Children of Global Migration: Transnational Families and Gendered
Woes. Stanford: Stanford University Press, 2005.
Reeves M. Living from the Nerves: Deportability, Indeterminacy, and the “Feel
of Law” in Migrant Moscow // Social Analysis. 2015. No. 59 (4). P. 119-136.
Деминцева Е.Б. Материнство в миграции...
119
Rocheva A., Varshaver E. Gender Dimension of Migration from Central Asia to
the Russian Federation // Asia-Pacific Population Journal. 2018. No. 32 (2).
Ryan L. Migrant Women, Social Networks and Motherhood: The Experiences
of Irish Nurses in Britain // Sociology. 2007. No.
41
(2). P. 295-312.
Ryazantsev S., Pismennaya E., Karabulatova I., Akramov S. Transformation of Sexual
and Matrimonial Behavior of Tajik Labour Migrants in Russia // Asian Social
Sørensen N.N., Vammen M. Who Cares? Transnational Families in Debates on
Migration and Development // New Diversities. 2014. No. 16. P. 89-108.
Tolstokorova A.V. Where Have All the Mothers Gone? The Gendered Effect of Labour
Migration and Transnationalism on the Institution of Parenthood in Ukraine //
Anthropology of East Europe Review. 2010. No. 28 (1). P. 184-214.
R e s e a r c h A r t i c l e
Demintseva, Е.B. Motherhood in Migration: Strategies of Migrant Women from
Central Asia [Materinstvo v migratsii: strategii, vybiraemye zhenshchinami-
migrantkami iz stran Srednei Azii]. Etnograficheskoe obozrenie, 2023, no. 1,
pp.
ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and
Anthropology RAS]
National Research University Higher School of Economics (11 Pokrovsky Bulvar,
Moscow, 109028, Russia)
Keywords
migrant women, motherhood, labor migration, Central Asia, Russia
Abstract
The article analyzes the migration experiences of mothers who leave Central Asian
countries to work in Russia. Based on interviews, the article examines situations
where women are forced to leave their children in the care of relatives at home, as well
as those where they are able to bring their children to Russia. I conclude that the main
problem for living together with children is not only the low earnings of migrants and
the inability to rent separate housing at the beginning of life in Russia. An important
factor is the limited access to social institutions, such as kindergartens, or problems
with enrolling a migrant child in school. When planning life in another country with
a child, it is also important for a woman whether she will be able to take care of her
child with her irregular work schedule and ensure a safe stay for her child in Russia.
References
Agadzhanian, V.C., and N.A. Zotova. 2014. Migratsiia i riski VICh-infektsii:
zhenshchiny - vykhodtsy iz Srednei Azii v Rossiiskoi Federatsii [Migration and
Risks of HIV Infection: Women from Central Asia in the Russian Federation].
v1i2.1818
Åkesson, L., J. Carling, and H. Drotbohm.
2012. Mobility, Moralities and
120
Этнографическое обозрение № 1, 2023
Motherhood: Navigating the Contingencies of Cape Verdean Lives. Journal of
83X.2012.646420
Baldassar, L., and L. Merla. 2014. Transnational Families, Migration and the
Circulation of Care: Understanding Mobility and Absence in Family Life.
New York: Routledge.
Barglowski, K., and P. Pustulka. 2018. Tightening Early Childcare Choices - Gender
and Social Class Inequalities Among Polish Mothers in Germany and the UK.
Borisova, E. 2016. Roditel’stvo na rasstoianii: transnatsional’nye praktiki v sem’iakh
migrantov iz Tadzhikistana [Parenthood at a Distance: Transnational Practices in
Families of Migrants from Tajikistan]. Antropologicheskii forum 28: 228-245.
Boyd, M. 1989. Family and Personal Networks in International Migration: Recent
Developments and New Agendas. International Migration Review
23
(3):
Brednikova, O. 2003. Zhenskaia trudovaia migratsiia: smena gendernykh kontraktov?
[Women’s Labor Migration: Changing Gender Contracts?]. In Gendernye
otnosheniia v sovremennoi Rossii: issledovaniia 1990-kh godov [Gender Relations
in Contemporary Russia: Studies in the 1990s], edited by L.N. Popkova and
I.N. Tartakovskaia, 143-154. Samara: Samarskii universitet.
Brednikova, O., and O. Tkach. 2010. Dom dlia nomady [Nomad’s House].
Laboratorium 3: 72-95.
Brettell, C. 2016. Gender and Migration. Cambridge: Polity Press.
Bryceson, D., and U. Vuorela. 2002. Transnational Families in the Twenty-First
Century. In The Transnational Family: New European Frontiers and Global
Networks, edited by D. Bryceson and U. Vuorela, 3-30. Oxford: Berg.
Castles, S., and M.J. Miller. 2003. The Age of Migration: International Population
Movements in the Modern World. New York: The Guilford Press.
Cervantes, A.G. 2016. Transnational Motherhood. In Wiley-Blackwell Encyclopedias
in Social Science: The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies, edited by
Coyle, A. 2007. Resistance, Regulation and Rights: The Changing Status of Polish
Women’s Migration and Work in the New Europe. European Journal of Women’s
Studies 14 (1): 37-50.
Curran, S., S. Shafer, K. Donato, and F. Garip. 2006. Mapping Gender and Migration in
Sociological Scholarship: Is It Segregation or Integration? International Migration
Demintseva, E. 2017. Labour Migrants in Post-Soviet Moscow: Patterns of Settlement.
080/1369183X.2017.1294053
Demintseva, E. 2020. “Migrant Schools” and the “Children of Migrants”: Constructing
Boundaries around and Inside School Space. Race Ethnicity and Education 23
Demintseva, E.B., and V.M. Peshkova. 2014. Migranty iz Srednei Azii v Moskve
[Migrants from Central Asia in Moscow]. Demoscope Weekly
597-598.
Dreby, J. 2006. Honor and Virtue: Mexican Parenting in the Transnational Context.
Ducu, V. 2018. Romanian Transnational Families: Gender, Family Practices and
Difference. London: Palgrave Macmillan.
Деминцева Е.Б. Материнство в миграции...
121
Erel, U. 2009. Migrant Women Transforming Citizenship: Life-Stories from Britain
and Germany. London: Routledge.
Gamburd, M. 2008. Milk Teeth and Jet Planes: Kin Relations in Families of
Sri Lanka’s Transnational Domestic Servants. City & Society 20: 5-31.
Hondagneu-Sotelo, P., and E. Avila. 1997. “I’m Here, but I’m There”: The Meanings
of Latina Transnational Motherhood. Gender & Society
11
(5): 548-571.
Karachurina, L.B. 2015. Zhenshchiny-migranty v nishe domashnego truda v Rossii
[Migrant Women in the Niche of Domestic Work in Russia]. Sotsiologicheskie
issledovaniia 5: 93-101.
Kholmatova, N. 2018. Changing the Face of Labor Migration? The Feminization of
Migration from Tajikistan to Russia. In Eurasia on the Move: Interdisciplinary
Approaches to a Dynamic Migration Region, edited by M. Laruelle and
C. Schenk, 42-54. Washington: The George Washington University.
Kosmarskaya, N., and I. Savin. 2016. Everyday Nationalism in Russia in European
Context: Moscow Residents’ Perceptions of Ethnic Minority Migrants and
Migration. In The New Russian Nationalism: Between Imperial and Ethnic, edited
by P. Kolstø and H. Blakkisrud, 132-159. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Leah, W.V. 2022. Migrant Mothers and the Ambivalence of Co-Ethnicity in Online
Communities. Journal of Ethnic and Migration Studies 48 (7): 1747-1763.
Malakhov, V.S., and M.E. Simon. 2018. Labour Migration Policy in Russia:
Considerations on Governmentality. International Migration 56 (3): 61-72.
Mazzucato, V., and D. Schans. 2011. Transnational Families and the Well-Being of
Children: Conceptual and Methodological Challenges. Journal of Marriage and
Menjívar, C. 2000. Fragmented Ties: Salvadoran Immigrant Networks in America.
Berkeley: University of California Press.
Olwig, K.F. 2012. The “Successful” Return: Caribbean Narratives of Migration, Family,
and Gender. The Journal of the Royal Anthropological Institute 4: 828-845.
Omelchenko, E. 2018. Integratsiia migrantov sredstvami obrazovaniia: rossiiskii i
mirovoi opyt [Integration of Migrants Through Education: Russian and World
Experience]. Moscow: Etnosfera.
Parreñas, R.S. 2001. Servants of Globalization: Women, Migration, and Domestic
Work. Stanford: Stanford University Press.
Parreñas, R.S. 2005. Children of Global Migration: Transnational Families and
Gendered Woes. Stanford: Stanford University Press.
Poletaev, D.V. 2016. Feminizatsiia soobshchestv trudovykh migrantov iz Srednei
Azii: novye sotsial’nye roli tadzhichek i kirgizok [Feminization of Communities
of Labor Migrants from Central Asia: New Social Roles of Tajiks and Kyrgyz
Women]. In Transnatsional’nye migratsii i sovremennye gosudarstva v usloviiakh
ekonomicheskogo krizisa [Transnational Migrations and Modern States in the
Context of the Economic Crisis], edited by V.S. Malakhov and M.E. Simon,
202-232. Moscow: RSMD.
Reeves, M. 2015. Living from the Nerves: Deportability, Indeterminacy, and
the “Feel of Law” in Migrant Moscow. Social Analysis 59 (4): 119-136.
Rocheva, A., and E. Varshaver. 2018. Gender Dimension of Migration from Central
122
Этнографическое обозрение № 1, 2023
Asia to the Russian Federation. Asia-Pacific Population Journal 32 (2): 87-135.
Rocheva, A.L. 2014. “Ponaekhali tut” v roddomakh Rossii: issledovanie rezhima
stratifitsirovannogo vosproizvodstva na primere kirgizskikh migrantov v Moskve
[“Come in Large Numbers Here” in Russian Maternity Hospitals: A Study of the
Stratified Reproduction Regime on the Example of Kyrgyz Migrants in Moscow].
Zhurnal issledovanii sotsial’noi politiki 12 (3): 367-380.
Ryan, L.
2007. Migrant Women, Social Networks and Motherhood: The
Experiences of Irish Nurses in Britain. Sociology
41(2):
295-312.
Ryazantsev, S., E. Pismennaya, I. Karabulatova, and S.Akramov. 2014. Transformation
of Sexual and Matrimonial Behavior of Tajik Labour Migrants in Russia. Asian
Sørensen, N.N., and M. Vammen. 2014. Who Cares? Transnational Families in
Debates on Migration and Development. New Diversities 16: 89-108.
Tiuriukanova, E.V. 2011. Zhenshchiny-migranty iz stran SNG v Rossii [Women
Migrants from the CIS Countries in Russia]. Moscow: MAKS Press.
Tkach, O. 2009. Uborshchitsa ili pomoshchnitsa? Variatsii gendernogo kontrakta
v usloviiakh kommertsializatsii byta [Cleaning Lady or Helper? Variations of
the Gender Contract in the Context of the Commercialization of Everyday Life].
In Novyi byt v sovremennoi Rossii: gendernye issledovaniia povsednevnosti
[New Life in Modern Russia: Gender Studies of Everyday Life], edited by
E. Zdravomyslova, A. Rotkirkh, and A. Temkina, 137-188. St. Petersburg:
Izdatel’stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge.
Tolstokorova, A. 2010. Where Have All the Mothers Gone? The Gendered Effect
of Labour Migration and Transnationalism on the Institution of Parenthood in
Ukraine. Anthropology of East Europe Review 28 (1): 184-214.
Tolstokorova, A.
2012.
“Mama moet ramu v Rime”: gendernye aspekty
transnacional’nogo roditel’stva v Ukraine [“Mom Washes the Frame in Rome”:
Gender Aspects of Transnational Parenthood in Ukraine]. The Journal of Social
Policy Studies 10 (3): 393-408.
Tolstokorova, A.
2013.
Ukrainskaia transnatsional’naia
sem’ia kak
modernizirovannaia model’ semeinykh otnoshenii: panatseia, yad ili platsebo?
[Ukrainian Transnational Family as a Modernized Model of Family Relations:
Panacea, Poison or Placebo?]. Sotsiologicheskii zhurnal 2: 43-64.
Varshavskaia, E. 2013. Osobennosti zaniatykh domashnikh rabotnikov: zapadnyi
i otechestvennyi opyt [Features of Employed Domestic Workers: Western and
Domestic Experience]. Chelovek i trud 9: 25-29.
Zaionchkovskaia, Z.A., Y.F. Florinskaia, K.A. Doronina, and D.A. Poletaev.
2014. Migranty glazami moskvichei
[Migrants through the Eyes of
weekly/2014/0605/tema01.php