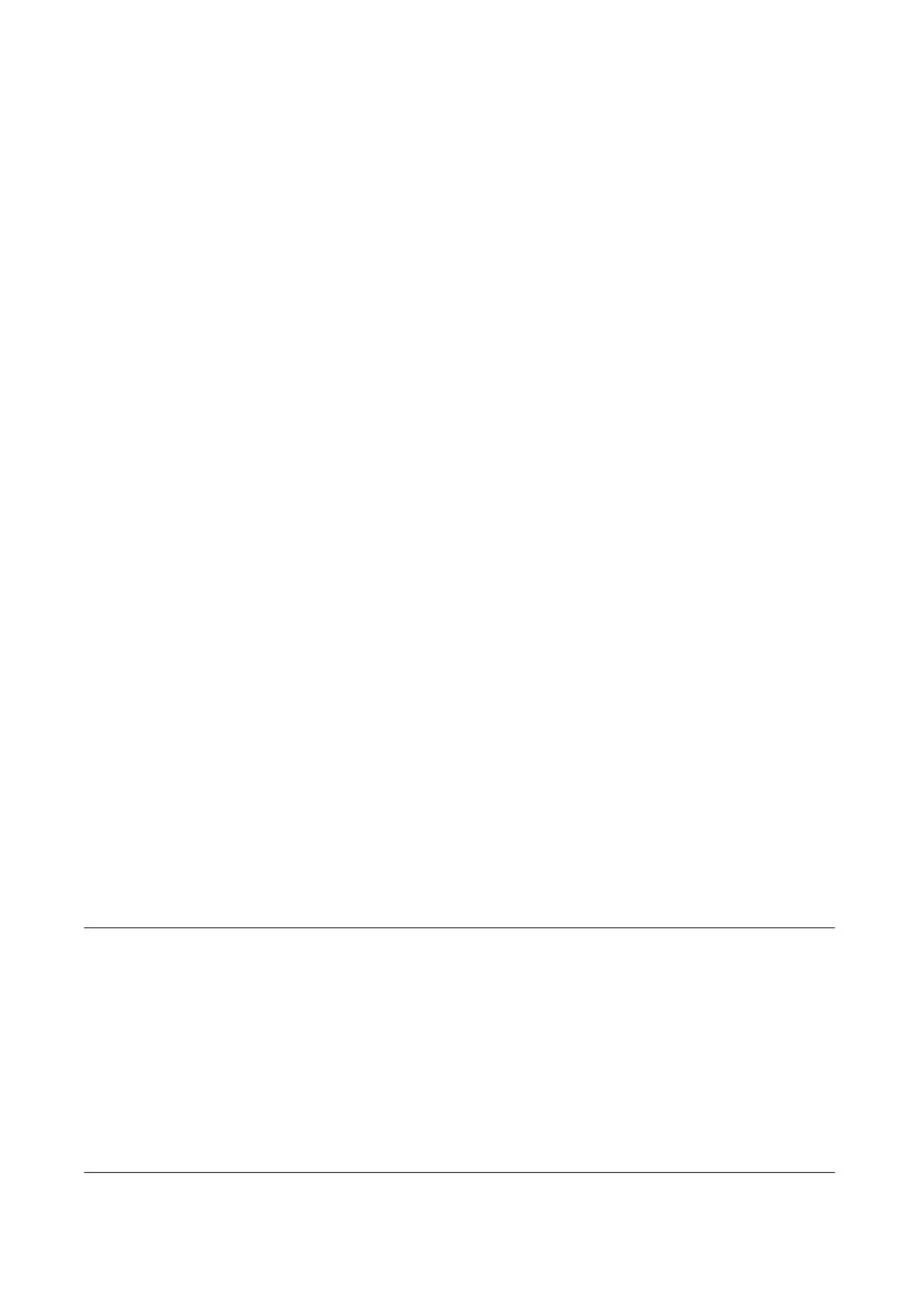ИСТОРИЯ НАУКИ
“ЭТНИЧЕСКИЕ МИГРАНТЫ” И НАЧАЛО
ИХ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ
П. Лозовюк
заведующий кафедрой антропологии философского факультета | Западночешский уни-
верситет (Sedláčkova 15, CZ-301 00, Пльзень, Чешская республика)
Ключевые слова
этнические мигранты, история этнографии, немцы Бессарабии, Йозеф Ханика, Чехия
Аннотация
“Этнических мигрантов” можно рассматривать как участников специфического типа ми-
грации, для которого характерно институциональное и материальное упрощение прини-
мающей страной условий миграционного движения исключительно на основе этниче-
ского происхождения мигрантов. При этом заявленное такими мигрантами этническое
происхождение, как правило, совпадает с этническим происхождением титульной нации,
находящейся в принимающей стране. Цель данной статьи - отобразить способ реализа-
ции и методологические предпосылки одной из первых попыток этнографического ана-
лиза так наз. этнических мигрантов и передать, как тематические и методологические
направления вышеупомянутого научного подхода привели к теоретическим инновациям
немецкоязычной этнологии послевоенного периода. В качестве примера будут представ-
лены исследования исчезающих этнографических феноменов, проведенные среди бесса-
рабских переселенцев немецкого происхождения на территории тогдашнего протектора-
та Богемии и Моравии.
Информация о финансовой поддержке
Исследование было проведено в рамках проекта “SGS-2022-029” Западночешского
университета в г. Пльзень (Чешская Республика).
тнических мигрантов” можно определить как участников специфи-
ческого типа миграции, для которого характерно институциональное
“Э
и материальное упрощение принимающей страной условий миграци-
онного движения на основе этнического происхождения мигрантов. При этом
заявленное такими мигрантами этническое происхождение, как правило, совпа-
дает с этническим происхождением титульной нации, находящейся в целевой
стране. Этот способ массового переселения следует обозначить как novum XX в.
Статья поступила 28.09.2021 | Окончательный вариант принят к публикации 21.10.2022
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Лозовюк П. “Этнические мигранты” и начало их этнографического изучения в Центральной Европе //
EDN: PMWVKE
Lozoviuk, P. 2023. “Etnicheskie migranty” i nachalo ikh etnograficheskogo izucheniia v Tsentral’noi
Evrope [On “Ethnic Migrants” and the Beginning of Their Ethnographic Study in Central Europe].
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
142
Этнографическое обозрение № 1, 2023
и, наряду с созданием национального государства в качестве модели государ-
ственного устройства, можно напрямую связать как с политическими события-
ми того времени, так и с экономическим неравенством, существующим между
разными государствами. Несмотря на то, что практика привилегирования ми-
грантов по принципу их этнического происхождения - довольно распростра-
ненное явление для многих стран, наиболее полное понимание этого феномена
с точки зрения объема и большой значимости таких миграций для общества в
целом раскрывается именно в подходе, примененном в Германии.
История массового “возвращения” немцев, живших за рубежом, на “роди-
ну предков” начинается уже в начале 1920-х годов. Первая значительная волна
этнической миграции такого типа относится к 1919-1923 гг. и считается пря-
мым следствием процесса политических изменений в Центральной и Юго-Вос-
точной Европе, которые начали происходить после окончания Первой мировой
войны. В результате включения обширных областей, заселенных немецкоязыч-
ным населением, в иные государственные образования в Германию и Австрию
из Польши, Чехословакии, прибалтийских стран, Королевства сербов, хорва-
тов и словенцев, Румынии, Франции и Италии мигрировало приблизительно
1,3-2 млн человек (Oltmer 2010: 718). В основном это были представители по-
литической, государственной и экономической элиты, в определенной степе-
ни связанные с системой прежнего государственного аппарата. И, несмотря на
такое огромное количество эмигрировавших, по объективным оценкам второй
половины 1930-х годов за пределами Германии и Австрии все еще находилось
около 8,5 млн человек, причислявших себя к немецкой национальности (Münz,
Ohliger 1998: 402).
Следующим этапом массовой миграции немцев из восточной части конти-
нента в западном направлении было в той или иной степени насильственное
переселение, организованное на основании межгосударственных договоренно-
стей конца 1930-х годов. Эти миграционные акты распространялись преиму-
щественно на немцев родом из Прибалтики, Бессарабии, Буковины, Словении,
Южного Тироля и Волыни. Количество представителей немецких меньшинств,
принявших участие в первой, так наз. факультативной фазе выборов в пользу
Третьего рейха, составило 450 тыс. человек. Альтернативой отъезду в Герма-
нию и получению гражданства Третьего рейха был отказ от коллективных прав
меньшинства на родине.
Вышеупомянутые мигранты являлись желанным средством “германизации”
для идеологов нового видения европейского устройства. Они в основном были
призваны заселять восточные части империи - недавно завоеванные области,
где до сих пор доминировало ненемецкое население, которое, согласно пред-
ставлениям национал-социалистов, в будущем должно быть либо германизи-
ровано, либо “устранено”. Ко второй фазе этих миграций можно отнести про-
должавшийся с 1943 г. частично организованный, частично стихийный отток
немецкого гражданского населения из Юго-Восточной Европы (Югославия,
Словакия, Польша, часть Румынии и Украины) в направлении, противополож-
ном приближающейся линии фронта. Вторая фаза предположительно охватила
около 1,3 млн человек, однако следует признать, что количественные данные за
этот период очень недостоверны. В послевоенный период этнические миграци-
онные потоки уже включали в себя многочисленные группы военных беженцев
и (впоследствии) поздних переселенцев.
Феномен “этнической миграции” под видом иммиграции “земляков” на ро-
дину предков в ряде европейских стран послевоенного периода являлся очень
Лозовюк П. “Этнические мигранты”...
143
оживленной этнологической темой. Развитию этого направления в европейской
этнологии послужили начавшиеся в межвоенные годы исследования этниче-
ских анклавов и так наз. языковых островов1, которыми прославилась прежде
всего немецкоязычная этнологическая традиция (Volkskunde). Именно немец-
кие этнографы, языковеды, демографы и (антропо)географы уже в 20-х годах
XX в. предприняли попытку предложить теоретическо-методологический ин-
струментарий, который позволил бы не только изучать разнообразные анкла-
вы, но и комплексно их анализировать, в том числе в рамках определенного
иноэтнического контекста. Важным шагом в этом направлении стала моногра-
фия о немецкоязычных анклавах, написанная немецким историком и этногра-
фом Вальтером Куном (Kuhn 1934)2. Эта в свое время очень влиятельная работа
была направлена на закрепление теоретической и методологической основы
так наз. науки о языковых островах (Sprachinselforschung), этнографическое
исследование которых было введено в качестве специальной этнографической
субдисциплины (Sprachinselvolkskunde) с выраженными междисциплинарными
компонентами.
В послевоенное время способ мышления, сформировавшийся в рамках эт-
нографического изучения этноязыковых анклавов, повлиял на этнологический
анализ масштабных миграционных потоков, с которыми сталкивалась Германия
во второй половине XX в. Цель данной статьи - отобразить способ реализации
и методологические предпосылки одной из первых попыток этнографического
анализа так наз. этнических мигрантов и передать, как тематические и мето-
дологические направления вышеупомянутого научного подхода привели к те-
оретическим инновациям немецкоязычной этнологии послевоенного периода.
В качестве примера будут представлены исследования исчезающих этнографи-
ческих феноменов, проведенные среди бессарабских переселенцев немецкого
происхождения на территории тогдашнего протектората Богемии и Моравии.
Бессарабские немцы
как специфическая этнографическая группа
Бессарабские немцы принадлежали к тем восточноевропейским этническим
группам, которые смогли сформироваться только в начале XIX в. в результате
организованных миграций центральноевропейского населения на окраины рас-
ширившейся Российской империи. Вместе с представителями других этниче-
ских групп, прежде всего болгар, гагаузов, русских, украинцев, а также албан-
цев и поляков, немецкоязычные колонисты способствовали тому, что районы
Бессарабии, обезлюдевшие в результате российской завоевательной политики,
были заселены экономически грамотным и политически надежным населе-
нием3. Массовый приток переселенцев из Центральной Европы в тогдашнюю
Новороссию обеспечил царский указ от февраля 1804 г.
Первые колонисты из немецкоязычных стран прибыли в Буджак (так в рус-
скоязычной и украинскоязычной литературе называется южная часть истори-
ческого ландшафта Бессарабии) в 1813 г., но их приток продолжался до 1840-х
годов. В этот период материнские колонии были основаны переселенцами из
нескольких областей Центральной Европы, в частности Вюртемберга, Баварии,
Мекленбурга, Померании, Пруссии и центральной Польши4. Богемия (Böhmen)
также спорадически упоминается среди мест отправления мигрантов; следова-
тельно (исходя из случаев, происходивших в других областях Юго-Восточной
Европы, куда направлялись колонисты из чешских земель) можно предполо-
144
Этнографическое обозрение № 1, 2023
жить, что в той или иной степени небольшие группы чехов могли переселяться
в Буджак вместе с чешскими немцами (ср.: Lozoviuk 1998). Из негерманских
районов вместе с немцами приезжали мигранты из франкоязычных кантонов
Швейцарии и из самой Франции (Капустин, Радова 2005: 226). Территори-
альное расширение немецкоязычного района в Буджаке происходило и в более
поздние годы, но исключительно за счет вторичной колонизации.
Жители вновь основанных поселений были наделены широким кругом
привилегий, которые были закреплены в специальном законе 1817 г. (Там же:
229). Кроме того, немецкие колонии пользовались местной автономией, кото-
рая касалась, в частности, трех уровней: 1) местного самоуправления (включая
использование немецкого языка в качестве локального официального языка),
2) сферы образования и 3) религиозной сферы. Благодаря громким выступле-
ниям как славянофилов, так и русских либералов царское правительство было
вынуждено отменить привилегии немецкого населения - аналогично привиле-
гиям других нерусских групп в России - в 1871 г. (Там же: 230). Тем не ме-
нее немецкие колонии в Бессарабии продолжали развиваться в экономическом,
культурном и демографическом плане, что стало предпосылкой для дальней-
шего территориального расширения немецкоязычных поселений в форме вну-
тренней колонизации (Schlarb 2014)5.
Результатом колонизационной политики Российской империи в южной Бес-
сарабии, в которой кроме немцев участвовали в основном русские, украинцы,
болгары, гагаузы и еще несколько менее многочисленных этнических групп,
стало формирование на относительно небольшой территории конгломерата,
разнообразного в языковом, конфессиональном, этническом и культурном отно-
шениях. Согласно результатам румынской переписи 1930 г., в Бессарабии про-
живало 2,8 млн человек, из которых 56,2% принадлежали к молдавскому или
румыноязычному населению, 12,3% объявили себя русскими, 11% - украинца-
ми, 7,2% - евреями, 5,7% - болгарами и 3,4% - гагаузами. Немцы составляли
2,8% всего населения региона (81 089 человек) (Schlarb 2014).
В результате националистической политики, проводимой румынским го-
сударством, в 1920-х и особенно в 1930-х годах по всей стране обострились
межэтническая напряженность и проявления открытой дискриминации в отно-
шении нерумынских народов. В немецких поселениях Буджака это проявилось
в запрете преподавания немецкого языка в школах (Jachomowski 2010: 132) и в
ограничении деятельности учреждений местных меньшинств. В ответ на эти
меры немецкая сторона стала устанавливать более тесные контакты с образова-
тельными организациями непосредственно из рейха и создавать свои собствен-
ные ассоциации самопомощи, такие как “Бессарабское немецкое движение
обновления. Служба народу” (Bessarabische Deutsche Erneuerungsbewegung‚
Volksdienst), целью которого было содействие развитию жизни немецкого мень-
шинства при поддержке из рейха (ср.: Glass 1996: 515-518).
Значительным поворотным моментом в жизни бессарабских немцев стал
1939 г., летом которого Третий рейх и Советский Союз заключили договор о
ненападении, включавший “секретный протокол” о взаимном разделе сфер
влияния в Восточной Европе. В сентябре 1939 г. был заключен еще один гер-
мано-советский договор о дружбе, который также включал одно секретное
соглашение, касающееся переселения бессарабских немцев. Между СССР и
Третьим рейхом было достигнуто еще несколько подобных договоренностей
(Jachomowski 2010: 132)6. Согласно этим соглашениям, этническим немцам
было позволено сделать выбор в пользу Третьего рейха и впоследствии пересе-
Лозовюк П. “Этнические мигранты”...
145
литься в Германию. Эвакуация немецкого населения из Бессарабии проходила
в несколько этапов (с сентября 1940 г. по апрель 1941 г.) и в общей сложности
охватила практически все немецкое население страны, в конкретных цифрах -
93 5487 человек8. Переселение бессарабских немцев было организовано из
рейха учреждением под названием “Координационный центр немецких сопле-
менников” (Die Volksdeutsche Mittelstelle)9. Шесть тысяч семей из восточных
областей СССР и еще несколько тысяч из Западной Украины были перемещены
советскими властями на покинутые немцами места. Задача переселенцев за-
ключалась в том, чтобы взять под контроль агропромышленные предприятия,
оставленные немцами, и создать колхозы на освободившихся сельскохозяй-
ственных землях (Кубякин 2014: 357).
Организованные перевозки бессарабских немцев со второй половины 1940 г.
были направлены примерно в 800 временных сборочных лагерей, которые рас-
полагались в основном в Саксонии, Судетской области и (в меньшей степени)
в других регионах рейха, по преимуществу в Баварии, Тюрингии и Австрии
(Schmidt 2008: 325). К 1944 г. большинство мигрантов находилось в рейхсгау
Данциг-Западная Пруссия и Вартеланд (Jachomowski 2010: 133) - районах, в
которых новоприбывшие должны были выступать в качестве своего рода “гер-
манизирующего элемента”. Более мелкие группы были обнаружены на терри-
тории генерал-губернаторства, современной Словении, а также в протекторате
Богемии и Моравии (Schmidt 2008: 330; Brandes 2015: 175).
“Степные немцы” и их этнографическое изучение
Интересный и до сих пор не упоминавшийся этап в развитии немецкой срав-
нительной этнологии (vergleichende Volkskunde)10 представляет собой этногра-
фическое изучение этих бессарабских иммигрантов в рейхе, которое было ор-
ганизовано основателем этого научного направления, последним ординарным
профессором немецкой этнографии в Пражском университете Йозефом Хани-
кой11, принадлежавшим к группе так наз. исследователей языковых островов
(Sprachinselforscher), ориентировавшихся на изучение немецкоязычных анкла-
вов в Восточной Европе. Первоначально отправной точкой для данного ис-
следования стала традиционная методология, распространенная в этнографии
этнических анклавов (Sprachinselvolkskunde). Однако в связи с динамичным из-
менением предмета изучения необходимо было рассмотреть возможность мо-
дификации общего подхода к сбору этнографических данных, а также способа
их оценки. Таким образом, можно сделать вывод о структурном сходстве с ин-
новациями в антропологических исследованиях, которые почти одновременно
с немецкой “этнографией изгнанников” (Vertriebenenvolkskunde) ввела Манче-
стерская школа антропологии на основе своих исследований среди мигрантов
на юге Африки.
Переписка Ханики с представителями Райхенбергского института12 и пар-
тийными чиновниками (НСДАП) из Судетского гауляйтунга показывает, что
идея изучения культуры бессарабских немцев в их новой среде возникла уже
в 1940 г., сразу после их переселения в Центральную Европу. Похоже, что это
исследование было инициировано непосредственно гауляйтунгом, который
поддерживал его материально и политически на протяжении всего периода
(AAVČR: Dok. 1)13. Планируемая научная работа должна была опираться на
уже реализованные начинания, которые поставили перед собой цель задоку-
ментировать диалекты бессарабских немцев (Ibid.: Dok. 8)14. Собранный фило-
146
Этнографическое обозрение № 1, 2023
логический материал должен был дополняться информацией о народной или
же национальной культуре соответствующей группы мигрантов. Кроме того,
формальным вдохновением для организаторов широкомасштабного исследо-
вания послужила работа по проекту межвоенного периода “Атлас немецкого
народоведения”.
Поскольку бессарабско-немецкие лагеря предоставляли уникальную воз-
можность “надежно зафиксировать наиболее ценный народный материал и со-
хранить его для научных целей”, Ханике было поручено провести “исследова-
ния, желательные с точки зрения этнографического изучения” (Ibid.: Dok. 1).
По поручению гауляйтунга и с помощью Райхенбергского института он должен
был разработать для этой цели научный “рабочий план”, а также позаботиться
об организации всего процесса (Ibid.: Dok. 4). Одной из центральных задач этой
работы было проведение этнографических “спасательных исследований”, по-
скольку, как утверждал председатель правительства (Regierungspräsident) в го-
роде Карлсбад Вильгельм Себековский в письме от ноября 1940 г. в гауляйтунг
в Райхенберге (Либерце), это, по его мнению, была последняя возможность
“поднять старые (культурные) сокровища, так как они могут быть вскоре по-
теряны” (Ibid.: Dok. 2). “Это факт, - говорится в другой части документа, - что
мы лучше информированы, например, о тибетцах, чем о тех частях некоторых
немецких племен (Volksstämme), которые десятилетиями или даже веками не
участвовали в живом духовном кровотоке немецкого народа”. Именно поэтому
было принято решение о необходимости более тщательного этнографического
изучения этих немцев, “которые, безусловно, обладают многими специфиче-
скими (культурными) ценностями” (Ibid.: Dok. 2).
Сначала предполагалось сосредоточить внимание исключительно на сборе
бессарабско-немецких нарративных материалов в бессарабско-немецких ла-
герях в районе рейхсгау Судетенланд (Ibid.: Dok. 22). В плане архивных ма-
териалов особенно выделяются лагеря в Ческой-Каменице, Требендорфе и
Мариенбаде (Ibid.: Dok. 18). Однако, по словам Ханики, для того, чтобы иссле-
довательский проект “дал более полное представление о бессарабско-немецкой
этнической группе, необходимо было включить и лагеря за пределами нашего
гау” (Ibid.: Dok. 24). Поэтому этнографическая деятельность рассредоточилась
и на ряд других мест, где Ханике пришлось прибегнуть к помощи добровольцев
из отдельных лагерей или заинтересованной местной общественности.
Для практического осуществления работы по сбору материала в дополнение
к вопроснику Ханика составил отдельную “инструкцию”, которая ориентиро-
валась “на общие области материала и выделяла соответствующие вопросы”
(Ibid.: Dok. 10). Это позволило привлечь к сбору информации многочисленных
непрофессионалов из числа как переселенцев, так и коренных жителей. Задача
этих сотрудников по преимуществу состояла в заполнении анкет, подготовлен-
ных Ханикой на основе опросов бессарабско-немецких информантов, за что им
также выплачивалось “рабочее вознаграждение”.
Ханика не только выступал в качестве “экспертного руководителя” всей
акции, но и являлся посредником между учреждением, где собранные данные
временно архивировались15, и полевым персоналом. Это влекло за собой, по-
мимо прочего, необходимость решения различных прагматических проблем,
особенно тех, которые касались размера вознаграждения сотрудников, зани-
мающихся сбором материала. Например, в письме от января 1941 г. Ферди-
нанд Вагнер, бессарабский немец из лагеря № 115 в Ческой-Каменице, просил
Ханику выплатить ему единовременную сумму в размере 450 рейхсмарок (Ibid.:
Лозовюк П. “Этнические мигранты”...
147
Dok. 11). Из их переписки следует, что Вагнер неоднократно требовал у Ханики
повышения зарплаты. Следует отметить и то, что Вагнер был одним из самых
важных сотрудников Ханики. Он не только механически заполнял анкеты, под-
готовленные Ханикой, но и стал автором нескольких рукописных статей. Одна
из них, под названием “Бессарабские немцы как крестьяне”16, информировала
об основных исторических и этнографических реалиях бессарабских немцев
и, безусловно, стала для Ханики и его сотрудников введением в данную тему.
Вагнер даже написал для Ханики один обширный (в объеме 115 страниц)
этнографический текст под названием “Жизнь немцев в Бессарабской степи”17.
Эта рукопись была создана благодаря знанию Вагнером ситуации в Бессарабии
и на основе интервью, которые он вел с рядом переселенцев. В работе рас-
смотрены традиционные для немецкой этнографии того времени темы, такие
как материальная культура, язык (диалектные разделения), народная пища, ус-
ловия окружающей среды бессарабско-немецких поселений, их структура, ре-
лигиозная ситуация, народная медицина (включая магические практики) и т.д.
Значительное внимание уделялось обычаям, традициям и различным фоль-
клорным жанрам бессарабских немцев, которые документированы многочис-
ленными примерами (песнями, легендами, пословицами, поговорками и т.д.).
С точки зрения межэтнических отношений особый интерес представляет ин-
формация, касающаяся контактов, существовавших между немецкими колони-
стами и представителями других этнических групп в Буджаке. Текст, который
должен был стать “полной картиной немецкой жизни в Бессарабии” (SOACH:
115), завершается несколькими страницами размышлений о причинах, по кото-
рым бессарабские немцы не поддались ассимиляции в инонациональной среде
(Ibid.: 111-115). В этом контексте Вагнер упоминает параллели и различия в
историческом развитии бессарабских немцев с иной группой, которая тоже в
это время была переселена в рейх - волынскими немцами (Wolhyniendeutsche).
Это единственный отрывок в рассматриваемом тексте, который выходит за рам-
ки описательного рассказа и в котором его автор осмеливается выразить свои
собственные мысли.
Хотя работу, проведенную Вагнером, в полном смысле слова нельзя назвать
этнографическим исследованием, а его рукопись представляла собой коллекцию
более или менее “сырых” эмпирических данных, его текст является ценным
источником для понимания культурных и языковых реалий уже не существу-
ющих “степных немцев”. Ханика ответил на работу Вагнера несколькими де-
сятками вопросов, на которые явно ожидал дополнительных ответов от авто-
ра. В какой степени Вагнер смог откликнуться на просьбу Ханики дополнить
и, конечно, расширить рукопись, неизвестно. Показательным для современной
ситуации и исторической судьбы изучаемого немецкого меньшинства является
то, что Вагнер закончил свой текст в следующем меланхолическом духе: “Как и
каждый бессарабец, я тоже с меланхолией вспоминаю нашу покинутую родину,
и оплакиваю не столько свое имущество, которое мне пришлось отдать, сколько
задачи, которые были поставлены перед нами и в выполнении которых я уча-
ствовал на передовой и с самоотверженностью, неизвестной в рейхе” (Ibid.: 115).
Вероятно, самой выдающейся личностью среди этнографов-любителей,
участвовавших в исследовательской кампании Ханики, был Альберт Брош,
который уже в то время был известен как “успешный собиратель народных
песен”. Часовщик по профессии и уроженец западно-чешского города Эгер
(Cheb), Брош являлся “хорошим другом профессора Юнгбауэра” из пражского
Немецкого университета (Ibid.: 2). Свою этнографическую деятельность он на-
148
Этнографическое обозрение № 1, 2023
чал развивать уже в межвоенный период под влиянием и руководством Адоль-
фа Хауффена и стал известен как искусный собиратель судето-немецкого фоль-
клора, особенно песен, из Эгерланда и Шумавы (Weinmann 1985: 90). О том,
что Брош был опытным исследователем народного творчества, свидетельствует
тот факт, что уже зимой 1939-1940 гг. он по своей инициативе посетил пересе-
ленных немцев Волыни с намерением провести среди них сбор народных песен
(Ibid.: 2). Помимо соратников-любителей, Ханика рассчитывал на поддержку
своих судето-немецких коллег, в том числе Франца Беранека и Ганса Кляйна
(Ibid.: 24).
Наиболее активная фаза опросной кампании пришлась на первые годы
войны. Уже первые опросы в лагере Требенсдорф показали, “что поселенцы
не так продуктивны в плане народной песни, как более ранние (пришедшие в
Германию. - П.Л.) группы из Волыни и Галиции, однако ошибочно было бы
полагать, что у них вообще нет народных песен” (Ibid.: 22). По мере нараста-
ния трудностей из-за продолжающейся войны работа над проектом постепенно
прекратилась, и записи больше не могли быть оценены. Сами судетские немцы
стали беженцами, и после 1945 г. материал был недоступен для немецких (и до
недавнего времени также чешских) этнологов.
От Sprachinselvolkskunde
к социально ориентированной этнографии
За лингвистическим и этнографическим интересом к национальным анкла-
вам в межвоенный период стояло аксиоматическое убеждение, что в ситуации
языкового острова можно наблюдать и изучать архаичные социальные явления
в ясной и сжатой форме (Jungbauer 1930b: 21), что уже считалось невозможным
на родине предков колонистов. Уклад немецкоязычных меньшинств рассматри-
вался как пример исконно немецкого образа жизни, на который индустриализа-
ция и урбанизация не повлияли или повлияли незначительно. Поэтому отдель-
ные населенные пункты, заселяемые потомками немецкоязычных колонистов,
рассматривались не только как национальные “оазисы” в море иноэтничного
пространства, но и как “культурные консервы”. По этой причине исчезающие
формы старой традиции, описание которых велось в среде относительно про-
зрачных, преимущественно сельских обществ, были признаны подходящими
объектами для этнографического изучения.
Напротив, в реформированной фолькскунде послевоенного периода преоб-
ладала тенденция интерпретировать языковые анклавы как зоны контакта двух
или более этнических групп, а не как национальные “острова”. Послевоенная
европейская этнология (Ethnologia Europaea) подчеркивала важность межэтни-
ческого аспекта в повседневной жизни жителей этнических анклавов, тогда как
их архаичности и традиционализму уже не придавалось такого значения. Наи-
более системно это происходило в исследовании так наз. межэтнических отно-
шений; центральной фигурой в этой области была немецкий этнолог Ингеборг
Вебер-Келлерманн (ср.: Weber-Kellermann 1959)18. Именно Вебер-Келлерманн,
первоначально исходя из традиции Sprachinselvolkskunde, решила “деэтнизиро-
вать” и “деромантизировать” довоенную этнографию языковых островов (ср.:
Ibid.: 1967). Тем самым она задала новый курс на изучение лингвистически
смешанных территорий в немецкой этнологии, который впоследствии пере-
рос в исследование широко понимаемых этнических процессов (Interethnik19),
а затем - в межкультурную коммуникацию (ср.: Лозовюк 2015: 173).
Лозовюк П. “Этнические мигранты”...
149
Другим примером инновационной оценки этнографического изучения эт-
нических анклавов межвоенного периода является попытка расширить сферу
исследования немецкой этнографии до границ, затрагивающих тематику соци-
окультурных и демографических изменений, вызванных военной ситуацией.
Важной научной темой, над которой Йозеф Ханика работал в послевоенный пе-
риод, являлась проблема немецкого населения, депортированного из Восточной
Европы в оккупированные зоны Западной Германии. Самым значительным его
достижением в этой области стало обобщенное методическое пособие 1957 г.,
которое тематизировало этнографическое осмысление культурных изменений,
последовавших за массовыми вынужденными миграциями (Hanika 1957).
Преодолев трудности послевоенного периода (подробнее см.: Zückert 2001:
216), Ханика попытался вернуться к своей академической работе в новой бавар-
ской среде. Кроме преподавательской и организационной деятельности в Мюн-
хенском университете одним из самых значительных его достижений стало
написание вышеупомянутого “методического руководства по исследованиям”,
в котором он сформулировал новый подход к этнографическому осмыслению
культурных процессов, вызванных массовыми миграциями (Hanika 1957). Это
исследование Ханики являлось одной из первых теоретических работ20, став-
ших сигналом смены парадигмы в немецкой послевоенной этнологии, которая
заключалась в том, что в центр этнографического интереса была поставлена
динамика культурных изменений, вызванных миграционными перемещениями.
Научной общественности до сих пор не было известно, что инновацион-
ный вклад Ханики в немецкую послевоенную этнографию был основан и в не-
котором смысле построен на его более ранних исследованиях, которые он и
его соратники проводили еще во время войны в сборных лагерях бессарабских
немцев. Наиболее убедительным аргументом в поддержку этого заключения
является то, что данная работа Ханики имеет явные параллели с более ранней
рукописью военного времени, в которой он предложил “план” этнографических
записей переселенных бессарабских немцев (Hanika n.d.). Однако, в отличие
от рукописи, опубликованная работа содержит также теоретические отрывки,
в которых автор стремится пролить свет на динамику культурных изменений,
вызванных миграцией, с новой этнографической точки зрения.
В своей работе Ханика приходит к выводу, что этнографические исследова-
ния должны быть направлены не на фиксацию “традиционной” культуры, а на
осмысление изменений в социальной структуре, вызванных притоком мигран-
тов в иммигрантские населенные пункты. Что происходит в этнографическом,
социальном, культурном и психологическом плане, спрашивал Ханика, “когда
люди, образующие местное сообщество, связанные традициями и происхож-
дением, внезапно вынуждены покинуть свою родину в результате внешнего
импульса” (Hanika 1957: 15)? “Наш главный этнографический вопрос в обла-
сти германских племенных исследований заключается в том, чтобы выяснить,
как эти племена (Stämme. - П.Л.) и подплемена (Schläge. - П.Л.) реагируют на
потерю родины и расселение” (Ibid.: 145)? Какую форму примет “перенос па-
триархальных слоев крестьянства (Bauernvolk. - П.Л.) из юго-восточной Евро-
пы в высокоиндустриальную (и урбанизированную) среду западной Германии”
(Ibid.)?
Поиск ответов на эти и другие вопросы в конечном итоге привел к изуче-
нию процессов социальной и культурной интеграции в новой среде или иско-
ренению из нее. Общим знаменателем подобных размышлений стала фраза
“трансформация через миграцию”, где динамичные процессы ассимиляции
150
Этнографическое обозрение № 1, 2023
изучались с точки зрения как коренного населения, так и приезжих. Особое
значение для культурной трансформации традиции, по мнению Ханики, имел
травматический, интерсубъективно разделяемый опыт, связанный с вынужден-
ным перемещением. Несмотря на некоторые, сегодня уже не актуальные аспек-
ты21, упомянутая книга Ханики поднимает вопрос о том, какую роль должны
играть этнологи в осмыслении подобных социальных явлений; например, в
осознании нынешних массовых миграционных потоков, которые направляются
в страны ЕС. Очевидно, что Ханика, как и некоторые немецкие этносоциологи
(Вильгельм Эмиль Мюльман22, Ойген Лемберг или Эмерих Френцис23), считал,
что в задачу “новой” этнографии входит изучение основ формирования новых
обществ в ходе миграционных процессов. Этот подход должен был в конечном
итоге привести к “тесному и плодотворному соприкосновению между народо-
ведением и дисциплинами социальных наук” (Hanika 1957: 10).
Вероятно, единственным автором, писавшим об исследованиях Ханики в
военный период, был баварский историк и этнолог Тобиас Вегер. Вместе с тем
следует отметить, что его критическая аргументация, касающаяся вклада Хани-
ки в развитие дисциплины в Германии, не кажется вполне убедительной, осо-
бенно по причине следующих двух пунктов. Во-первых, Ханика был обвинен
в том, что посредством этих исследований принимал участие в расистской и
политической категоризации населения нацистским режимом, а значит, и в на-
цистской этнической политике (Volkstumspolitik) и расово оправданной войне
(Weger 2006: 191-192). Во-вторых, его новаторские достижения в послевоенной
немецкой этнографии рассматриваются в слишком релятивной перспективе.
В случае Vertriebenenvolkskunde Ханики, по словам Вегера, речь идет не о “ин-
новационном подходе, а о преемственности нацистских парадигм”, о чем якобы
свидетельствует терминология, используемая Ханикой (Weger 2006: 207).
О политической актуальности изучаемого этнографического исследования
свидетельствует тот факт, что импульс к его проведению исходил от предста-
вителей местной политической власти, которая его и достаточно финансово
обеспечила. С другой стороны, следует отметить, что Ханике была предостав-
лена значительная свобода в способе его проведения. Бессарабские немцы
воспринимались как отдельная этническая группа, этнографические особен-
ности которой должны были быть зафиксированы в наиболее полной форме,
поскольку предполагалось, что их ассимиляция в новой среде произойдет очень
скоро. Сбор эмпирических данных методично проводился в духе традицион-
ной межвоенной Volkskunde, но их оценку уже нельзя было осуществлять по
объективным причинам. Таким образом, была реализована только лишь первая
запланированная задача - сохранение оригинального этнографического мате-
риала “для научных целей”. Каким способом эти материалы должны были быть
в дальнейшем обработаны и использованы в политических целях, мы сегод-
ня можем только догадываться. Несомненно, этнографическая деятельность
Ханики военного периода характеризуется этнополитической радикализацией,
которая усиливалась с течением времени и в конечном итоге достигла кульми-
нации в его национал-социалистическом образе мышления. Публикации Йозе-
фа Ханики того времени, ориентированные на расовые исследования, являются
ярким тому подтверждением. Тем не менее вышеупомянутые архивные мате-
риалы служат скорее свидетельством того, что в случае изучения бессарабских
переселенцев речь шла в первую очередь об исключительно этнографическом
предприятии, целью которого действительно было документирование народной
культуры мигрантов, которая уже находилась в процессе исчезновения.
Лозовюк П. “Этнические мигранты”...
151
Примечания
1 Однако истоки этого исследовательского направления берут начало в сере-
дине XIX в. (см.: Schott 1842).
2 Новаторский вклад в эту проблематику также внесла статья профессора
этнографии Немецкого университета в Праге Густава Юнгбауэра (Jungbauer
1930a).
3 Об истории и реализации этих миграций см., напр.: Грек, Руссев 2011;
Киссе и др. 2014.
4 Обзор их регионального происхождения см.: Schmidt 2008: 86.
5 О процессе покупки сельскохозяйственных земель немецкими колониста-
ми в южных регионах Российской империи во второй половине XIX в. см.: Ка-
пустин, Радова 2005: 232-234.
6 Одним из них было соглашение от 5 сентября 1940 г., в котором оговарива-
лись условия переселения немцев из Бессарабии и Буковины. Полное название
этого соглашения: “Der deutsch-sowjetische Staatsvertrag über die Umsiedlung der
Volksdeutschen aus Bessarabien und der Nord-Bukowina. Vereinbarung zwischen
der Deutschen Rеichsregierung und der Regierung der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken über die Umsiedlung der deutschstämmigen Bevölkerung aus den
Gebieten von Bessarabien und der Nördlichen Bukowina in das Deutsche Reich”
(Schieder 1957: 134E-145E).
7 В работах таких авторов, как Дирк Яхомовски (Jachomowski 2010: 133) и
Уте Шмидт (Schmidt 2008: 317) наблюдаются незначительные различия в дан-
ных, касающихся количества немецких мигрантов. Оба автора сообщают о 93
318 зарегистрированных перемещенных лицах; Корнелия Шларб (Schlarb 2014)
называет следующую цифру - 93 342 человека. Примечательно, что кроме нем-
цев заинтересованность в переезде в Германию выразили и некоторые другие
жители Буджака, среди которых были даже евреи (Jachomowski 2010: 133).
8 Die Umsiedlung Stand 1. Juli 1942. Überliefert im Bundesarchiv Bestand NS
tuebingen.de/gerd.simon/umsiedlung-statistik[1].pdf (дата посещения: 23.10.2015).
9 Более подробно об истории, организации, задачах и практической деятель-
ности этого учреждения см.: Görlich 2014.
10 Насколько мне известно, единственным автором, обратившим внимание
на этот аспект деятельности Ханики, помимо автора данного текста, был Тоби-
ас Вегер (Weger 2006: 191).
11 О карьере Ханики в Немецком университете в Праге и о его значении для
судето-немецкой этнографии в целом см.: Lozoviuk 2008; Лозовюк 2020.
12 Речь идет о Судето-немецком институте региональных и народных иссле-
дований (Sudetendeutsche Anstalt für Landes- und Volksforschung), находившемся
в северочешском городе Либерец (Reichenberg).
13 Цитируемые документы хранятся в архиве Академии наук ЧР в Праге
(AAVČR). На момент оценки фонды не были обработаны, нумерация отдель-
ных архивных документов была выполнена автором данного текста.
14 Лингвистические исследования были проведены в пятидесяти бессараб-
ско-немецких лагерях с помощью так наз. предложений Венкера (Wenker-Sätze).
15 Что должно было произойти с оригинальными записями после проведе-
ния оценки, оставалось неясным. В письме от 29 января 1941 г., адресованном
Судетско-немецкому институту региональных и народных исследований, Хани-
ка предложил отправить их в Штутгарт, поскольку, как он написал, “бессараб-
152
Этнографическое обозрение № 1, 2023
ские немцы для нас лишь преходящее явление” (AAVČR: Dok. 17). В Штутгарте
начиная с 1917 г. работал Немецкий институт зарубежья (Deutsches Ausland-
Institut), одной из важных задач которого было изучение немцев, живущих за
границей.
16 Wagner Ferdinand “Die Bessarabiendeutschen als Bauern” (1941) (AAVČR:
Dok. 14).
17 Wagner Ferdinand “Deutsches Leben in der bessarabischen Steppe” (SOACH).
18 Вебер-Келлерманн в какой-то степени можно назвать ученицей и - на пер-
вых этапах ее академической деятельности - даже восторженной поклонницей
Вальтера Куна, но это не помешало ей впоследствии направить значительную
часть своей критики довоенного Sprachinselvolkskunde на работы своего быв-
шего наставника.
19 Межэтнические исследования в немецкой этнологии были сосредоточены
на изучении явлений культурного обмена и взаимоотношений между предста-
вителями народов, находящихся в непосредственном контакте.
20 О Ханике неоднократно положительно высказывался, например, Ульрих
Толксдорф, который считал его исследовательское направление методологи-
чески образцовым для всей (немецкой) этнографии того времени (Tolksdorf
1987: 198).
21 Речь идет о традиционных явлениях народной культуры, которые, по мне-
нию Ханики, этнограф тоже должен был фиксировать во время исследований,
проводимых среди этнических переселенцев.
22 Вклад Мюльмана в немецкую этнологию и этносоциологию рассматрива-
ется на русском языке в монографии Геннадия Евгеньевича Маркова (Марков
2004: 202-218, 307-321).
23 О карьере этих двух ученых см.: Лозовюк 2015: 178-179, 173-175.
Источники и материалы
AAVČR - Archiv AV ČR Praha. Fond: Sudetoněmecký vlastivědný ústav v Liberci.
Sudetoněmecký Archiv/Sudetendeutsches Archiv 17.-20. století.
Görlich 2014 - Görlich F. Volksdeutsche Mittelstelle (VoMi) // Online-Lexikon zur
Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. 2014. ome-lexikon.
uni-oldenburg.de/55550.html
Hanika n.d. - Hanika J. Plan für die volkskundlichen Aufnahmen in den Lagern
der deutschen Umsiedler aus Bessarabien (Manuskript aus dem AAVČR.
Fond: Sudetoněmecký vlastivědný ústav v Liberci. Sudetoněmecký Archiv/
Sudetendeutsches Archiv 17.-20. století).
Schlarb 2014 - Schlarb C. Bessarabien // Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte
der Deutschen im östlichen Europa. 2014. ome-lexikon.uni-oldenburg.de/p32551
SOACH - Státní okresní archiv Cheb. Fond č. 35: Hanika Josef, Dr. Inv. č. 112
Wagner, Ferdinand: Die Bessarabier-Deutschen als Bauer (Němci z Besarábie
jako sedláci), strojopis, doplňující korespondence (mj. 1 fotografie) 1941.
Научная литература
Грек И.Ф., Руссев Н.Д. 1812 - поворотный год в истории Буджака и “задунай-
ских переселенцев”. Кишинев: Stratum Plus, 2011.
Капустин С., Радова О. К вопросу об этнокультурном и демографическом
развитии немцев Бессарабии в ХIХ - начале ХХ вв. // Новi етноiсторич-
Лозовюк П. “Этнические мигранты”...
153
нi вимiри. Матерiали II Мiжнародного наукового семiнару “Кайндлiвськi
читання” / Под ред. Р.Ф. Кайндль. Чернивцi: Прут, 2005. C. 226-240.
Киссе И.А., Пригарин А.А., Станко В.Н. (ред.) Буджак: историко-этнографиче-
ские очерки юго-западных районов Одесчины. Одессa: PostScriptUm, 2014.
Кубякин В.В. Сочинение на заданную тему или Откуда есть пошло местечко
Тарутино в Буджаке. Арциз: ФОП Петров О.С., 2014.
Лозовюк П. Нечешские богемцы как теоретики этничности и национализма //
Этнографическое обозрение. 2015. № 2. С. 169-190.
Лозовюк П. Между наукой и идеологией. История немецкоязычной этнографии
чешских земель // Вестник Санкт-Петербургского университета. История.
Марков Г.Е. Немецкая этнология: учебное пособие для вузов. М.: Академиче-
ский Проект, 2004.
Brandes D. Germanizovat a vysídlit. Nacistická národnostní politika v českých
zemích. Praha: Prostor, 2015.
Glass H. Zerbrochene Nachbarschaft. Das deutsch-jüdische Verhältnis in Rumänien
(1918-1938). München: Oldenbourg Verlag, 1996.
Hanika J. Volkskundliche Wandlungen durch Heimatverlust und Zwangswanderung.
Methodische Forschungsanleitung am Beispiel der deutschen Gegenwart.
Salzburg: Otto Müller Verlag, 1957.
Jachomowski D. Deutsche aus Bessarabien // Lexikon der Vertreibungen. Deportation,
Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im Europa des 20. Jahrhunderts /
Hrsg. D. Brandes, H. Sundhaussen, S. Troebst. Wien: Boehlau Verlag, 2010.
S. 131-133.
Jungbauer G. Sprachinselvolkskunde // Sudetendeutsche Zeitschrift für Volkskunde.
1930a. Bd. 3: Nr. 4. S. 143- 150; Nr. 5. S. 196-204; Nr. 6. S. 244-256.
Jungbauer G. Die deutsche Volkskunde in der Tschechoslowakei // Deutsche Volkskunde
im ausserdeutschen Osten / Hrsg. G. Brandsch et al. Berlin: 1930b. S. 1-25.
Kuhn W. Deutsche Sprachinsel-Forschung. Geschichte, Aufgaben, Verfahren. Plauen
i.V.: G. Wolff, 1934.
Lozoviuk P. Němečtí vystěhovalci z českých zemí a jejich jazykové ostrovy v
jihovýchodní Evropě // Češi v cizině. 1998. № 10. C. 39-87.
Lozoviuk P. Interethnik im Wissenschaftsprozess. Deutschsprachige Volkskunde
in Böhmen und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen. Leipzig: Leipziger
Universitätsverlag, 2008.
Münz R., Ohliger R. Privilegierte Migration - Deutsche aus Ostmittel- und Osteuropa //
Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte. 1998. Nr. XXVII. S. 401-445.
Oltmer J. Erster Weltkrieg
//
Lexikon der Vertreibungen. Deportation,
Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im Europa des 20. Jahrhunderts /
Hrsg. D. Brandes, H. Sundhaussen, S. Troebst. Wien: Boehlau Verlag, 2010.
S. 716-719.
Schieder T. (ed.) Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa.
Bd. III, Das Schicksal der Deutschen in Rumänien. Berlin: Bundesministerium
für Vertriebene, 1957.
Schmidt U. Bessarabien. Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer. Potsdam:
Deutsches Kulturforum, 2008.
Schott A. Die deutschen Kolonien in Piemont: Ihr Land, ihre Mundart und Herkunft.
Ein Beitrag zur Geschichte der Alpen. Stuttgart: J.G. Cotta’scher Verlag, 1842.
Tolksdorf U. Zum Stand der ostdeutschen Volkskundeforschung // Flüchtlinge
und Vertriebene in der westdeutschen Nachkriegsgeschichte. Bilanzierung der
154
Этнографическое обозрение № 1, 2023
Forschung und Perspektiven für die künftige Forschungsarbeit / Hrsg. R. Schulze,
D. von der Brelie-Lewien, H. Grebing. Hildesheim: August Lax, 1987. S. 196-200.
Weber-Kellermann I. Probleme interethnischer Forschungen in Südosteuropa //
Ethnologia Europaea. 1967. Nr. 1. S. 218-231.
Weber-Kellermann I. Zur Frage der interethnischen Beziehungen in der
Sprachinselvolkskunde // Österreichische Zeitschrift für Volkskunde.
1959.
Nr. 62. S. 19-47.
Weger T. “Völkische Wissenschaft” zwischen Prag, Eger und München. Das
Beispiel Josef Hanika // Geschichtsschreibung zu den böhmischen Ländern
im 20. Jahrhundert. Wissenschaftstraditionen - Institutionen - Diskurse /
Hrsg. C. Brenner et al. München: Collegium Carolinum, 2006. S. 177-208.
Weinmann J. Egerländer biografisches Lexikon. Bd.
1 (A-M). Männedorf:
J. Weinmann, 1985.
Zückert M. Josef Hanika (1900-1963) Volkskundler. Zwischen wissenschaftlicher
Forschung und “Volkstumskampf” // Prager Professoren 1938-1948. Zwischen
Wissenschaft und Politik / Hrsg. M. Gletter, A. Míšková. Essen: Klartext, 2001.
S. 205-220.
R e s e a r c h A r t i c l e
Lozoviuk, P. On “Ethnic Migrants” and the Beginning of Their Ethnographic
Study in Central Europe [“Etnicheskie migranty” i nachalo ikh etnograficheskogo
izucheniia v Tsentral’noi Evrope]. Etnograficheskoe obozrenie, 2023, no. 1,
ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and
Anthropology RAS
University of West Bohemia (15 Sedláčkova, Pilsen, CZ-301 00, Czech Republic)
Keywords
ethnic migrants, history of ethnography, Bessarabia Germans, Josef Hanika, Czechia
Abstract
“Ethnic migrants” can be understood as participants of a specific type of migration,
which is characterized by institutional and material facilitation by the host country of
the conditions of migration movement based solely on the ethnic origin of migrants.
The ethnic origin declared by such migrants, as a rule, coincides with the ethnic
origin of the titular nation located in the target country. The aim of this article is to
depict the mode of implementation and methodological preconditions of one of the
first attempts at ethnographic analysis of so-called ethnic migrants and to convey how
the thematic and methodological directions of the aforementioned scientific approach
led to theoretical innovations in German-speaking ethnology in the post-war period.
As an example, studies of disappearing ethnographic phenomena conducted among
Bessarabian migrants of German origin in the territory of the then Protectorate of
Bohemia and Moravia will be presented.
Funding Information
This research was supported by the following institutions and grants:
University of West Bohemia (Pilsen, Czech Republic) [project number SGS-2022-029]
Лозовюк П. “Этнические мигранты”...
155
References
Brandes, D. 2015. Germanizovat a vysídlit. Nacistická národnostní politika v českých
zemích [Germanize and Displace: Nazi National Policy in the Czech Lands].
Prague: Prostor.
Glass, H. 1996. Zerbrochene Nachbarschaft. Das deutsch-jüdische Verhältnis in
Rumänien (1918-1938) [Broken Neighbourhood: German-Jewish Relations in
Romania (1918-1938)]. München: Oldenbourg Verlag.
Grek, I.F., and N.D. Russev. 2011. 1812 - povorotnyi god v istorii Budzhaka i
“zadunaiskikh pereselentsev” [1812 is a Pivotal Year in the History of Bujak and
the “Danube settlers”]. Kishinev: Stratum Plus.
Hanika, J.
1957. Volkskundliche Wandlungen durch Heimatverlust und
Zwangswanderung. Methodische Forschungsanleitung am Beispiel der
deutschen Gegenwart [Ethnographic Transformations through Loss of Homeland
and Forced Migration: Methodological Research Guidance Using the Example of
Contemporary Germany]. Salzburg: Otto Müller Verlag.
Jachomowski, D. 2010. Deutsche aus Bessarabien [Germans from Bessarabia].
In Lexikon der Vertreibungen. Deportation, Zwangsaussiedlung und
ethnische Säuberung im Europa des
20. Jahrhunderts
[Encyclopaedia
of Expulsions: Deportation, Forced
Resettlement and Cleansing in
20th Century Europe], edited by D. Brandes, H. Sundhaussen, and
S. Troebst, 131-133. Vienna: Boehlau Verlag.
Jungbauer, G. 1930. Die deutsche Volkskunde in der Tschechoslowakei [German
Ethnography in Czechoslovakia]. In Deutsche Volkskunde im ausserdeutschen
Osten [German Ethnography in the non-German East], edited by G. Brandsch, et
al., 1-25. Berlin.
Jungbauer, G. 1930. Sprachinselvolkskunde [Ethnography of Linguistic Islands].
Sudetendeutsche Zeitschrift für Volkskunde 3 (4): 143-150; 3 (5): 196-204; 3 (6):
244-256.
Kapustin, S., and O. Radova. 2005. K voprosu ob etnokul’turnom i demograficheskom
razvitii nemtsev Bessarabii v ХIХ - nachale ХХ vv. [On the Ethno-Cultural and
Demographic Development of Germans in Bessarabia in the Nineteenth and Early
Twentieth Centuries]. In Novi etnoistorichni vimiri. Materiali II Mizhnarodnogo
naukovogo seminaru “Kaindlivs’ki chitannia” [New Ethnohistorical Dimensions:
Materials of the II International Scientific Seminar “Kaindls Readings”], edited
by R.F. Kaindl, 226-240. Chernivtsi: Prut.
Kisse, I.A., A.A. Prigarin, and V.N. Stanko, eds.
2014. Budzhak: istoriko-
etnograficheskie ocherki iugo-zapadnykh raionov Odeschiny [Budjak: Historical
and Ethnographic Sketches of the South-Western Districts of Odessa Region].
Odessa: PostScriptUm.
Kubiakin, V.V. 2014. Sochinenie na zadannuiu temu ili Otkuda est’ poshlo mestechko
Tarutino v Budzhake [An Essay on a Given Topic or Where the Town of Tarutino
in Bujak Came from]. Artsiz: FOP Petrov O.S.
Kuhn, W. 1934. Deutsche Sprachinsel-Forschung. Geschichte, Aufgaben, Verfahren
[German Language Island Research: History, Tasks, Procedures]. Plauen
i.V.: G. Wolff.
Lozoviuk, P. 1998. Němečtí vystěhovalci z českých zemí a jejich jazykové ostrovy
v jihovýchodní Evropě [German Emigrants from the Czech Lands and Their
Language Islands in Southeastern Europe]. Češi v cizině 10: 39-87.
Lozoviuk, P.
2008. Interethnik im Wissenschaftsprozess. Deutschsprachige
Volkskunde in Böhmen und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen [Interethnics in
156
Этнографическое обозрение № 1, 2023
the Academic Process: German Ethnography in Bohemia and Its Social Impact].
Leipzig: Leipziger Universitätsverlag.
Lozoviuk, P. 2015. Necheshskie bogemtsy kak teoretiki etnichnosti i natsionalizma
[Non-Czech Bohemians as Theoreticians of Ethnicity and Nationalism].
Etnograficheskoe obozrenie 2: 169-190.
Lozoviuk, P. 2020. Mezhdu naukoi i ideologiei. Istoriia nemetskoiazychnoi etnografii
cheshskikh zemel’ [Between Science and Ideology: History of German Speaking
Ethnography of Czech Lands]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta.
Markov, G.E. 2004. Nemetskaia etnologiia: uchebnoe posobie dlia vuzov [German
Ethnology: Textbook for Universities]. Moscow: Akademicheskii Proekt.
Münz, R., and R. Ohliger. 1998. Privilegierte Migration - Deutsche aus Ostmittel-
und Osteuropa [Privileged Migration - Germans from East Central and Eastern
Europe]. Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte XXVII: 401-445.
Oltmer, J. 2010. Erster Weltkrieg [World War I]. In Lexikon der Vertreibungen.
Deportation, Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im Europa des 20.
Jahrhunderts [Encyclopedia of Expulsions: Deportation, Forced Resettlement
and Ethnic Cleansing in 20th Century in Europe], edited by D. Brandes,
H. Sundhaussen, and S. Troebst, 716-719. Vienna: Boehlau Verlag.
Schieder, T., ed.
1957. Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus
Ost-Mitteleuropa [Documentation of the Expulsion of Germans from East-
Central Europe]. Vol. III, Das Schicksal der Deutschen in Rumänien [The Fate of
the Germans in Romania]. Berlin: Bundesministerium fur Vertriebene.
Schmidt, U. 2008. Bessarabien. Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer [Bessarabia:
German Сolonists on the Black Sea]. Potsdam: Deutsches Kulturforum.
Schott, A. 1842. Die deutschen Kolonien in Piemont: Ihr Land, ihre Mundart und
Herkunft. Ein Beitrag zur Geschichte der Alpen [The German Colonies in
Piedmont: Their Land, Dialect and Origin, A Contribution to the History of the
Alps]. Stuttgart: J.G. Cotta’scher Verlag.
Tolksdorf, U. 1987. Zum Stand der ostdeutschen Volkskundeforschung [On the
State of East German Ethnographic Research]. In Flüchtlinge und Vertriebene
in der westdeutschen Nachkriegsgeschichte. Bilanzierung der Forschung und
Perspektiven für die künftige Forschungsarbeit [Refugees and Displaced Persons
in West German Postwar History: Taking Stock of Research and Perspectives
for Future Research Work], edited by R. Schulze, D. von der Brelie-Lewien, and
H. Grebing, 196-200. Hildesheim: August Lax.
Weber-Kellermann, I. 1959. Zur Frage der interethnischen Beziehungen in der
Sprachinselvolkskunde
[On the Question of Interethnic Relations in the
Ethnography of Linguistic Islands]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde
62: 19-47.
Weber-Kellermann, I. 1967. Probleme interethnischer Forschungen in Südosteuropa
[Problems of Interethnic Research in Southeast Europe]. Ethnologia Europaea 1:
218-231.
Weger, T. 2006. “Völkische Wissenschaft” zwischen Prag, Eger und München.
Das Beispiel Josef Hanika [”Völkische Wissenschaft” between Prague, Eger
and Munich: The Example of Josef Hanika]. In Geschichtsschreibung zu den
böhmischen Ländern im 20. Jahrhundert.Wissenschaftstraditionen - Institutionen -
Diskurse [Historiography of the Czech Lands in the 20th Century: Scientific
Traditions - Institutions - Discourses], edited by C. Brenner, et al., 177-208.
München: Collegium Carolinum.
Лозовюк П. “Этнические мигранты”
157
Weinmann, J. 1985. Egerländer biografisches Lexikon. Vol. 1 (A-M) [Egerländer
Biographical Dictionary, Vol. 1 (A-M)]. Männedorf: J. Weinmann.
Zückert, M. 2001. Josef Hanika (1900-1963) Volkskundler. Zwischen wissenschaftlicher
Forschung und “Volkstumskampf” [Josef Hanika (1900-1963) Ethnographer:
Between Scientific Research and the “Volkstumskampf”]. In Prager Professoren
1938-1948. Zwischen Wissenschaft und Politik [Prague Professors 1938-1948:
Between Science and Politics], edited by M. Gletter and A. Míšková, 205-220.
Essen: Klartext.