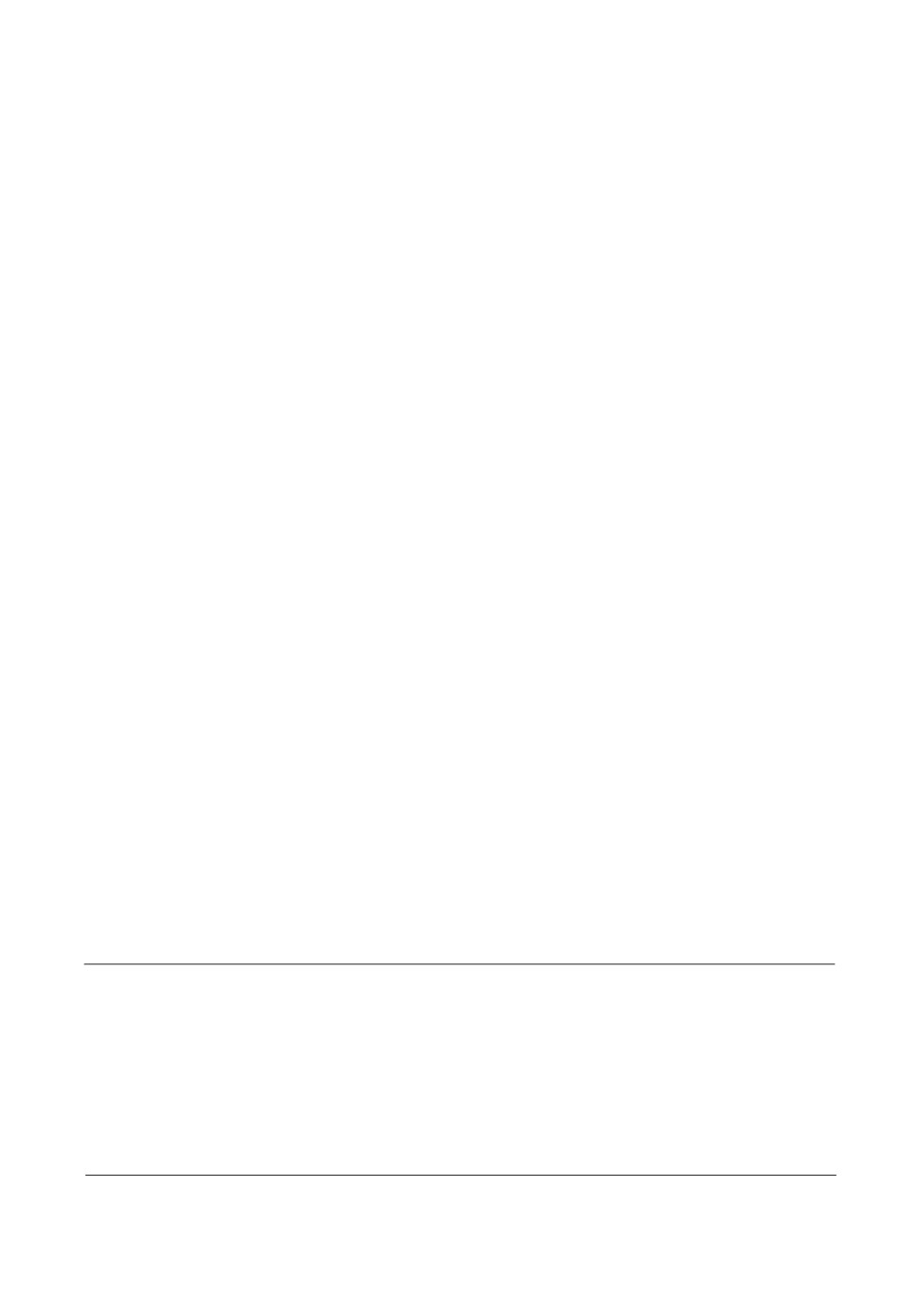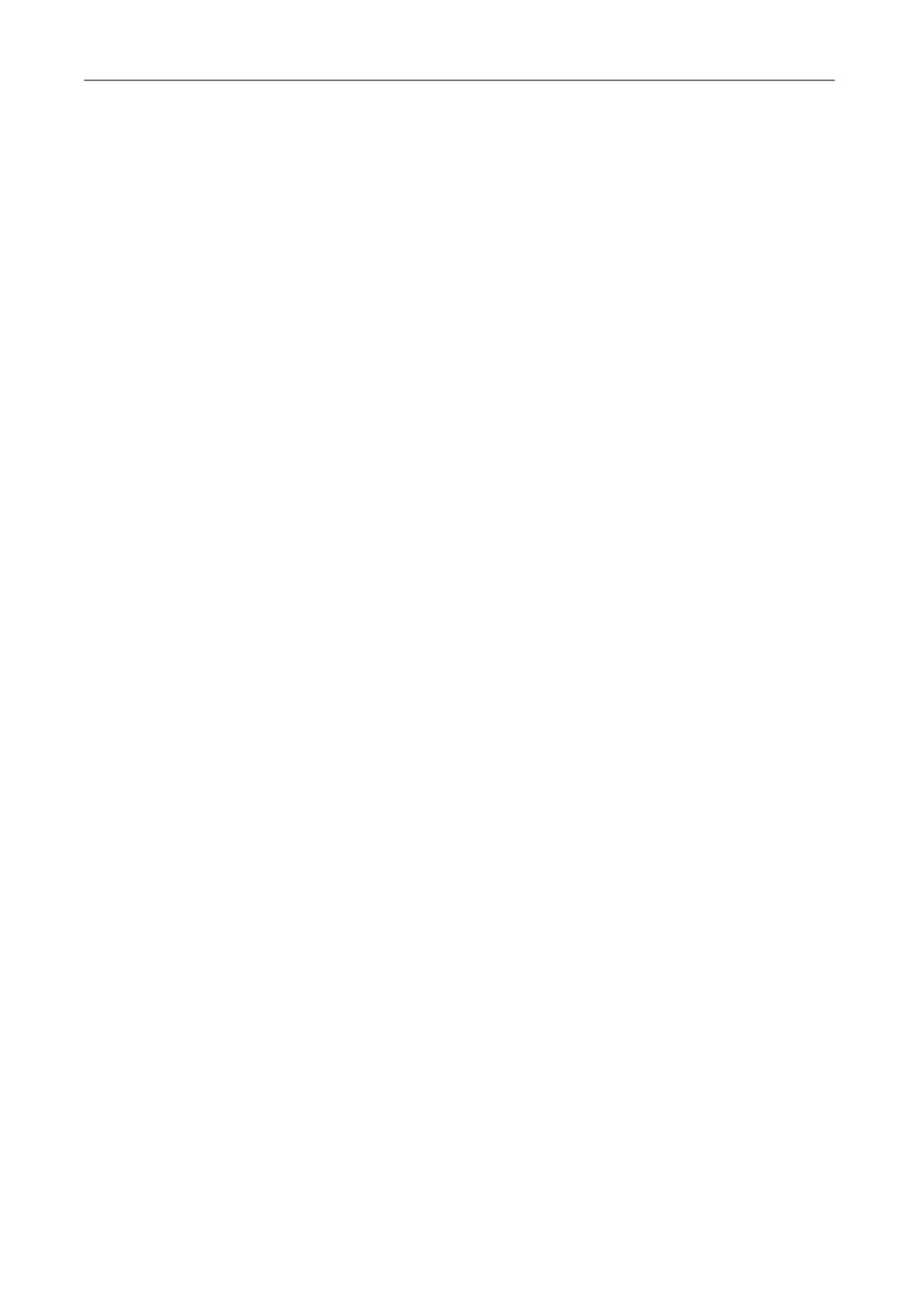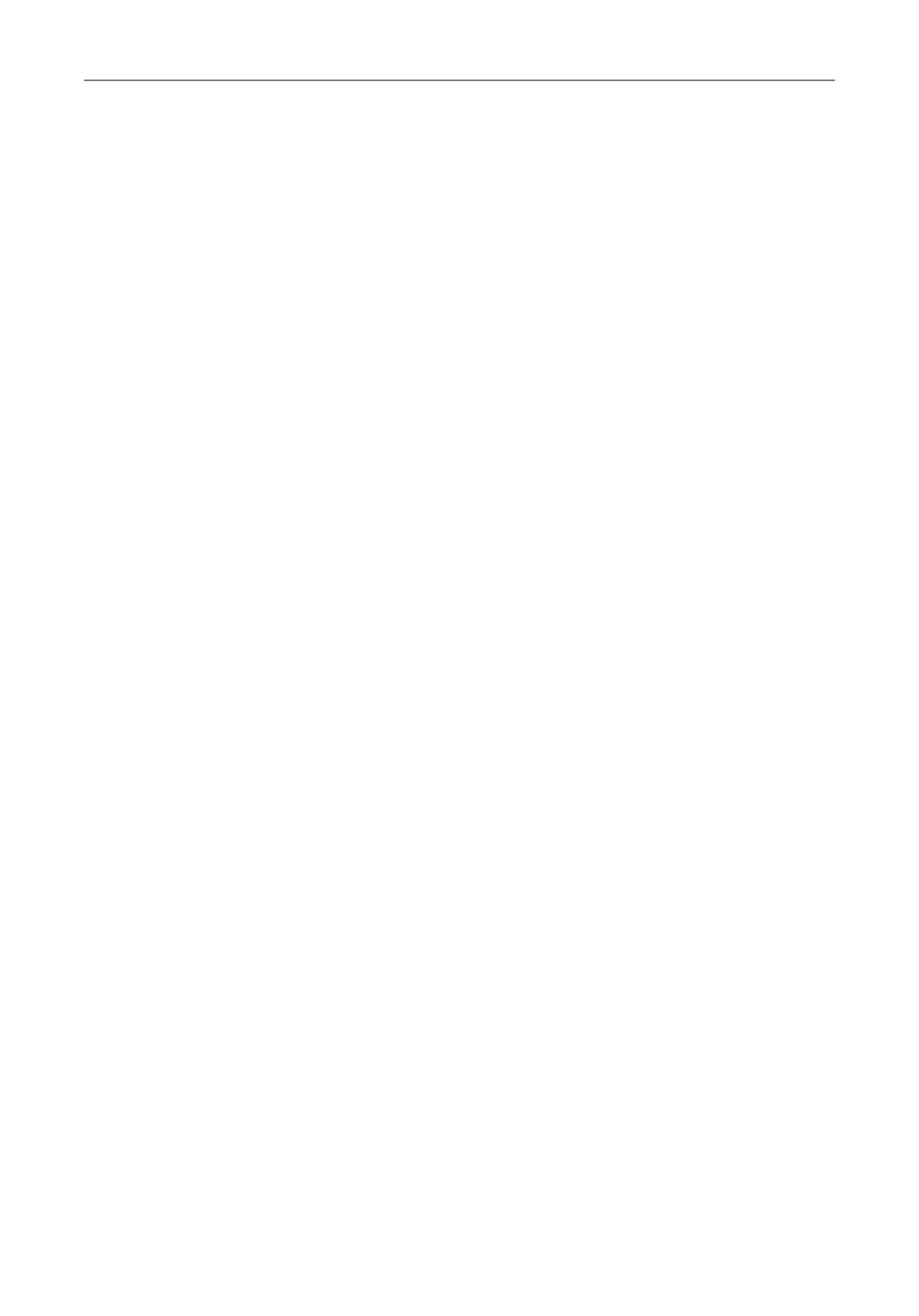ДОНСКИЕ КАЗАКИ-ДУХОБОРЦЫ
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ССЫЛКЕ
С.А. Иникова
к. и. н., ведущий научный сотрудник | Институт этнологии и антропологии РАН
(Ленинский пр. 32а, Москва, 119991, Россия)
Ключевые слова
казаки-духоборцы, вероучение, ссылка, Архангельская губерния, государство, религиоз-
ные диссиденты
Аннотация
Статья посвящена истории пребывания казаков-духоборцев в ссылке в Архангельской
губернии в 1778-1802 и 1812-1818 гг. На основе впервые введенных в научный оборот
архивных материалов показаны жизнь группы ссыльных, отступивших от православной
церкви, в экстремальных условиях Севера России, попытка создания ими религиозной
общины с привлечением местных жителей, выбранная тактика поведения в общении с
государственными чиновниками разных уровней. Автор рассматривает проявление духо-
борческой ментальности в условиях ссылки. В статье на конкретном материале показана
политика светской власти в отношении вероотступников.
Информация о финансовой поддержке
Статья публикуется в соответствии с планом НИР ИЭА РАН
екта духоборцев, возникшая предположительно в начале XVIII в., но став-
шая известной правительству только в 1768 г., принадлежала к религиоз-
С
ному направлению, которое принято называть духовным христианством.
Поклоняясь Богу “духом и истиною”, отвергая все материальные, видимые
культовые атрибуты, таинства и обряды, заявляя, что “церковь не в бревнах, а
в ребрах”, духоборцы верили, что в душе человека запечатлен троичный Божий
образ; сам Дух Святой просвещает и руководит каждым, разделяющим духобор-
ческое учение, а Сын Божий, однажды посланный Отцом на землю, продолжает
пребывать среди людей во плоти руководителей секты. Таким людям, как духо-
борцы, подчиняющимся и служащим только Богу, уже не нужны священники,
законы и правители. Идеология духоборческой секты шла вразрез с идеологией
любого государства, о чем свидетельствовала вся ее история: духоборцы были
гонимы при всех властях и прошли через пенитенциарную систему Российской
империи, Советской России и Канады, куда часть их переселилась в 1898-1899 гг.
Статья поступила 15.09.2022 | Окончательный вариант принят к публикации 25.11.2022
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Иникова С.А. Донские казаки-духоборцы в архангельской ссылке // Этнографическое обозрение.
Inikova, S.А.
2023. Don Cossacks-Doukhobors in the Arkhangelsk Exile
[Donskie
kazaki-dukhobortsy v arkhangel’skoi ssylke]. Etnograficheskoe obozrenie
1:
217-237.
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
218
Этнографическое обозрение № 1, 2023
В Российской империи духоборцы значительными группами или массово
побывали в ссылках во многих местах - и каждая, несмотря на общие черты,
имела свои особенности, становясь частью истории не только духоборческой
секты, но и российского судопроизводства с его системой наказаний. Данная
работа посвящена истории ссылки в Архангельскую губернию группы духо-
борцев - выходцев из донских казаков. Архивный материал, собранный в РГИА,
РГАДА, ГААО, ГАРК, ГАОО, НАГ и ОР РНБ, дает редкую возможность пока-
зать жизнь духоборцев в ссылке в последней четверти XVIII - начале XIX в.,
рассмотреть бытовую и религиозную стороны их пребывания на Севере
России. Исследование этих аспектов является неотъемлемой частью религиозной
антропологии. Документальный материал также позволяет изучить правовые
аспекты наказания людей, отступивших от православия. Начиная с 1768-1769 гг.
все дела о наказании духоборцев оказывались в поле зрения царствовавших особ
и чиновников высшего эшелона власти и решения по ним в полной мере отража-
ли государственную политику в отношении религиозных диссидентов.
Существует большое количество работ, написанных правоведами и исто-
риками и посвященных исследованию законодательства о наказаниях и пени-
тенциарной системе России (Жижин 1900; Колчин 1908; Фельдштейн 1893;
Марголис 1995; Упоров 2004; Шаляпин 2013). Основательно изучена уголовная
и политическая ссылка в разные исторические периоды. Однако практика нака-
заний за религиозные преступления, особенно в XVIII в., не привлекла доста-
точного внимания ученых. В качестве фундаментальной можно указать только
книгу А. Попова, одна из глав которой посвящена российскому законодатель-
ству о наказаниях за преступления против религии и нравственности в XVIII в.
Чтобы проиллюстрировать правоприменительную практику, исследователь
привлек конкретный исторический материал (Попов 1904). Пребыванию иконо-
борцев в ссылке в Коле посвящены несколько страниц книги историка-краеведа
И.Ф. Ушакова. Несмотря на то что автор использовал в работе неизвестный
ранее архивный материал, относящийся к последней четверти XVIII в., тема
осталась не раскрытой (Ушаков 2007).
Существует небольшое количество работ, исследующих ссылку за религи-
озные преступления, совершенные в XIX - начале XX в. Пожалуй, можно на-
звать лишь публикации, посвященные высылке скопцов в Якутию, духоборцев,
молокан и субботников в Закавказье (И-к 1894; Ольминский 1905; Майнов 1912;
Скопцы 1898; Иникова 2014; Breyfogle 2005).
Преступление и наказание
Делами еретиков, раскольников и богохульников, на основании Духовно-
го регламента 1721 г., занимался прежде всего духовный суд. Священникам и
иерархам православной церкви вменялось в обязанность увещеваниями воз-
вращать вероотступников в лоно православия. Но при Петре I и последующих
правителях это была скорее формальная дань христианскому гуманизму. При
Екатерине II увещеваниям в делах религиозных было придано особое значение.
Раскаявшиеся проклинали свою ересь, давали клятву больше не отпадать, це-
ловали крест и Евангелие и получали свободу. В светский суд для допросов и
вынесения приговора попадали только упорствовавшие в своем заблуждении.
Российское уголовное законодательство и судебно-следственное производ-
ство во второй половине XVIII в. было отмечено некоторой либерализацией, и это
сказалось на отношении к преступлениям против православной веры и церкви.
Иникова С.А. Донские казаки-духоборцы в архангельской ссылке
219
Если в царствование Петра I и Анны Иоанновны, в соответствии с Уложением
1649 г., Воинскими артикулами 1716 г, а также рядом указов, за богохульство и
отпадение в ересь полагались самые жестокие наказания, вплоть до сожжения,
то при Елизавете Петровне смертная казнь, в том числе и за подобные престу-
пления, была заменена вечной каторгой (Попов 1904: 287-289, 309-310, 333-335,
337-339; ПСЗ 1, 2). Екатерина II, увлеченная трудами французских просветите-
лей, в первые же годы после восшествия на престол (1762 г.) ограничила приме-
нение пыток к подследственным в светских судах и повысила роль увещевания
преступников, что должно было привести к даче чистосердечных показаний и
способствовать смягчению методов ведения розыскного процесса (ПСЗ 3).
В “Наказе Комиссии о составлении проекта Новаго Уложения” Екатерина II
сформулировала свой подход к проблеме религиозного инакомыслия. Импера-
трица руководствовалась интересами государства, в котором проживало много
разных народов и существовало много вер. В 496-й статье “Наказа” она пи-
сала: “Гонение человеческие умы раздражает, а дозволение верить по своему
закону умягчает и самые жестоковыйные сердца, и отводит их от заматерелого
упорства”. Но дозволение давать следовало “разумно”, только тому, что “право-
славною нашею верою и политикою не отвергаемо”. Екатерина II призывала к
осторожности в исследовании дел о волшебстве и еретичестве, обвинение в ко-
торых “может чрезмерно нарушить тишину, вольность и благосостояние граж-
дан, и быть еще источником безчисленных мучительств” (ПСЗ 4). Отступление
от православной церкви, обеспечивавшей идеологическую основу государства
и власти, со времени написания “Наказа” должно было рассматриваться как
нарушение государственных и общественных устоев и интересов, а не как пре-
ступление против религии. Конечной целью такого нового подхода было не что
иное, как приведение “всех сих заблудших овец” в православие, но все же бо-
лее гуманными методами, чем это делалось раньше. Этот взгляд на проблему
религиозного инакомыслия сохранялся при Павле I и получил широкое призна-
ние в государстве и обществе при Александре I. История архангельской ссылки
духоборцев в полной мере отражает изменения в государственном подходе к
отступлению от православия в тот исторический период.
В феврале 1776 г. в станицах Войска Донского были обнаружены иконоборцы.
Вероотступников оказалось всего 13 человек, пятеро из которых - дети. Казаков
долго увещевали духовные особы, и большинство иконоборцев признали свое
“заблуждение”, раскаялись и вернулись в православие. Однако, вновь оказав-
шись на свободе, они еще более утвердились в истинности внецерковного пути
спасения и с еще большим энтузиазмом опять “впали в ересь”. Когда воронеж-
ский епископ Тихон в ноябре того же года приехал в столицу Войска Донского
г. Черкасск, ему сообщили, что, кроме этих казаков, в станицах Михалевской,
Нижней Курмоярской и Филиповской нашлись и другие такие же вероотступ-
ники с семьями, - всего более 100 душ (РГАДА 2: Д. 309. Л. 1-1об).
По показаниям самих казаков, свое учение они взяли от сосланных в 1769 г.
в Азовскую крепость тамбовских раскольников (Иникова 1997). После беседы с
иконоборцами Тихон отметил, что они не только переняли у ссыльных готовое
учение, но и сами читали Библию и толковали ее по-своему, прибавляя к старым
новые заблуждения. Близкое знакомство вновь открытых еретиков с тамбовски-
ми раскольниками подтвердилось, когда во время тюремного заключения послед-
ние специально приезжали из Азова в Черкасск и приходили к тюрьме, чтобы
передать милостыню и морально поддержать единомышленников (РГАДА 2:
Д. 309: Л. 30об). И тамбовские раскольники, и донские иконоборцы принадле-
220
Этнографическое обозрение № 1, 2023
жали к секте, члены которой только в 1786 г. в официальных бумагах получат
название духоборцы, поэтому в дальнейшем в работе так и будем их именовать.
Епископ Тихон извлек из бесед с подследственными лишь некоторые поло-
жения исповедуемого ими учения и сообщил в Синод, что иконоборцы
o Боге говорят, что он в них пребывает, утверждаясь на сем: “Бог есть слово, а слово
в человеце, так и Бог в человеце”, о воплощении сына Божия умствуют странно, кни-
ги Ветхого и Нового завета называют черта, а Писание святое на сердце у человека,
Символа веры читают только первый член с прибавкою некоторых своих слов; таинств
христианских не приемлют, иконам святым не поклоняются, постов, молитвословий
общих, крестного знамения и, словом, никаких обрядов церковных не приемлют. Все их
богослужение состоит в пении некоторых псалмов Давыдовых и стишков, ими самими
сочиненных, и в поклонении друг другу (Там же: Л. 1об-2).
Тихон попытался выяснить их отношение к государству и высшей власти,
спросив, “хотят ли они быть в службе” у императрицы. В станице Михалевской
все промолчали, в Филиповской казак ответил, что хочет служить одному Богу.
Когда их спросили, а пойдут ли они по приказу императрицы воевать с врагами
отечества, они ответили уклончиво, сказав, “что у них много неприятелей тако-
вые мысли отобрать” (Там же: Л. 2). Никакие уговоры владыки не заставили их
отказаться от своего учения.
Жители станиц, опасаясь распространения ереси, обратились к местным
властям с просьбой принять меры. Дело об этих казаках пошло по инстанциям.
Синод передал его в Сенат и там 13 января 1777 г. состоялись слушания. Сена-
торы, не рискуя нарушить волю императрицы, сослались на статьи 496 и 497 ее
“Наказа” и, напомнив Синоду о неудобности прибегать к помощи светских ко-
манд для пресечения ереси, посоветовали отрядить в те селения “искусных, крот-
ких и благоразумных священников”, чтобы они словом Божьим вернули заблуд-
ших на истинный путь (Там же: Л. 4об, 5-5об). Но этим дело не закончилось.
Казаки, не желавшие служить императрице, не могли быть терпимы в такой
военизированной структуре, как Войско Донское, тем более что число их множи-
лось. Канцелярия Войска дважды обращалась к азовскому, новороссийскому и
астраханскому генерал-губернатору кн. Г.А. Потемкину, чтобы добиться ссылки в
отдаленные места наиболее упорных духоборцев. Г.А. Потемкин 15 июня 1777 г.
обратился в Сенат с рапортом и попросил “удалить сей опасный корень в Сибирь
или в другия дальния оттуда провинции” и там “употреблять при строении в тяж-
кия работы” (РГИА 2: Оп. 59. Д. 98. Л. 1). Однако сенаторы увидели опасность
распространения вредного учения среди православного населения Сибири и ре-
шили, что еретиков необходимо изолировать от православных.
Прецедентом для принятия решения по делу о донских казаках стал при-
говор, вынесенный 20 мая 1769 г. тамбовским духоборцам. Тогда, ссылаясь на
невежество, “подлую” природу и воспитание еретиков, а главное в силу бес-
примерного человеколюбия и милосердия Екатерины II, Сенат приговорил:
всех мужчин с 15 лет, “не извиняя старостию”, годных определить в военную
службу в Азовскую и Таганрогскую крепости, негодных - туда же в крепостные
работы. Отдача в солдаты как форма наказания была не нова. В приговоре по
делу о хлыстах 1733-1739 гг., например, 38 человек, после того как их высекли
плетьми, были отданы в солдаты и матросы (Попов 1904: 339). Выбор такого
наказания для тамбовских духоборцев определялся потребностями военного
времени, поскольку шла русско-турецкая война (1768-1774 гг.). Составители
указа от 1769 г. выразили надежду, что военная служба будет способствовать
соединению вероотступников с церковью и со “всеми благочестно живущими
Иникова С.А. Донские казаки-духоборцы в архангельской ссылке
221
христианами” (Высоцкий 1914: 24). Мальчиков с 5 до 15 лет следовало опреде-
лить в гарнизонные школы, а по достижении 15 лет отправить в армию, женщин
сослать с мужьями на правах солдатских жен, девок и вдов раздать православ-
ным в другие селения в работы, а детей обоего пола до пяти лет отправить в си-
ропитательный дом. И хотя сенатский указ предписывал следить за ссыльными,
чтобы они “той их прелести не рассевали”, но, как в дальнейшем выяснилось,
предотвратить “рассевание прелести” не удалось.
Поскольку в указе 1769 г. был пункт, предписывавший и далее поступать
аналогично со всеми подобными преступниками, то Сенат решил и на этот раз
сослать донских казаков в военную службу на таких же условиях, но вместе со
всеми отправить вдов и девок, а детей до пяти лет раздать на воспитание право-
славным в дворцовые и экономические волости (РГАДА 2: Д. 309. Л. 32об). Наи-
более подходящим сенаторам показался отдаленный и малолюдный заполярный
Кольский острог (с 1780 г. это уездный город). Выбирая место, возможно, учли и
пожелание Г.А. Потемкина: создать казакам такие условия, в которых они, “буду-
чи удручаемы, не токмо не будут иметь и времени и желания развращать других,
но и сами удобно к раскаянию обратятся” (РГИА 2: Оп. 59. Д. 98. Л. 1).
Сенат 26 февраля 1778 г. сообщил архангельскому губернатору Е.А. Голов-
цыну о своем решении. Казаков, как и тамбовских духоборцев, сослали без
наказания кнутом и вырезания ноздрей. И 20 октября того же года в столицу
Архангелогородской губернии, в состав которой входил Кольский уезд, прибыли
15 мужчин, 11 женщин - их жен и еще 10 вдов и девиц (РГАДА 2: Д. 309. Л. 37).
Все мужчины оказались годны к службе, но встал вопрос, куда их опреде-
лить, поскольку военная команда в Коле была укомплектована и состояла всего
из одного офицера и 24 рядовых. Никаких казенных работ, на которых можно
было бы использовать новоприбывших, не предвиделось. Кроме того, нельзя
было соединять духоборцев в одном месте, чтобы они не создали сообщества, а
Кола в то время была маленьким поселением, и там уже проживали ссыльные,
в том числе пугачевцы.
Архангельский губернатор предложил Сенату отправить казаков в более
крупную Новодвинскую крепость, где случались казенные работы и были ка-
зармы для поселения. Крепость, построенная в самом начале века на Линском
о-ве, отстояла на 15-18 верст от Архангельска. Сенат согласился, но с тем, что-
бы все-таки четырех мужчин и шестерых женщин отправили в Колу. Прибыли
они туда 5 января 1779 г. Остальных 26 человек поселили в Новодвинской кре-
пости (Там же: Л. 37-44)1.
Е.А. Головцын предписал архангельскому обер-коменданту, чтобы каза-
ков никуда из Новодвинской крепости и Колы не отпускали, “кроме самых их
нужд”, и в этом случае отправляли под надежным присмотром. Их семьи долж-
ны были там же “жить неотлучно”, и за всеми присланными надлежало устано-
вить “крепчайшее смотрение” (ГААО: Оп. 3. Д. 132. Л. 2-2об).
Жизнь в ссылке
Военная служба в XVIII в. была пожизненной, и только в 1793 г. ее срок
сократили до 25 лет (ПСЗ 5). В отставку отправляли увечных и дряхлых, кто
не мог выполнять свои обязанности. Жалованье в разных родах войск отли-
чалось, и меньше всех получали рядовые гарнизонных команд. Кроме денег, в
размере 10 руб. в год, им был положен продовольственный порцион. По штатам
1784 и 1794 гг. гарнизонный солдат получал муку, крупы и соль в год в среднем
222
Этнографическое обозрение № 1, 2023
на 3 руб. 88 коп. (Бенда 2018: 48). Во время походов рядовым полагались день-
ги на мясную порцию, но гарнизонных это не касалось. Женатым могли давать
квартирные пособия для аренды помещения (комнаты, угла).
По данным на март 1797 г. все казаки-духоборцы, кроме Степана Редечкина,
служившего в Коле, уже были переведены в поселенцы и получали инвалидное
жалованье (пенсию) - все те же 10 руб. в год, но без продовольственного по-
собия (ГААО: Оп. 3. Д. 132. Л. 1; Д. 131. Л. 7). Солдатское обеспечение и тем
более инвалидное жалованье были малы для семейных, а среди казаков было
много вдов и девиц, которых тоже надо было содержать.
За три года до прибытия в Колу казаков-духоборцев Сенат отправил туда в
ссылку на поселение десятерых участников пугачевского восстания, полагая,
что, после выделения им из государственного бюджета средств на обзаведение,
они займутся сельским хозяйством (Ушаков 2007: 37-39; РГАДА 2: Д. 291. Л. 1).
Архангельский губернатор рапортом от 31 января 1775 г. описал природно-кли-
матические условия и возможности хозяйствования в Заполярье. Он сообщал,
что “хотя б и земли удобныя к хлебопашеству были, никакой хлеб родиться
не может, но при том и земель таковых не находится да и для скотоводства
никаких удобных мест не состоит, зачем и скота там нет, кроме малого числа у
некоторых кольских жителей коров, но и тех за неимением травы кормят белым
мхом”. Народ, по словам губернатора, “пропитывался” привозным хлебом и “от
промыслов же звериных и рыбных”. В остроге проживало 56 человек посад-
ских (мужских душ), 20 человек гарнизонной воинской команды да несколько
приказных, церковников и отставных солдат, поэтому и работ “партикулярных
(частных. - С.И.), в разсуждении малости и бедности жителей, сыскивать не у
кого” (РГАДА 2: Д. 291. Л. 1-1об, 2).
Описание, данное академиком Н. Озерецковским, побывавшим в Коле в
1771 г., производит еще более удручающее впечатление: “…коляне, несмотря
на богатство моря, так живут бедно, что иногда за неимением хлеба едят со-
сновую кору” (Озерецковский 1773: 107). Впрочем, рыба и сосновая кора2 были
обычной пищей и для аборигенного населения - лопарей.
Сенат, невзирая на опасность того, что секретные ссыльные могут разбе-
жаться, с одобрения императрицы все-таки разрешил пугачевцам в Коле зани-
маться звериными и рыбными промыслами (РГАДА 2: Д. 291. Л. 3об). Хотя
решение Сената касалось конкретной группы ссыльных, после прибытия каза-
ков-духоборцев комендант Кольского острога был вынужден “по неимению ни-
какого пропитания для снискания онаго” отпускать на рыбные и зверобойные
промыслы и новоприбывших (РГИА 2: Оп. 59. Д. 98. Л. 41).
Такая же ситуация сложилась и в небольшой Новодвинской крепости. Она
занимала площадь в 9 десятин, была обнесена каменными стенами, за ними сто-
яли деревянные избушки, над которыми возвышался ветшавший деревянный
дворец Петра Великого (Островский 1848: 38; Молчанов 2009: 113). Никаких
местных заработков не было и там. Начальство Новодвинской крепости тоже
было вынуждено позволить духоборцам зарабатывать на промыслах. И хотя со
временем новодвинские духоборцы построились и переселились в собственные
дома, управляющий крепостью отмечал, что живут казаки, “с крайнею нуждою
прокармливая себя и семейства свои, и прокормиться никак не могут” (ГААО:
Оп. 3. Д. 132. Л. 1). Мужчины нанимались к хозяевам в артели и занимались
ловом трески, сельди, семги, били тюленей, а некоторые зарабатывали отловом
кречетов и соколов для соколиной охоты, которая еще была в моде при дворе
Екатерины II (Верещагин 1849: 45-47). Несмотря на суровый климат, даже в
Иникова С.А. Донские казаки-духоборцы в архангельской ссылке
223
Коле за полярным кругом население выращивало репу и капусту, занималось
сбором дикорастущей ягоды.
За время ссылки в некоторых семьях появились дети. Мальчиков, родив-
шихся в семьях солдат, в будущем тоже ожидала солдатчина, поскольку они
принадлежали военному ведомству. Петра Рящева и Василия Коренева, рожден-
ных в первые годы пребывания казаков в ссылке, поместили в гарнизонную
школу для обучения, а по достижении ими 16 лет крестили по православно-
му обряду, дав им фамилии крестных отцов - первый стал Поликиным, второй
Гайдуковым (ГААО: Оп. 3. Д. 272. Л. 71).
Коменданты крепостей следили за поведением ссыльных и ежемесячно от-
правляли в Архангельск рапорты. Духоборцы, несмотря на тяготы жизни, ста-
рались не конфликтовать с местной властью в вопросах, прямо не касавшихся
их религиозных убеждений. Отзывы кольского городничего о казаках, особенно
в последние годы их пребывания в ссылке, были исключительно положитель-
ными. В 1798 г. он сообщал военному губернатору, что казаки “ведут себя в
добропорядочном поведении в тишине и спокойствии”, в 1800 г. - что они “по-
ведения тихаго”, а в 1801 г., на фоне нелестных отзывов о других ссыльных в
Коле, - что “все оные поселенцы весьма похвальнаго поведения и потому за-
служивают о себе одобрения” (ГААО: Оп. 3. Д. 74. Л. 120, 255об; Д. 272. Л. 38).
На приходских священников была возложена обязанность систематически
увещевать духоборцев, а за регулярностью этого процесса следил преосвящен-
ный Вениамин - епископ Архангелогородский и Холмогорский. Результаты уве-
щеваний были неутешительными: только одна вдова Колычева в 1781 г. верну-
лась в православие, остальные упорствовали, хотя в случае раскаяния могли бы
получить прощение и возвратиться на прежние места жительства. Через пять
лет у священника Воскресенского собора г. Колы появилась надежда вернуть в
православие девицу Устину Редечкину. Будучи уверен, что семья и остальные
духоборцы не позволят ей этого сделать, священник просил каким-то образом
оградить Устину от их влияния (РГИА 2: Оп. 59. Д. 98. Л. 11; ГААО: Оп. 2. Т. 1.
Д. 153. Л. 1-1об), но отправить ее в другое место не представлялось возможным,
а сама Устина не решилась идти наперекор своей семье и духоборческой общине.
Побеги
“Тихое” поведение не помешало ссыльным донским казакам совершить во-
семь побегов с участием 14 человек. Бежали четыре семейные пары и брат с
сестрой, два друга, двое - поодиночке (ГААО: Оп. 3. Д. 272. Л. 70об-71). Столь
многочисленные побеги духоборцев были характерны только для архангель-
ской ссылки. Очевидно, ссыльные жили здесь более свободно, чем в других
местах, поскольку коменданты крепостей не имели возможности контролиро-
вать их передвижения.
В свое время, разрешая пугачевцам в Коле заниматься звериным и рыбным
промыслами, сенаторы полагали, что “по отдаленности и пустоте тамошняго
места кажется нет сомнения [и опасности], чтоб возможно им было бежать
оттуда внутрь России” (РГАДА 2: Д. 291. Л. 3об). Действительно, ближай-
шее русское селение Кандалакша было расположено в 210 верстах от Колы, а
Новодвинская крепость окружена со всех сторон водой. Судьба большинства
беглецов неизвестна. Возможно, кто-то погиб, ушел в Норвегию или жил где-
то, скрываясь у своих единоверцев. Однако некоторые казаки-духоборцы все же
пробирались “внутрь России”.
224
Этнографическое обозрение № 1, 2023
Побег в системе религиозно-нравственных координат разных сект оценива-
ется неодинаково. Во всех христианских сектах существовал культ мучениче-
ства, заключавшийся в стойком перенесении страданий за веру, в следовании по
пути Христа и уподоблении ему. Но одни, например скопцы, рассматривали из-
бавление от наказания с помощью побега как слабость и нежелание нести свой
крест до конца - таких беглецов презирали, в то время как духоборцы были
готовы страдать за веру, но не считали себя обязанными безропотно сносить
наказание от государства, власть которого над собой не признавали. Для по-
давляющего большинства духоборцев, уже находившихся в местах отбывания
наказания, получение свободы ценой покаяния и публичного проклятия своей
“ереси”, тем более на глазах у единоверцев, было просто невозможно. Хотя на
этапе следствия случаев покаяния и возвращения в лоно православной церкви,
очень часто неискренних, было много. Выходом из ситуации виделся побег.
Первым, еще по дороге в ссылку, бежал Михайло Поцелуев. Это был один
из проповедников духоборческого учения, лидер группы. Он сумел добраться
до земель Войска Донского, был пойман и отослан в Петербург, где его допра-
шивал генерал-прокурор Сената кн. А.А. Вяземский. Поцелуева вновь сослали,
только теперь уже не в Колу, где у него осталась взрослая дочь, а в Лифляндию
на о-в Эзель. В 1780 г. он бежал и оттуда и некоторое время скрывался в Кур-
ляндии. Потом появился в Екатеринославском наместничестве, получил про-
щение на основании всемилостивейшего манифеста от 5 мая 1779 г. по случаю
рождения великого князя Константина Павловича и приписался к мещанству
г. Новомосковска, но на житье поселился в слободе Богдановка, расположенной
недалеко от города (ОР РНБ: Л. 11; РГИА 2: Оп. 67. Д. 189. Л. 9-9об).
В эту слободу и соседние селения в конце 1770-х - начале 1780-х годов
начали съезжаться отпущенные в отставку тамбовские духоборцы, служившие
в солдатах. Число вероотступников в Богдановке и окрестностях быстро уве-
личивалось не только за счет приезжих, но и за счет притока в секту местных
жителей. В 1785 г. было начато расследование, и в числе главных совратите-
лей оказались трое: Михайло Поцелуев, Степан Кузнецов и Фома Разводов. Все
трое уже каялись, давали обещания не разглашать свое учение и якобы возвра-
щались в православие.
Поскольку Поцелуев и Кузнецов уже один раз понесли наказание за рас-
пространение “ереси”, то власти Екатеринославского наместничества решили
ограничиться взятием с них подписок о неразглашении и отпустить (РГИА 2:
Оп. 67. Д. 189. Л. 26). Однако в ноябре 1786 г. недовольный таким решением
Синод внес этот вопрос на рассмотрение в Сенат. Дело закончилось сенатским
указом, подписанным Екатериной II 20 января 1787 г., в котором говорилось,
что за все содеянные преступления Поцелуева, Кузнецова и Разводова “в страх
другим сослать в Колу, где менее людей есть, за караулом скованных, с тем,
чтоб содержаны оныя там были в разсуждении пищи и одежды собственною
их работаю и был бы за ними надлежащий от кого следует по начальству при-
смотр” (ГААО: Оп. 2. Т. 1а. Д. 110. Л. 1об). Следы Кузнецова и Разводова теря-
ются, а Михайлу Поцелуева водворили на жительство в Колу.
Побег из Колы в июне 1781 г. совершили Василий Редечкин и Антон Поце-
луев, а с ними бежал и присланный в острог почти в одно время с казаками
духоборец из экономических крестьян Шацкого уезда Ефим Титов. Ночью все
трое на лодке поплыли по р. Туломе якобы за дровами и исчезли. Посланные
комендантом люди обнаружили в Кольской губе перевернутую лодку, но тел
утонувших не нашли. Через месяц беглецы добрались до Петербурга, некоторое
Иникова С.А. Донские казаки-духоборцы в архангельской ссылке
225
время осматривались, а 10 сентября отправились в Царское Село и подали чело-
битную самой императрице с просьбой об освобождении их от работ (РГАДА 1:
Оп. 2. Д. 2521. Л. 18об-21об; Ушаков 2007: 54). Таких челобитчиков из про-
стонародья, докучавших государыне, да еще и беглых, должны были бы строго
наказать, но очень сурово обошлись только с Ефимом Титовым, которого, кроме
побега и подачи челобитной, обвинили еще и в “развратном толковании веры
и иконоборной ереси”. Его на пять лет заточили в Кексгольмскую крепость,
но поскольку Титов не подавал надежды на исправление, срок продлевали, и
в 1791 г. он умер в заключении (РГАДА 1: Оп. 2. Д. 2521. Л. 22; Ушаков 2007:
54-55). Что касается казаков-духоборцев, то Екатерина II, “заметя из сего их
поступка, что они пришли прямо к ней, более доверенность, нежели по их глу-
пости непослушание” (ОР РНБ: Л. 12), отправила их к Вяземскому и приказала
узнать, могут ли они обязаться хранить свою веру “про себя” и жить тихо, не
разглашая другим. Следуя идеям, изложенным в “Наказе”, она не требовала от
казаков отречения от их вероучения; ее заботило соблюдение общественного
порядка и спокойствия. Редечкин и Поцелуев клятвенно обещали не разглашать
свое учение, и по предложению Вяземского их отправили на о-в Эзель в кре-
пость Аренсбург на поселение, где они должны были сами, но под присмотром,
позаботиться о своем пропитании без выполнения обязательных работ. Импе-
ратрица в порыве милосердия повелела привезти из Колы в Аренсбург жену
Василия Редечкина и мать Антона Поцелуева. Хотя женщины ехали с конво-
ем, как преступницы, им были выделены значительные прогонные и кормовые
деньги (ОР РНБ: Л. 13-13об; ГААО: Оп. 1. Т. 8. Д. 66. Л. 1-13).
Прозелитизм
На местные власти Архангельской губернии и комендантов (с 1780 г.
городничих) крепостей была возложена обязанность следить, чтобы духобор-
цы не контактировали с православным населением и не вовлекали его в свою
секту. Власти губернии, чтобы минимизировать контакты, предписали комен-
данту Колы неослабно надзирать за казаками, “а при отпуске их на промыслы
подтверждать хозяевам судов, чтобы они ни под каким видом не допускали
их ни до каких не принадлежащих до них разговоров” (РГИА 2: Оп. 59. Д. 98.
Л. 41об). Духоборцы, сосланные в Новодвинскую крепость, не только нанима-
лись в промысловые артели, но и ездили по хозяйственным делам в Архангельск.
По пути они останавливались ночевать в домах местных жителей - среди них со
временем у казаков появились приятели, с которыми они говорили о вере.
В январе 1785 г. в Архангельском наместническом правлении рассматривали
дело жившего на квартире в Богоявленской Ухтостровской волости Холмогор-
ского уезда архангельского мещанина Семена Патокина, который “обличился в
заблуждении”. Вначале местные власти не связывали высказывания Патокина
с иконоборческим учением донских казаков. С него была взята подписка, что
он не будет вступать в разговоры, “не принадлежащие до него”, иначе с ним
поступят по законам (Там же: Л. 21об). В конце года епископ Архангельский
и Холмогорский сообщил в Синод, что крестьянин д. Верхний Хвост лоцман
Федор Варакин, который еще в 1783 г. исповедовался и причащался, начал вдруг
хулить церковь, перестал соблюдать посты и поклоняться иконам, не захотел
исповедаться и причаститься и других отговаривал. Он критиковал православ-
ную церковь за то, что в ней поклоняются рукотворному, что там все покупа-
ется и продается, и поэтому называл ее “вертепом разбойническим”, “капищем
226
Этнографическое обозрение № 1, 2023
идольским”, “торжищем мирским”, а священников - самозванцами и хищника-
ми. Варакин апостолов считал ложными, святыням не верил, святую воду назы-
вал поганой, с которой священник ходит по домам и “людей поганит” (Там же:
Л. 15об-16, 20об). Весной 1786 г. всякие “противности и раздоры вере хри-
стианской” стал делать крестьянин Богоявленской Ухтостровской волости кре-
чатый помытчик3 Вавила Кустов, на квартире у которого жил Патокин. Вся
семья Вавилы перестала соблюдать посты, ходить в церковь, кланяться обра-
зам, называя их кумирами и идолами. О его отступничестве епископу сообщил
сильно обеспокоенный отец Вавилы, который заметил перемены в сыне по-
сле возвращения последнего с промысла в 1785 г. (Там же: Л. 21). На допросе
Кустов показал, что “истинная церковь и исповедь состоит в сердце”, “истин-
ную веру почитает он во внутренности”, потому что “Бог установил поклонение
верою”. Вместо пищевых постов семья “постилась духом”. Кустов и его жена
признались, что слышали все это от казаков и квартировавшего у них Патокина
(Там же: Л. 32, 32об). Жены этих троих не только оказались солидарны с
мужьями, но еще более прониклись новым учением.
Выяснилось, что Патокин, Варакин и Кустов хорошо знакомы с казаками
и казачками, проживавшими в Новодвинской крепости, которые неоднократно
останавливались в домах Варакина и Кустова по пути в Архангельск и обратно.
Казаки и Патокин читали в доме Кустова Псалтырь и Евангелие и толковали
их (Там же: Л. 32-33, 34). Это был обычный для духоборцев метод вербовки
православных в свою секту: доказывать истинность своего учения, извлекая
подходящие отрывки из текстов Священного Писания и по-своему толкуя их.
Варакин не только слушал чтение, но и сам читал церковные книги, которые
брал у священника. При обыске у новоявленных иконоборцев были обнаруже-
ны записи двух больших духоборческих псалмов, в которых изложены осно-
вы учения4. Священники приступили к их увещеваниям, и уже в мае 1786 г.
Патокин, Варакин, Кустов, а также их семьи вернулись в православие. Они схо-
дили в церковь, причастились, но продолжали тайно исповедовать духоборче-
ство. Дальнейшие события показали, что контакты вступивших в секту местных
жителей и казаков-духоборцев, несмотря ни на что, продолжались. Отразилась
ли эта история на положении самих казаков, неизвестно.
При новом царе
В ноябре 1796 г. на престол взошел Павел I, который, несмотря на неприя-
тие политического курса Екатерины II, на непоследовательность принимаемых
им решений, продолжил смотреть на религиозное инакомыслие с точки зрения
сохранения общественного спокойствия и неприкосновенности государствен-
ных устоев, чтобы “каждый бы, оставаясь при исповедании того, к коему со-
весть его прилепляет, был добрым и мирным гражданином”. Считая своим дол-
гом обеспечить “свободу исповедания веры”, Павел при этом обещал “охранять
всеми мерами Святую Грекороссийскую Православную веру”, а “возмутителей
общаго покоя” предавать суду (ПСЗ 6). Некоторые принятые им послабления в
вопросах веры коснулись иностранцев и старообрядцев поповского направле-
ния (Валишевский б.г: 167-168).
Для казаков-духоборцев царствование Павла I началось с нового испыта-
ния. Как и положено, подданные империи, в том числе и ссыльные, должны
были дать присягу на верность новому императору. По правилам, приносившие
Иникова С.А. Донские казаки-духоборцы в архангельской ссылке
227
присягу повторяли текст за читавшим его вслух, а после целовали крест и Еван-
гелие. Учение духоборцев запрещало клясться и присягать, а тем более покло-
няться рукотворным вещам: иконам, кресту, Евангелию. Принесение присяги
напрямую касалось их вероисповедания. Под давлением все духоборцы, кроме
двоих, все-таки пошли на компромисс и выполнили требуемое. Солдат штатной
команды Степан Редечкин и поселенец Михайло Поцелуев отказались прине-
сти присягу, о чем комендант Колы полковник Ернер 27 ноября 1796 г. сообщил
архангельскому и олонецкому генерал-губернатору И.Р. Ливену. На допросе оба
ссыльных заявили, что “[по] силе первой и второй заповедей (заповеди, данные
Богом Моисею. Исход 20: 2-4. - С.И.), кроме создавшего небо и землю, никому
не покланяются и не присягают. Крест же и евангельские слова целовать не
хотят” (ГААО: Оп. 2. Т. 1. Д. 946. Л. 1-1об). После безрезультатных уговоров
Редечкина и Поцелуева заковали в ножные кандалы и поместили под стражу.
Генерал-губернатор решил не давать этому делу хода. По его распоряжению
Архангельское правление прислало Ернеру присяжный лист, и в конце декабря
того же года духоборцам был прочитан текст “клятвенного обещания”, под-
пись под присягой за них поставили другие (ГААО: Оп. 2. Т. 1. Д. 949. Л. 5, 6).
Но тут выяснилось, что мещанин Семен Патокин, об отпадении которого от
православия десять лет назад велось дело, тоже вначале отказывался от цело-
вания креста и Евангелия, потом исполнил требуемое, но на допросе изложил
свои прежние взгляды. Оказалось, что после покаяния и возвращения в право-
славие в 1786 г. Патокин больше не был на исповеди и у причастия. Увещевания
преосвященного Вениамина не дали результата, и чтобы Патокин “не заразил
кого своею ересью”, его по предложению Архангельского губернского прав-
ления и И.Р. Ливена с одобрения Павла I отправили в Соловецкий монастырь.
Там он должен был присутствовать на всех богослужениях, а в свободное время
участвовать в монастырских работах. Уже через семь месяцев Патокин вновь
раскаялся и повелением императора после ходатайства архимандрита монасты-
ря был освобожден (РГАДА 1: Д. 3055. Л. 1-4, 7об-9).
С воцарением Павла I у духоборцев появилась надежда, что им будет даро-
вана милость и в их жизни произойдут изменения к лучшему. Но время шло, а
ничего не менялось. 12 февраля 1798 г. Михайло Поцелуев написал императору
письмо, надеясь обратить его внимание на участь духоборцев. Публикуем пись-
мо полностью, в соответствии с оригиналом:
Ваше царское величество Павел Петрович,
нынечи слышим мы неповинным суд правой.
Мы, загнанные правды ради за слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа веруем
во единаго Бога отца вседержителя творца, которои сотворил небо и землю и вся чело-
веки, и всю красоту небесную. Глаголет Господь прежде мене не бысть ин Бог и по мне
не будет, и открыл нам свои путь правои, 1-ю заповедь и вторую. 1-я заповедь аз Господь
ваш, не будут вам Бози разве иних мене, 2-я: не сотвори себе кумира ни какого подобия,
не поклонися ни горе ни низу ни луне ни солнцу, ни коеи же прилститися поклонитися
еи опричь Бога единаго. Входим в едину соборную и апостольскую церковь где собрание
святых, причащаемся ко святым животворящим таинам безсмертным христовым, испове-
дываемся Богу единому во век милость его, кланяемся образу Божию по подобию которои
в подобие спасителя нашего Господа Иисуса Христа сына Божия. Дети наши разобраны,
домы наши раззорены мы дватцать второи год неимеем себе никакого покровительства,
обитание себе имеем аки птица на поле и братья и сестры наши все розвергнуты един по
единому препровождаемое время в городе Коле, от такова беззаконнова нападения сил
наших не стало терпеть. Намерен был итить плакатся в иные земли. Милостивои судия
уподобится милостивому Богу, гордои человек уподобится аду змеину. Проситель войска
донскаго казак Михаило Поцелуев в чем подписуюсь (ГААО: Оп. 3. Д. 74. Л. 61-61об).
228
Этнографическое обозрение № 1, 2023
Прошение лишено какого-либо подобострастия, которым обычно перепол-
нены челобитные царям. Духоборцы, считая всех людей равными по происхо-
ждению, полагали, что монархи отличаются от других только высокой должно-
стью, и отсюда такой тон письма.
Слова о беззаконном нападении звучат как обвинение всех тех, кто отправил
казаков в ссылку, и совсем уж дерзко автор письма упомянул о “милостивом
судие” и “гордом человеке”. В духоборческом вопросо-ответном псалме есть
фраза: “Милостивый человек подобен милостивому Богу” (Животная книга
1909: пс. 44). В этой фразе заложен глубокий смысл, который был понятен ре-
лигиозно просвещенным людям того времени: человек, склонный к греху, или,
как говорили, “ветхий”, по своей сути не мог быть милостивым, ибо милость
и любовь - божественные качества, и только тот, кто возрожден во Христе, кто
стремится к Богу, мог прощать, сострадать и любить, и тем уподобиться Ему.
Поцелуев поставил перед императором вопрос: а Вы кто? Выбирайте.
Письмо Поцелуева было прочитано служащим почтового правления и в
апреле представлено кольскому городничему. Тот, в свою очередь, передал его
архангельскому военному губернатору И.Р. Ливену5, который опять же не стал
производить следствие, а положил письмо в стол.
Когда Михайло Поцелуев писал свое письмо, он не знал, что 16 января 1798 г.
И.Р. Ливен отправил в Петербург генерал-прокурору кн. А.Б. Куракину пред-
ставление о ссыльных донских казаках для доклада Павлу I. И.Р. Ливен обратил
внимание А.Б. Куракина на тяжелое положение уже состарившихся в ссылке и
больных духоборцев Новодвинской крепости, инвалидное содержание которых
не позволяло им прожить. После выхода в отставку новодвинские духоборцы
очень просили о переселении их в Архангельск, где было легче найти рабо-
ту. Несмотря на их “добропорядочное поведение”, И.Р. Ливен не осмелился
“зараженным сим иконоборною ересию людям позволить свободно жить в
Архангельске”. Он предложил перевести их в другое место, “естли б по при-
меру прежде отправленных из собратий их в город Колу, повелено было и их с
семействами отправить в отдаленной и малолюдной сей губернии Архангель-
ской город”, где они могли бы себя и свои семейства “безбедно пропитывать”
(РГАДА 1: Д. 3208. Л. 1об). А.Б. Куракин доложил императору, что И.Р. Ливен
просит переселить духоборцев в Колу, хотя эту фразу можно было понять и ина-
че: отправить в маленький город, подобный Коле. И 6 февраля Павел I повелел
перевести духоборцев, находившихся в Новодвинской крепости, в Колу “для
удобнейшаго там жительства” (Там же: Л. 4).
Возможно, переселение состарившихся духоборцев в Колу инициировало
появление указа Павла I Сенату от 15 марта 1798 г., в соответствии с которым
впредь преступников, осужденных на крепостные работы, “которыя за старо-
стию, болезньми и увечьем, к делу сему не употребляясь, служат токмо на-
прасным истощением ассигнуемых на фортификационныя работы сумм <…>
отсылать по удобности (т.е. в зависимости от того, что ближе. - С.И.) на посе-
ление Архангельской губернии в город Колу и в Иркутск <…> на суконные и
заводские работы” (ПСЗ 7).
Получив в феврале 1798 г. высочайшее повеление, И.Р. Ливен тотчас распо-
рядился о его выполнении. Переселение людей, оставлявших свои дома, да еще
такое спешное, вело к их полному разорению. Две семьи в Новодвинской крепо-
сти, в которых были рожденные в ссылке дети, не выдержали новых испытаний
и заявили о своем желании оставить “иконоборскую ересь” и “воспринять веру
греческого исповедания”, только чтобы их оставили на прежнем месте (ГААО:
Иникова С.А. Донские казаки-духоборцы в архангельской ссылке
229
Оп. 3. Д. 132. Л. 13). Комендант крепости передал эту просьбу И.Р. Ливену, но
получил от него резкий, раздраженный приказ исполнять в точности то, что уже
предписано (Там же: Л. 13-14).
В предложении Архангельскому губернскому правлению от 19 февраля
И.Р. Ливен указал на обязательное соблюдение всех правил этапирования пре-
ступников, как это было определено регламентом. Вместе с тем уже от себя он
потребовал доставлять переселяемым казакам инвалидное жалование “всегда
в свое время” и отправить их до Колы с казенным пропитанием и “без всякаго
при свойственном их состоянию пропитании изнурения”, во время пути “над-
зирать, чтоб не потерпели они в дороге, особливо жены и несовершеннолетние
еще их дети, никакого изнурения и не только сурово с ними не обходится, но
стараться всемерно подавать им всякую в нуждах их помощь” (ГААО: Оп. 3.
Д. 131. Л. 1-2). Военный губернатор обязал Архангельское губернское правле-
ние предписать кольскому городничему, чтобы при строгом присмотре прибыв-
шие не только не были “ничем ни от кого утеснены, но отведя им в тот час по
прибытии обывательские в городе квартиры, не воспрещал им упражняться во
всякой свойственной их состоянию работе и даже отлучаться в близкие от Колы
места на рыбные и звериные промыслы всегда им позволял” (Там же: Л. 2).
Казакам выдали полагавшееся инвалидное жалование за два месяца и
12 человек отправились в Колу. В пути один за другим умерли муж и жена
Рящевы, которых наспех похоронили по пути.
Освобождение
Жизнь ссыльных духоборцев, а их, кроме Архангельской губернии, было
много и в других местах, круто изменилась с восшествием на престол в 1801 г.
Александра I. Для императора, воспитанного на либеральных идеях и верив-
шего в силу просвещения, а в середине своего царствования увлекшегося ми-
стическими учениями о внутренней церкви, залогом спасения стало внутрен-
нее христианство, а не та или иная церковь (Васильев 1896: 37-44; Вишленкова
1997: 97-99). Александр I в отношении религиозного инакомыслия продолжил
политику Екатерины II и попытался быть более последовательным.
Через три дня после восшествия на престол, 15 марта 1801 г., молодой им-
ператор дал указ Сенату об освобождении из заключения людей, следствия по
делам которых производились в Тайной экспедиции. К указу прилагались по-
именные списки, но духоборцев там не было (ПСЗ 8). Однако 17 марта высо-
чайшим повелением из ссылки были освобождены духоборцы, находившиеся в
Динаминдской крепости и в Екатеринбурге. 15 сентября 1801 г. начала работу
Комиссия для пересмотра прежних уголовных дел, которой поручалось собрать
сведения об узниках, “коих вины неумышленны, и более относятся ко мнению
и образу мыслей того времени, нежели к делам безчестным и действительный
государству вред наносящим” (ПСЗ 9). Александр I намеревался облегчить их
участь, но “не ослабляя силы закона”.
Освобожденные из Динаминда и Екатеринбурга духоборцы, вернувшись на
свои прежние места в Слободско-Украинскую и Новороссийскую губернии, встре-
тили далеко не добрый прием как со стороны населения, так и со стороны власти.
Возник конфликт, и вряд ли бы он хорошо закончился, если бы в самый его разгар
в ноябре 1801 г. в Слободско-Украинскую губернию с ревизией не приехали из
Петербурга сенаторы И.В. Лопухин и Ю.А. Нелединский-Мелецкий. И.В. Лопу-
хин - известный масон и мистик, приверженец европейского гуманизма, увидел в
230
Этнографическое обозрение № 1, 2023
духоборческом учении близкие ему идеи и взял духоборцев под свое покровитель-
ство. В двух донесениях императору от 12 ноября и 3 декабря Лопухин изложил
свое видение конфликта в очень благоприятном для сектантов свете и приложил
прошение духоборцев о поселении их отдельно от православных и возвращении
из ссылки всех единоверцев, еще находившихся на о-ве Эзель, в Сибири и г. Коле,
а также заключенных в Соловецком монастыре (РГИА 7: Л. 3-3об).
Комиссия для пересмотра дел приступила к рассмотрению вопроса об этих
ссыльных 17 декабря 1801 г. и пришла к выводу, что донские казаки-духоборцы,
находившиеся в Архангельской губернии, придерживаются того же учения,
что и уже освобожденные слободско-украинские, и обратилась к императору с
представлением об их освобождении и водворении на прежние места житель-
ства. Резолюция Александра I “Быть по сему” (РГИА 1: Л. 32об-33; РГАДА 1:
Д. 3704. Ч. 5. Кн. 2. Л. 141) поставила точку в 23-летней архангельской ссылке
донских казаков.
Снабженные прогонными и кормовыми деньгами до Черкасска в 1802 г. на
родину отправились 14 человек (ГААО: Оп. 3. Д. 272. Л. 73-73об, 77). Одна
Устина Редечкина, когда-то желавшая, но не решившаяся перейти в право-
славие, воспользовалась случаем и осталась в Архангельске. Вместе со всеми
отпустили и родившихся в Новодвинской крепости мальчиков Федора Коренева
и Илью Мартынова, хотя по установившейся практике их должны были изъять
из семей и поместить в гарнизонную школу. Из ссылки на Эзеле были осво-
бождены Антон Поцелуев с матерью и жена умершего к тому времени Василия
Редечкина, а также их сын, рожденный на острове.
Хотя после указа Александра I от 25 января 1802 г. на имя губернатора Ново-
российской губернии (ПСЗ 10) началось добровольное переселение духоборцев
в Таврию на земли по течению р. Молочные Воды, все освобожденные казаки
поехали на Дон, где были их родственники.
Вторая ссылка в Колу
После доклада И.В. Лопухина и Ю.А. Нелединского-Мелецкого о духо-
борцах Александр I отправил рескрипт от 27 ноября 1801 г. на имя слободско-
украинского губернатора, допустившего притеснение духоборцев, в котором
писал в духе 496 ст. “Наказа”: “И разумом и опытами давно уже дознано, что
умственныя заблуждения простаго народа, прениями и нарядными увещаниями
в мыслях его оглубляясь, единым забвением, добрым примером и терпимостью
мало по малу изглаждаются и исчезают” (Собрание 1863: 17).
Свою позицию император в скором времени более четко сформулировал в указе
от 21 февраля 1803 г. тамбовскому губернатору по поводу обнаруженных там ду-
хоборцев. Он заявил об общем правиле, которого следовало держаться в подобных
вопросах: “Чтоб не делая насилия совести и не входя в разыскание внутреннего
исповедания веры, не допускать однако же никаких внешних оказательств отсту-
пления от церкви и строго воспрещать всякие в сем соблазны, не в виде ересей, но
как нарушение общаго благочиния и порядка” (Там же). Сами же духоборцы вос-
приняли свое освобождение как признание высшей властью истинности их веры.
Под “оказательство” можно было подвести любое действие сектантов: не-
посещение церкви, погребение не по православному обряду, непринятие свя-
щенников в домах, молитвенные собрания. Продолжительность пребывания на
свободе вернувшихся казаков-духоборцев зависела от того, как скоро священ-
ник или прихожане начнут писать на них жалобы, обвиняя в оказательстве.
Иникова С.А. Донские казаки-духоборцы в архангельской ссылке
231
В 1807 или начале 1808 г. в Войске Донском была открыта группа из
13 человек, отступивших от православной церкви. Среди них наряду с обнару-
женными впервые оказались также те, кто уже побывал в архангельской ссыл-
ке. Своей вины недавние ссыльные не признавали, но кто-то из новых членов
секты, успевший быстро отречься и покаяться, показал, что они все вместе уча-
ствовали в “сборищах” и там пели псалмы, читали книги “и с ними обще рас-
крывали толки свои о той ереси” (ГАРК: Д. 1183. Л. 3).
И опять, как в 1776-1778 гг., расследование продвигалось очень неспешно
и долго не могли решить, куда же сослать виноватых: в Сибирь, в Кольский
уезд Архангельской губернии или расселить между крестьянами протестант-
ского исповедания в северных частях Финляндской и Олонецкой губерний. Для
духоборцев, уже побывавших в ссылке, наказание повторной ссылкой было
предопределено, поскольку они пренебрегли царской милостью и вовлекли в
секту других. Государственный совет однозначно признал, что эта секта “в бла-
гоустроенном обществе терпима быть не может” и решил всех мужчин с жена-
ми и на сей раз с детьми отправить в Кольский уезд. Мнение Госсовета было
утверждено Александром I 10 апреля 1811 г. (РГИА 3: Л. 2об; ГАРК: Д. 1183.
Л. 3об-4об; ПСЗ 11). Войсковая канцелярия от себя предложила дать мужчинам
по 25, а женщинам по 15 ударов кнутом (ГАРК: Д. 1183. Л. 2об). Порке подверг-
ли четверых, троих освободили по старости и еще двоих на том основании, что
на начало следствия им было по 15 лет и они не были замечены в разглашении
ереси (Там же: Л. 3об). Что же касается новооткрытых и нераскаявшихся духо-
борцев из числа казаков, то их отправили в Таврическую губернию к уже посе-
ленным там единоверцам (Там же: Л. 1об-3).
В Кольском уезде с 1803 г. уже отбывали наказание тамбовские духоборцы,
с 1804-1805 гг. - духоборцы из казаков Астраханской и крестьян Кавказской
губерний. Группа донских казаков-духоборцев из девяти человек прибыла на
место в апреле 1812 г. На сей раз их поселили не в самой Коле, а, как и дру-
гих духоборцев, по несколько человек в разных селениях лопарей, с тем чтобы
ссыльные “пропитывались от своих трудов”. Местное население промышляло
рыбными промыслами и охотой, чем пришлось заняться и духоборцам. О своей
жизни в письме от 15 июня 1817 г. на имя министра внутренних дел О.П. Козо-
давлева ссыльные писали, что “по непривычке к морским промыслам, которы-
ми занимаются здешние жители, по неимению родственников и знакомых, ко-
торые бы могли нам вспомоществовать и по разным другим причинам при всем
нашем старании об устройстве своего состояния, мы проводим самую кочевую
жизнь” (РГИА 6: Л. 3). Архангельский губернатор А.Я. Перфильев тоже вынуж-
ден был признать, что “положение их со стороны жизни и приобретения самое
трудное, как в месте весьма отдаленном, безхлебном и скудном” (Там же: Л. 9).
Донские казаки, прежде уже жившие в Коле, хорошо знали местную жизнь.
Пятеро из них когда-то отбывали ссылку в Новодвинской крепости, и у них в
Холмогорском уезде остались не просто знакомые, а единоверцы, с которыми
удалось возобновить контакты. Вовлеченные в секту еще в 1780-е годы, архан-
гельские жители сохраняли преданность духоборчеству все последующие годы
и не могли остаться безучастными к судьбе собратьев. Позже они ставили себе
в заслугу, что когда у ссыльных появилась сильная “надобность в постороннем
вспоможении, тогда мы, так как постоянные поселяне, по единомыслию в вере
и по особенной приверженности, делали им всякое пособие” (Там же: Л. 156об).
Архангельский губернатор отзывался о ссыльных духоборцах как о людях,
не дававших повода считать их “беспокойными” (Там же: Л. 9). Оказавшись
232
Этнографическое обозрение № 1, 2023
среди лопарей, которые хотя и считались православными, но в подавляющем
большинстве русского языка не знали, духоборцы были лишены возможности
привлечь кого-то из них в свою веру, так что никакого беспокойства местной
духовной и светской власти они не доставляли.
В июне 1817 г. с просьбой об освобождении сосланных в разные места, в
том числе в Кольский уезд, духоборцев и поселении их в Таврии к министру
внутренних дел О.П. Козодавлеву обратились поверенные от общества духо-
борцев на Молочных Водах. Параллельно к О.П. Козодавлеву с такой же прось-
бой обратились и сами архангельские духоборцы. В списке просителей значатся
Степан Редечкин, жена его и невестка-вдова Анна, Илья Мартынов с женой,
матерью и четырьмя детьми (Там же: Л. 1-4). Евстафий Коренев и его жена к
тому времени умерли, а их сын Федор перешел в православие, и в 1817 г. был
освобожден и отправлен на родину (РГИА 4: Л. 76).
В мае 1818 г. проездом в духоборческой слободе Терпение в Таврии побы-
вал Александр I. Жители слободы произвели на императора очень благопри-
ятное впечатление, и 26 июня 1818 г. министр внутренних дел довел до сведе-
ния Комитета министров высочайшее повеление о возвращении духоборцев,
сосланных в Архангельскую, Иркутскую и Тобольскую губернии (РГИА 5:
Л. 494). В октябре 1818 г. на казенный счет партиями из Архангельска в Таври-
ческую губернию отправились 60 духоборцев (Ливанов 1870: 631-632).
Перед отъездом “человеколюбивые христиане из иностранцев” пожертвовали
духоборцам 2550 руб., но деньги не успели прийти к этому времени. Духоборцы
решили отблагодарить отставного лоцмана Федора Варакина. Они дали ему
доверенность на получение денег с тем, чтобы он оставил их себе, “поелику, -
как они писали, - мы таковую сумму из сожаления и доброжелательства вашего
к нам сполна от вас получили” (ГАРК: Д. 1756. Л. 3, 5-6).
Отъезжавшие духоборцы пригласили архангельских единоверцев пересе-
литься к ним на Молочные Воды и обещали в свою очередь помочь им обустро-
иться. И в 1820 г. пять человек, уже далеко немолодых архангельских жителей,
не прося у казны никаких пособий, попытались переехать в Таврию. Однако
на тот момент переселение на Молочные Воды было закончено, да и устное
приглашение, данное при отъезде, силы не имело. Скорее всего, молочновод-
ские духоборцы даже и не знали о неожиданно возникшем у их друзей желании
воссоединиться с ними. Архангельский губернатор сумел убедить архангель-
ских духоборцев отказаться от тщетных попыток и остаться на месте (РГИА 6:
Л. 147-147об, 156-157об, 159-160, 165об; Ливанов 1872: 523-525).
К началу очередного принудительного массового переселения духоборцев с
Молочных Вод в недавно присоединенные к России области Закавказья за отказ
перейти в православие из тех донских казаков, кто был еще в первой архангельской
ссылке, в списках значился только Илья Мартынов, проживавший в слободе с мно-
гозначительным названием Терпение (ГАОО: Л. 120об). Мартынова с семьей вы-
слали в Закавказье в 1841 г. в первой партии, в которую включили “страдальцев” -
людей, прошедших тюрьмы и ссылки, и их потомков как наиболее влиятельных
среди духоборцев и способных своим авторитетом удержать людей от перехода в
православие. По документам, Илья Мартынов с сыновьями и внуками прибыл на
новое место поселения (НАГ: Л. 8об), но потом его фамилия исчезает из списков
закавказских духоборцев. Проведя свои детские годы в Новодвинской крепости
и Коле, отбыв шесть лет во второй архангельской ссылке, он вновь оказался в ус-
ловиях, когда надо было начинать жизнь с нуля, и, очевидно, не выдержав нового
испытания, принял условия правительства и вернулся с семьей в Таврию.
Иникова С.А. Донские казаки-духоборцы в архангельской ссылке
233
* * *
Религиозная терпимость, провозглашенная Екатериной II, поддержанная
Павлом I и положенная в основу государственной политики Александром I, по
сути означала лишь гуманизацию методов возвращения вероотступников в лоно
православной церкви. В условиях, когда православная церковь имела статус го-
сударственной и была наделена исключительным правом распространять свое
учение, веротерпимость не могла выйти за рамки декларации. Результатом но-
вого взгляда на вероотступничество как на нарушение государственных устоев
и общественного порядка стал тот факт, что даже при Александре I - самом ли-
беральном императоре, старавшемся проводить в жизнь принципы веротерпи-
мости - духоборцы вновь и вновь попадали в ссылку за “оказательство” своей
веры. В лице духоборческой секты Российское государство в XVIII в. впервые
столкнулось с религиозной организацией, члены которой исповедовали учение,
отрицавшее необходимость и государства, и царской власти и потому уже са-
мим фактом своего существования подрывавшей основы порядка.
Первая и вторая архангельские ссылки имели общие цели: наказать духо-
борцев и устрашить сочувствовавших им, изолировать вероотступников от
православного населения. Однако в организации ссылок были существенные
отличия. Первая сочетала сразу два вида наказания: отправку на поселение в
отдаленную местность с тяжелыми условиями проживания и одновременно от-
дачу мужчин в армейскую службу, что все-таки давало какое-то материальное
обеспечение. Контролировать передвижения и изолировать духоборцев от пра-
вославных оказалось невозможно, результатом чего стало большое количество
побегов и вовлечение в секту местных жителей. Во время первой ссылки свя-
щенники периодически увещевали духоборцев, не оставляя попыток вернуть
их в православие. Вторая - была классической ссылкой на поселение. Духобор-
цы жили исключительно тем, что зарабатывали своими трудами. Правительство
обратило особое внимание на то, чтобы не только изолировать духоборцев от
православных, но и разъединить их. Для этого людей расселяли по разным се-
лениям среди инородцев, которых невозможно было совратить в секту в силу
языкового барьера. Во второй ссылке духоборцев, видимо, уже не увещевали.
Оказавшись в тяжелейших условиях архангельской ссылки, духоборцы про-
демонстрировали готовность страдать за веру и в то же время, в целях выжива-
ния, идти на небольшие компромиссы. И хотя у каждого из них могли быть свои
представления о границах допустимых уступок властям, но общая стратегия
поведения группы в условиях несвободы формировалась и контролировалась
коллективно на основании религиозных установок секты.
Несмотря на то что в ссылку попадали самые упорные, не поддавшиеся на
увещевания священников и угрозы во время следствия, система наказаний да-
вала свои результаты и не только отсеивала людей, не готовых идти “тесным
путем”, но ломала даже тех, кто был готов к величайшим жертвам ради спасе-
ния души. Духоборческое сообщество высоко ценило тех, кто, пройдя через все
испытания, остался верен своему вероучению и секте, - таких людей называли
“страдальцами”, ими гордились, а воспоминания об их страданиях становились
неким моральным камертоном, с которым последующие поколения сверяли
свою жизнь.
234
Этнографическое обозрение № 1, 2023
Примечания
1 Список казаков, поселенных в Новодвинской крепости:
Корнило Коренев (45 лет) с женой (47), Евстафий Коренев (40) с женой (30);
Яков Рящев (58) с женой (50), их сын Семен (30) и дочь Анна (25), жена Семена
(26); Семен Агафонов (22) и его сестра (25); Фирс Маркин (30) и его жена (27);
вдова Авдотья Мартынова (60) и ее дети: Антон (36), Матфей (21), жена Антона
(28), невестка (28); Яким Кузнецов (22) и его жена (20); Герасим Хрустев (50)
и его жена (40); Иван Ражнов (40) и его жена (28); женка Настасья (30); вдова
Катерина Колычева (37).
Список казаков-духоборцев, поселенных в Коле:
вдова Агафья Редечкина (45) и ее дети: Василий (30), Степан (25), Устина
(22) Редечкины, жена Василия (32) и жена Степана (24); вдова Наталья Поце-
луева (60) и ее дети: Антон (24), Ларион (20) Поцелуевы; сбежавший Михайло
Поцелуев и его дочь Пелагея (20) (РГИА 2: Оп. 59. Д. 98. Л. 63-63об).
2 Лопари использовали в пищу не саму сосновую кору, а заболонь - наруж-
ный, менее плотный слой древесины, лежащий непосредственно под корой.
Заболонь снимали, долго вываривали, сушили и измельчали до состояния муки.
3 Кречатый помытчик занимался отловом кречетов и обучал их охоте.
4 Эти псалмы имеют незначительные отличия от псалмов № 73 и № 86,
помещенных в “Животной книге духоборцев”.
5 В должности Архангельского и Олонецкого генерал-губернатора И.Р. Ливен
был менее года (1796 г.). С начала 1797 г. он стал Архангельским военным
губернатором.
Сокращения
ГААО - Государственный архив Архангельской области.
ГАОО - Государственный архив Одесской области.
ГАРК - Государственный архив Республики Крым.
НАГ - Национальный архив Грузии.
ОР РНБ - Отдел рукописей Российской национальной библиотеки.
РГАДА - Российский государственный архив древних актов.
РГИА - Российский государственный исторический архив.
ПСЗ - Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое.
1649-1825. СПб.: Тип. II Отделения собственной ЕИВ канцелярии, 1830.
Источники и материалы
Валишевский б.г. - Валишевский К. Сын Великой Екатерины Император Павел
I. Его жизнь, царствование и смерть. 1754-1801. СПб.: Новое время - изд-во
А.С. Суворина.
Верещагин 1849 - Верещагин В. Очерки Архангельской губернии. СПб.: Тип.
Я. Трея, 1849.
Высоцкий 1914 - Высоцкий Н.Г. Материалы из истории духоборческой секты.
Сергиев Посад: Тип. И.И. Иванова, 1914.
ГАОО - ГАОО. Ф. 1. Оп. 151. 1841 г. Д. 77.
ГАРК - ГАРК. Ф. 27. Оп. 1.
Животная книга 1909 - Животная книга духоборцев / Сост. В.Д. Бонч-Бруевич.
СПб., 1909.
Иникова С.А. Донские казаки-духоборцы в архангельской ссылке
235
Ливанов 1870 - Ливанов Ф.В. Раскольники и острожники. Очерки и рассказы.
СПб.: Тип. М. Хани, 1870. Т. 2.
Ливанов 1872 - Ливанов Ф.В. Раскольники и острожники. Очерки и рассказы.
СПб.: Тип. М. Хани, 1872. Т. 3.
Молчанов 2009 - Молчанов К.С. Описание Архангельской губернии. М.: Фонд
поддержки экономического развития стран СНГ, 2009.
НАГ - НАГ. Ф. 254. Оп. 1. Д. 1946. 1842 г.
Ольминский 1905 - Ольминский М. Из истории сектантства в Якутской области
// Правда. 1905. Август. С. 155-181.
ОР РНБ - ОР РНБ. Ф. F1, 761.
Островский 1848 - Островский Д.Н. Путеводитель по Северу России. СПб.:
изд-е Тов-ва Архангельско-Мурманского пароходства, 1848.
ПСЗ 1 - ПСЗ. Т. XIII. № 9871, 10.113.
ПСЗ 2 - ПСЗ. Т XIV. № 10.306, 10.541.
ПСЗ 3 - ПСЗ. Т. XVI. № 11.717, 11.750, 11.759.
ПСЗ 4 - ПСЗ. Т. XVIII. № 12.949. Ст. 495-497.
ПСЗ 5 - ПСЗ. Т. XXIII. № 17.149. Cт. 6.
ПСЗ 6 - ПСЗ. Т. XXIV. № 17.879. C. 512-513; № 17.904. С. 524.
ПСЗ 7 - ПСЗ. Т. XXV. № 18.437.
ПСЗ 8 - ПСЗ. Т. XXVI. № 19.784.
ПСЗ 9 - ПСЗ. Т. XXIV. № 20.012. C. 790.
ПСЗ 10 - ПСЗ. Т. XXVII. № 20.123.
ПСЗ 11 - ПСЗ. Т. XXXI. № 24.590. C. 612-613.
РГАДА 1 - РГАДА. Ф. 7. Оп. 2.
РГАДА 2 - РГАДА. Ф. 248. Оп. 113.
РГИА 1 - РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 679.
РГИА 2 - РГИА. Ф. 796.
РГИА 3 - РГИА. Ф. 1147. Оп. 1. Д. 662.
РГИА 4 - РГИА. Ф. 1163. Оп. 1. 1816 г. Д. 1б.
РГИА 5 - РГИА. Ф. 1263 (1802-1906). Оп. 1. 1816 г. Д. 100.
РГИА 6 - РГИА. Ф. 1284. Оп. 195. 1817 г. Д. 23.
РГИА 7 - РГИА. Ф. 1307. Оп. 1. Д. 51.
Скопцы 1898 - Скопцы в Якутской области // Сибирский торгово-промышленный
и справочный календарь на 1898 г. Томск: Изд. Ф.П. Романов, 1898. С. 279-310.
Собрание 1863 - Собрание постановлений по части раскола. Лондон: Trubner
& Co, 1863.
Научная литература
Бенда В.Н. Особенности продовольственного и вещевого обеспечения личного
состава русской армии во второй половине XVIII в. // Juvenis scientia. 2018.
№ 11. С. 46-48.
Васильев А. Веротерпимость в законодательстве и жизни в царствование Алек-
сандра I (1801-1825 гг.) // Наблюдатель. 1896. № 6. С. 35-56.
Вишленкова Е.А. Религиозная политика: официальный курс и “общее мнение”
России Александровской эпохи. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1997.
Жижин В.Д. Ссылка в России (законодательная история русской ссылки) //
Журнал Министерства юстиции. СПб., 1900. № 2. С. 53-95.
И-к В. Олёкминские скопцы. Историко-бытовой очерк // Живая старина. 1894.
Вып. 2. С. 301-324.
236
Этнографическое обозрение № 1, 2023
Иникова С.А. “Небесный град” в Якутской тайге // Традиционная культура.
2014. № 1. С. 71-81.
Иникова С.А. Тамбовские духоборцы в 60-е годы XVIII века // Вестник Тамбов-
ского университета. Серия: Гуманитарные науки. 1997. Вып. 1. С. 39-53.
Колчин М. Ссыльные и заточенные в острог Соловецкого монастыря
в XVI-XIX вв. М.: Посредник, 1908.
Майнов И.И. Русские крестьяне и оседлые инородцы в Якутской области //
Записки РГО по отделу статистики. 1912. Т. XII. С. 297-339.
Марголис А.Д. Тюрьма и ссылка в императорской России: исследования и
архивные находки. М.: Лантерна; Вита, 1995.
Озерецковский Н. Примечание на Кольский острог // Труды Вольного эконо-
мического общества. СПб.: Издание Академии наук, 1773. Ч. XXIV-XXV.
С. 105-115.
Попов А. Суд и наказание за преступления против веры и нравственности по
русскому праву. Казань: Типо-литография Императорского ун-та, 1904.
Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в XVIII-XX вв. Историко-пра-
вовой анализ тенденций развития. СПб.: Юридический Центр Пресс, 2004.
Ушаков И.Ф. Ссылка на Кольский Север в досоветское время. Мурманск:
Мурманское книжное изд-во, 2007.
Фельдштейн Г. Ссылка. Очерки ее генезиса, значения, истории и современного
состояния. М.: Товарищество скоропечати А.А. Левенсон, 1893.
Шаляпин С.О. Церковно-пенитенциарная система России XV-XVIII веков.
Архангельск: ИПЦ САФУ, 2013.
Breyfogle N. Heretics and Colonizers: Forging Russia’s Empire in the South Caucasus.
L.: Cornell University Press, 2005.
R e s e a r c h A r t i c l e
Inikova, S.А. Don Cossacks-Doukhobors in the Arkhangelsk Exile [Donskie
kazaki-dukhobortsy v arkhangel’skoi ssylke]. Etnograficheskoe obozrenie, 2023,
ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and
Anthropology RAS]
Svetlana Inikova
|
|
ovis2@yandex.ru
|
Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences
(32a Leninsky prospect, Moscow, 119991, Russia)
Keywords
Cossacks-Doukhobors, creed, exile, Arkhangelsk province, state, religious dissidents
Abstract
The article examines the life of Cossacks-Doukhobors, who retreated from the
Orthodox Church, in exile in the Arkhangelsk province in 1778-1802 and 1812-1818.
I draw on a range of newly discovered archival materials to describe the experience
of a group of exiles in the extreme conditions of the North of Russia, their attempt
to create a religious community involving the local residents, and their tactics of
behavior vis-a-vis state authorities of different levels. I explore the manifestations of
the Doukhobor mentality as exhibited in the conditions of the exile and discuss the
policies of the secular authorities towards the apostates.
Иникова С.А. Донские казаки-духоборцы в архангельской ссылке
237
References
Benda, V.N. 2018. Osobennosti prodovol’stvennogo i veshchevogo obespecheniia
lichnogo sostava russkoi armii vo vtoroi polovine XVIII v. [Features of Food and
Clothing Provision of the Personnel of the Russian Army in the Second Half of
the 18 Century]. Juvenis scientia 11: 46-48.
Breyfogle, N. 2005. Heretics and Colonizers: Forging Russia’s Empire in the South
Caucasus. London: Cornell University Press.
I-k, V. 1894. Olekminskie skoptsy. Istoriko-bytovoi ocherk [Olekminsky Eunuchs:
Historical and Household Essay]. Zhivaia starina 2: 301-324.
Inikova, S.A. 1997. Tambovskie dukhobortsy v 60-e gody XVIII veka [Tambov
Doukhobors in the 60s of the 18 Century]. Vestnik Tambovskogo universiteta.
Seriia Gumanitarnye nauki 1: 39-53.
Inikova, S.A. 2014. “Nebesnyi grad” v Yakutskoi taige [“Heavenly City” in the Yakut
Taiga]. Traditsionnaia kul’tura 1: 71-81.
Feldshtein, G. 1893. Ssylka. Ocherki ee genezisa, znacheniia, istorii i sovremennogo
sostoianiia [Exilel: Essays on Its Genesis, Meaning, History and Current State].
Moscow: Tovarishchestvo skoropechati А.А. Levinson.
Kolchin, M. 1908. Ssyl’nye i zatochennye v ostrog Solovetskogo monastyria
v XVI-XIX vv. [Exiled and Imprisoned in the Prison at the Solovetskii Monaster’
in the 16th-19th Centuries]. Moscow: Posrednik.
Mainov, I.I. 1912. Russkie krest’iane i osedlye inorodtsy v Yakutskoi oblasti [Russian
Peasants and Settled Foreigners in the Yakut Region]. Zapiski RGO po otdelu
statistiki XII: 297-339.
Margolis, A.D. 1995. Tiur’ma i ssylka v imperatorskoi Rossii: issledovaniia i
arkhivnye nakhodki [Prison and Exile in Imperial Russia: Research and Archival
Findings]. Moscow: Lanterna; Vita.
Ozeretskovskii, N. 1773. Primechanie na Kol’skii ostrog [Note on the Kola Fortress].
Trudy Vol’nogo ekonomicheskogo obshchestva XXIV-XXV: 105-115.
Popov, A. 1904. Sud i nakazanie za prestupleniia protiv very i nravstvennosti po
russkomu pravu [Trial and Punishment for Crimes Against Faith and Morality
under Russian Law]. Kazan’: Tipo-litographiia Imperatorskogo universiteta.
Shaliapin, S.O. 2013. Tserkovno-penitentsiarnaia sistema Rossii XV-XVIII vekov [The
Church Penitentiary System of Russia of the 15th-18th Centuries]. Arkhangel’sk:
IPTs SAFU.
Uporov, I.V. 2004. Penitentsiarnaia politika Rossii v XVIII-XX vv. Istoriko-
pravovoi analiz tendentsii razvitiia [Penitentiary Policy of Russia in the 18-20
Centuries: Historical and Legal Analysis of Development Trends]. St. Petersburg:
Yuridicheskii Tsentr Press.
Ushakov, I.F. 2007. Ssylka na Kol’skii Sever v dosovetskoe vremia [Link to the Kola
North in Pre-Soviet Times]. Murmansk: Murmanskoe knizhnoe izdatel’stvo.
Vasiliev, A. 1896. Veroterpimost’ v zakonodatel’stve i zhizni v tsarstvovanie
Aleksandra I (1801-1825 gg.) [Religious Tolerance in Legislation and Life in the
Reign of Alexander I (1801-1825)]. Nabliudatel’ 6: 35-56.
Vishlenkova, E.A. 1997. Religioznaia politika: ofitsial’nyi kurs i “obshchee mnenie”
Rossii Aleksandrovskoi epokhi [Religious Policy: The Official Course and
the “General Opinion” of Russia of the Alexander Era]. Kazan’: Izdatel’stvo
Kazanskogo universiteta.
Zhizhin, V.D. 1900. Ssylka v Rossii (zakonodatel’naia istoriia russkoi ssylki)
[Exile in Russia (Legislative History of Russian Exile)]. Zhurnal Ministerstva
Yustitsii 2: 53-95.