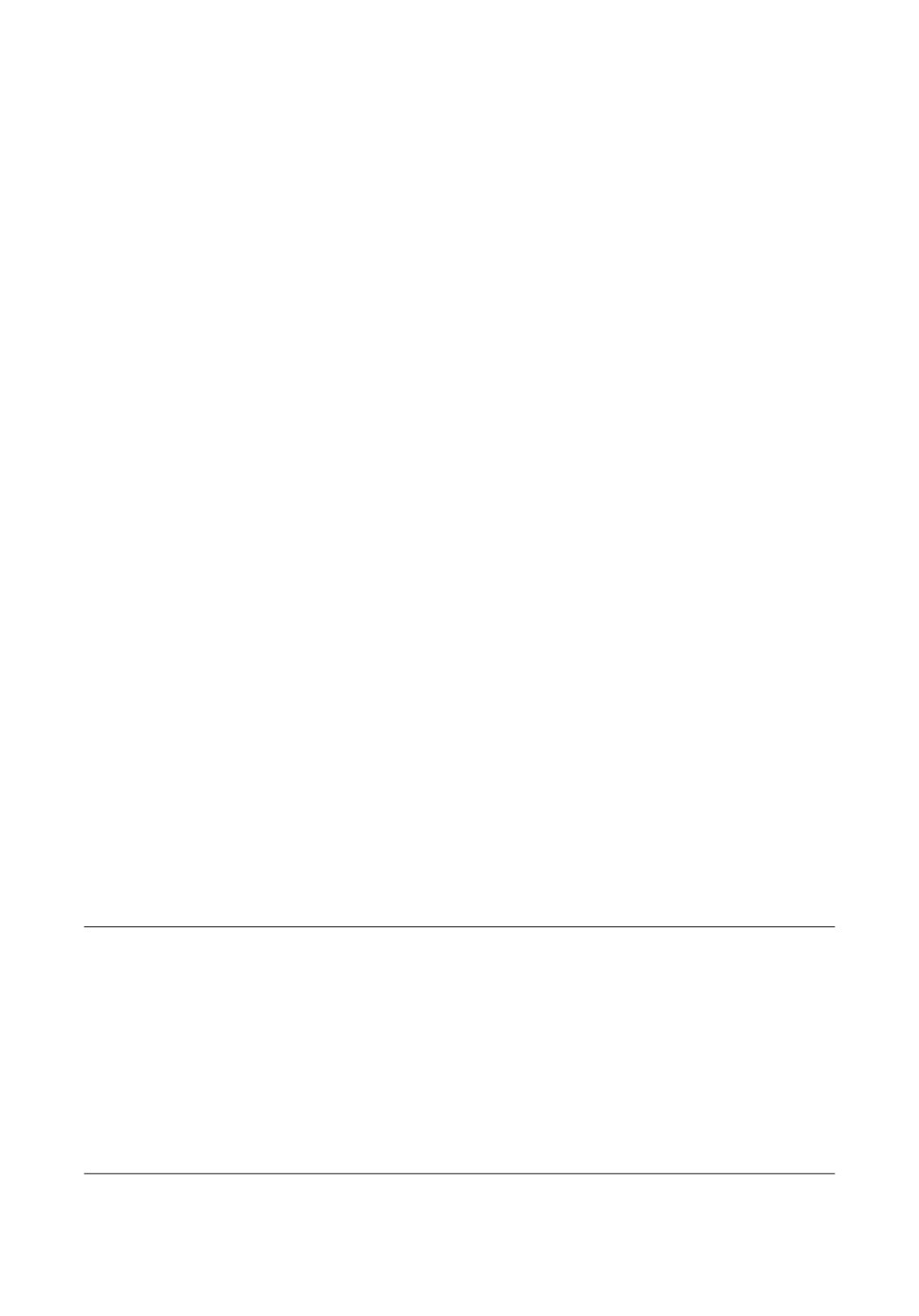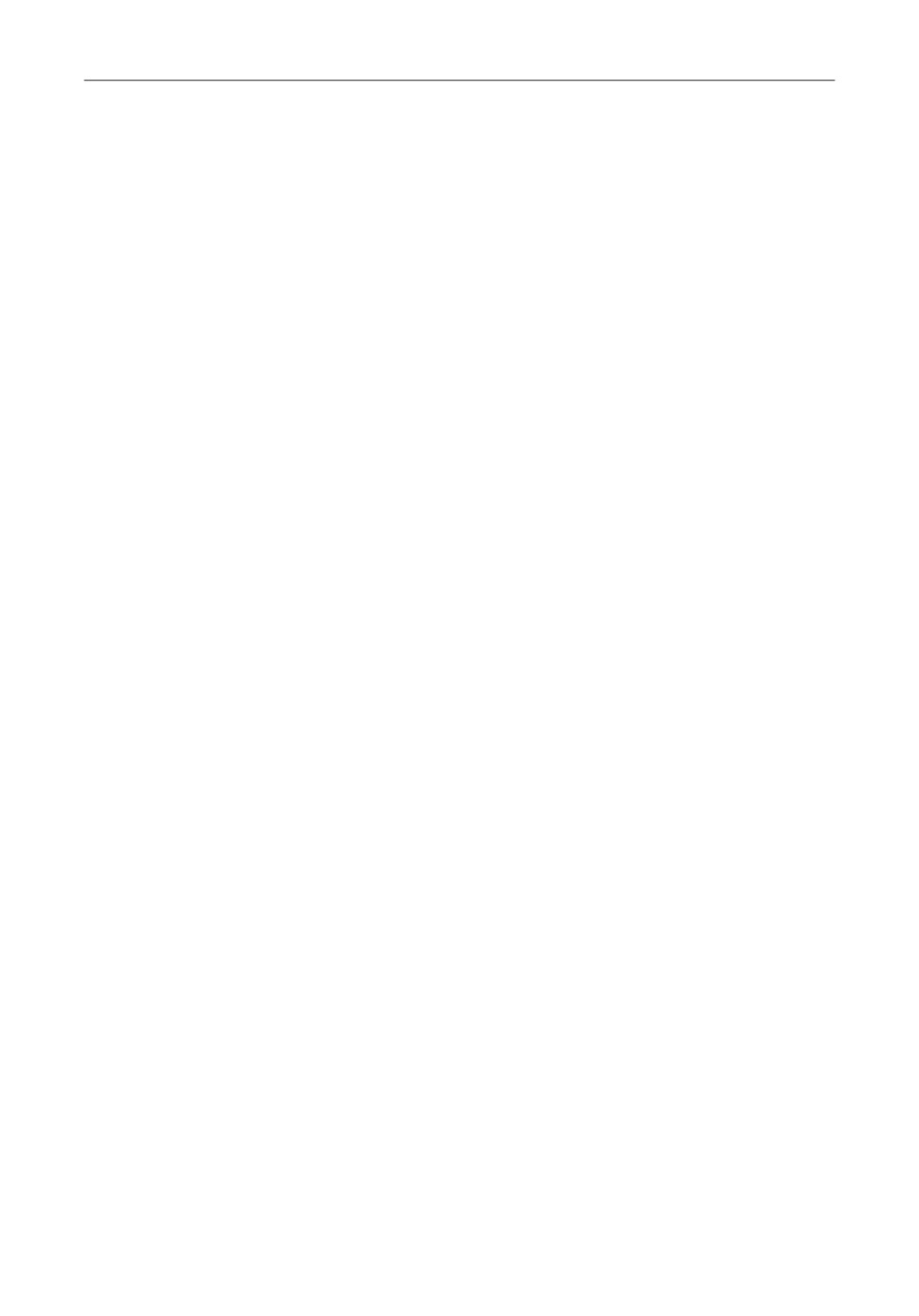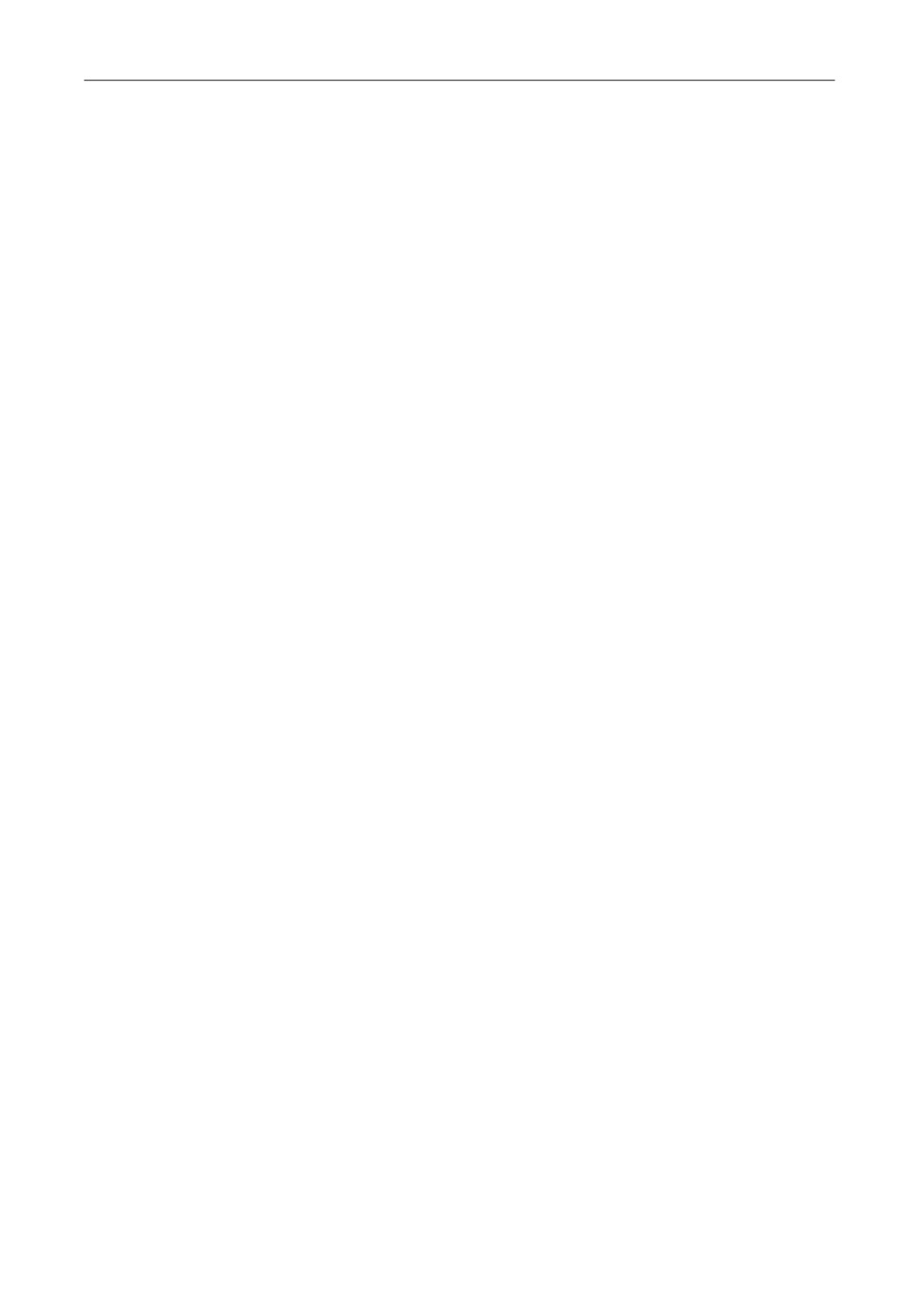СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕМА НОМЕРА:
ИКОНА И ТОПОР: ДИСКУРСЫ О БОГОХУЛЬСТВЕ
И СВЯТОТАТСТВЕ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
И СОВРЕМЕННОСТИ
(отв. ред. - А.А. Панченко)
А.А. Панченко
Александр Александрович Панченко
|
|
apanchenko2008@gmail.com | д. филол. н., профессор | Европейский университет в
Санкт-Петербурге (ул. Гагаринская 6/1a, Санкт-Петербург, 191187, Россия) | Институт
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (наб. Макарова 4, Санкт-Петербург, 199034,
Россия) | Тартуский университет (ул. Юликооли 18, Тарту, 50090, Эстония)
Ключевые слова
богохульство, кощунство, святотатство, ритуальная агентность, моральные паники,
идентичность, социальный порядок
Аннотация
Вступительная статья к тематическому блоку посвящена теоретическим вопросам
антропологического исследования дискурсов и практик, связанных с богохульством,
кощунством и святотатством. История религиозных, секулярных и постсекулярных
культур от Средневековья до современности позволяет изучать различные типы пред-
ставлений о святотатстве. Локальные культы священных объектов, чудотворных изо-
бражений и предметов используют тему кощунства для артикуляции норм и правил
взаимодействия со сверхъестественными агентами. Организованные формы святотат-
ства, подобные реформационному иконоборчеству или советским антирелигиозным
кампаниям, ориентированы на трансформацию привычных форм ритуальной деятель-
ности и создание новых представлений о человеческой и нечеловеческой агентности.
Современные паники, связанные со святотатством, ведут к формированию новых иден-
тичностей и представлений о моральном порядке. В российской истории и культуре
последних столетий мы можем наблюдать и сосуществование, и эволюцию всех этих
типов. В тематический блок вошли статьи А.А. Панченко, Ю.Н. Сениной, Н.В. Петрова
и Б.С. Пейгина, С.А. Штыркова, Е.Л. Капустиной и Е.А. Хониневой, С.Т. Дроздова.
Информация о финансовой поддержке
Исследование проведено при финансовой поддержке следующих организаций
[проект № 21-18-00508]
Статья поступила 24.11.2022 | Окончательный вариант принят к публикации 15.03.2023
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Панченко А.А. Ритуальная агентность и моральные паники: к антропологии богохульства и святотат-
EDN: QJMKCJ
Panchenko, A.A. 2023. Ritual’naia agentnost’ i moral’nye paniki: k antropologii bogokhul’stva i
sviatotatstva [Ritual Agency and Moral Panics: Toward the Anthropology of Blasphemy and Sacrilege].
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
6
Этнографическое обозрение № 2, 2023
искурсы и практики, связанные с богохульством, кощунством и святотат-
ством, в последние десятилетия сравнительно редко привлекали внима-
Д
ние антропологов, особенно по сравнению с историками (среди совре-
менных работ, посвященных истории богохульства и кощунства в христианской
культуре, см.: Nash 2007; Cabantous 2002; Loetz 2009). Ж. Фавре-Саада выска-
зала предположение, что это обусловлено “чувствительными” политическими
контекстами самой темы: в современном мире слова, изображения и действия,
воспринимаемые в качестве кощунственных, по-прежнему могут привести к
гибели или суровому наказанию святотатцев (Favret-Saada 2016). Дело, как мне
кажется, не только в этом. Нарушение границ сакрального нередко воспринима-
ется исследователями как нечто вторичное и факультативное по отношению к
существующему религиозному и социальному порядку, как маргинальные про-
явления “вольнодумства” или “девиантности”, если иметь в виду ценности и
нормы, разделяемые большинством.
Возможен, однако, и другой взгляд на эту проблему. И в исторической пер-
спективе, и в современном мире границы священного зачастую оказываются
чрезвычайно подвижными: различные социальные и политические акторы по-
стоянно участвуют в своего рода “переговорах о сакральном”, переопределяя
представления о моральном порядке и смещая границы запретного и неприкос-
новенного в различных сферах публичной жизни. В этом контексте дискурсы
и нарративы о трансгрессии таких границ, т.е. о святотатстве, осквернении и
оскорблении, играют не факультативную, а, наоборот, ключевую роль.
В последние десятилетия появился ряд антропологических работ, посвящен-
ных анализу кощунства и святотатства с похожих теоретических позиций. Так,
в сборнике “Секулярна ли критика? Кощунство, оскорбление и свобода слова”
Т. Асад и С. Махмуд проблематизируют понятие кощунства в европейской куль-
туре Нового и Новейшего времени (Asad et al. 2009). С. Махмуд, в частности,
отмечает, что религиозные представления о кощунстве и святотатстве необхо-
димо интерпретировать в контексте различных семиотических идеологий и что
восприятие конкретного действия в отношении различных материальных форм
сакрального зависит от того, каким образом эти последние оказываются связа-
ны с религиозными агентами и наделены ли они соответствующей харизмой,
какова “медиальная дистанция”, скажем, между божеством и его изображени-
ем. Сходным образом рассуждает А. Бернштейн в статье “Осторожно, религия!
Иконоборчество, секуляризм и способы видеть в постсоветских войнах вокруг
искусства” (Bernstein 2014). Она утверждает, что борьба между различными
группами православных и светских активистов, связанная с публичной демон-
страцией “кощунственных” произведений искусства, основана на взаимодей-
ствии различных “скопических режимов”, т.е. опять-таки семиотических и ме-
диальных идеологий, приписывающих священным изображениям различные
смыслы и значения.
Предлагаемый вниманию читателей блок статей посвящен вопросам ан-
тропологического изучения категорий богохульства, кощунства и святотатства,
а также связанных с ними практик и нарративов в России Нового и Новейшего
времени. Применительно к российским истории и культуре эта проблемати-
ка исследовалась преимущественно правоведами (Познышев 1906; Тимашев
1916; Андрощук 2016 [здесь же см. подробный библиографический обзор]),
историческими антропологами и историками фольклорных сюжетов (см.,
в частности: Смилянская 2003; Бабкова 2014; Антонов 2014; Алпатов 2020),
специалистами по истории низовых религиозных движений XVIII-XX вв. и
по истории православия в XX в. (Белякова 2022), этнографами и фольклори-
стами, изучавшими нарративы об осквернении и разрушении святынь в совет-
Панченко А.А. Ритуальная агентность и моральные паники...
7
ское время (Добровольская 1999; Штырков 2001, 2006; Мороз 2006; Липатова
2012, 2020; Буйских 2014; Юрчук, Казаков 2018; Дранникова 2020; Рычкова
2020). Вопросам трансгрессии “светского сакрального” в СССР также иногда
уделяется внимание в работах антропологов и фольклористов (см., напр.: Архи-
пова 2013). Тема кощунства и “оскорбления чувств верующих” обсуждается в
современных работах, посвященных социальным исследованиям идеологии и
риторики секулярности и постсекуляризма (Узланер 2013; Микиртумов 2016).
Однако систематического антропологического исследования дискурсов, нар-
ративов и практик, связанных с богохульством, кощунством и святотатством
в русской культуре Нового и Новейшего времени, пока что не предпринима-
лось. Публикуемые здесь статьи представляют собой промежуточные резуль-
таты коллективного исследовательского проекта, призванного заполнить эту
лакуну. В своем вступлении к тематическому блоку я хотел бы остановиться на
нескольких теоретических аспектах антропологии богохульства и святотатства
в культурах Нового времени.
Святотатство и ритуальная агентность
Очевидно, что нарушение границ и норм сакрального можно исследовать
как форму ритуальной коммуникации - сообщение, передаваемое вербальны-
ми, акциональными или иконическими средствами. Однако кому адресовано
это сообщение и какие последствия может вызвать? С какими агентами или
акторами взаимодействует реальный или воображаемый богохульник или ко-
щунник?
В контексте обсуждаемой темы представляется важным анализ ритуальной
деятельности как формы коммуникации со специальным вниманием к “агент-
ности” человеческих и нечеловеческих участников ритуального процесса, т.е.
к их когнитивным и социальным статусам и возможностям, определяющим
порядок и полномочия в сфере поведенческих стратегий и принятия решений.
Этот подход позволяет понять, каким именно образом ритуал формирует и вос-
производит различные представления о субъектности, характерные для того
или иного сообщества.
Важная особенность типологии ритуальных агентов - их предполагаемая
позиция в отношении обрядового действия, которую в самом обобщенном виде
можно описывать как активную или пассивную. Статус агенса как субъекта
действия подразумевает активную позицию с определенными интенциями, тог-
да как статус пациенса - объекта действия - лишает участника ритуала неза-
висимости, хотя и не отказывает ему в интенциях и возможности (или необхо-
димости) реактивного действия. Эти статусы в равной степени применимы как
к человеческим, так и к не- или сверхчеловеческим существам: пациенсами в
обрядовом действии могут оказаться и божество, которому приносят жертву,
и икона, подвергающаяся ритуальному наказанию, и “лиминальные” участни-
ки обрядов перехода. Кроме того, все действующие лица ритуала наделяются
различными возможностями и полномочиями. Наконец, ритуальная агентность
может быть и персональной, и коллективной: в определенных ситуациях участ-
ники ритуала должны действовать или подвергаться действию как группа, а
не как отдельные персонажи. Эта “агентная” модель не подразумевает отка-
за от идей Э. Дюркгейма и возвращения к концепции Э. Тайлора, где ритуал
рассматривался как средство взаимодействия с “духовными существами”. Вера
в духов или сверхчеловеческих агентов здесь оказывается вторичной по отно-
шению к возможным социальным, психологическим или когнитивным функ-
циям ритуала, формирующим поведенческие стратегии его участников. Так,
8
Этнографическое обозрение № 2, 2023
Е. Сёренсен полагает, что сверхчеловеческие агенты необходимы для мотива-
ции ритуальной активности, где, в отличие от обычного человеческого поведе-
ния, отсутствует “непосредственная” прагматика.
Сочетание двух этих аспектов ритуального действия делает представления о сверхчело-
веческой агентности крайне важными, благодаря: (а) соединению ближайших интенций
ритуальных действий с окончательными (объясняя, почему совершаются именно эти
действия) и (б) обеспечению связи между совершаемыми действиями и их ожидаемым
результатом (объясняя, почему эти действия приносят результат) (Sørensen 2007: 297).
Иными словами, представления о сверхчеловеческих агентах не то чтобы
вторичны по отношению к ритуальной деятельности, но становятся значимыми
и эффективными именно в ее контексте.
Специфика представлений о ритуальной агентности, характерных для кон-
кретной культуры или эпохи, зависит от типологии обрядовых действий и их
функций. В этом контексте идеи, мотивы, практики и т.п., связанные с транс-
грессией сакрального и ее возможными последствиями, позволяют выявить не
только космологические и моральные ожидания, ассоциирующиеся с не- или
сверхчеловеческими агентами, но и функциональные особенности широко по-
нимаемой ритуальной деятельности.
Исследователи христианской культуры Средних веков и Нового времени не-
однократно писали, что святотатственное насилие католиков и православных в
отношении сакральных объектов и изображений зачастую было “оборотной сто-
роной… горячего почитания” (Майзульс 2017: 43), а не проявлением вольнодум-
ства либо атеизма. Дело, однако, не только в антитезе веры и неверия. Если мы
возьмем, например, культы локальных святынь в восточнославянской аграрной
культуре, мы увидим, что тема трансгрессии сакрального лежит в основе соот-
ветствующих “ритуальных онтологий”. Люди, пытающиеся нанести ущерб или
оскорбления чудотворным иконам и другим почитаемым артефактам и объек-
там, могут быть наказаны болезнью, увечьем или даже смертью, однако это не
означает “разрыва отношений” между святыней и ее почитателями, а, напротив,
указывает на правила и нормы социального взаимодействия между общиной и
нечеловеческим агентом или агентами. Таким образом, нарративы о святотат-
стве и в повседневной аграрной религиозной культуре, и в средневековом хри-
стианстве повествуют не столько о наказании, сколько об установлении норм и
правил, которые делают ритуалы более эффективными, а коммуникацию между
людьми и нечеловеческими существами более предсказуемой (Панченко 2021).
Понятно, что сами по себе святотатственные поступки и высказывания фор-
мируют тем не менее своеобразные зоны коммуникативной неопределенности:
трудно заранее предсказать, какой именно будет реакция ритуального агента на
насилие, оскорбление или унижение и кто именно из почитателей святыни либо
святого может стать жертвой ответной агрессии. Вероятно, именно поэтому
функция кощунства в христианских сюжетах о святотатстве нередко делегиру-
ется персонажам, не принадлежащим к общине верующих: иноверцам, инопле-
менникам или социальным маргиналам. Локальное сообщество таким образом
как бы снимает с себя ответственность за их действия. Эта социальная модель,
однако, существенно усложняется, когда речь заходит о представлениях о свя-
тотатстве, основанных не на локальных, а на более сложных идентичностях.
В такой перспективе реальные либо воображаемые кощунственные действия
могут восприниматься как угроза или вызов конфессиональным и социальным
группам, а также политическому или моральному порядку как таковому. Это
позволяет обсуждать дискурсы о кощунстве и святотатстве с точки зрения кон-
цепции моральных паник, к которой я обращусь чуть дальше. Сначала, однако,
Панченко А.А. Ритуальная агентность и моральные паники...
9
нужно сказать несколько слов о применимости “агентной” модели ритуала к
различным формам секулярной культуры.
“Гражданские” или “политические” ритуалы и культы могут формировать-
ся и функционировать как в религиозных, так и в сугубо светских контекстах.
Вместе с тем они в любом случае ведут к появлению более сложных и по-свое-
му противоречивых представлений об агентности. В российском контексте это
легко продемонстрировать на примере эволюции советской и постсоветской ри-
туалистики, где персонифицированные сверхъестественные существа (икона,
святой/святая и т.п.) заменяются аллегорическими (свобода, родина), коллек-
тивными (предки/потомки, жертвы войны, нация) или сверхчеловеческими (по-
литические лидеры) персонажами. Очевидно, что статус и, скажем так, модусы
социализации агентов такого рода отчасти проблематичны. Будучи по-своему
“потусторонними” (по отношению к повседневной реальности), они вместе с
тем обладают особым символическим статусом, отсылающим к представле-
ниям о социальности и сопричастности (кровное родство, этническая иден-
тичность, нация и т.п.). При этом их “ритуальная эффективность” все равно,
по-видимому, определяется не только абстрактным социальным символизмом,
но и персонифицированным взаимодействием с конкретными людьми, участву-
ющими в ритуальной деятельности. Эта двойственность может исследоваться
также в терминах медиальности, поскольку и агенты, и предметные символы
секулярных обрядов оказываются своего рода посредниками между человеком
и абстрактными социальными силами.
Обсуждаемые особенности гражданской ритуалистики, судя по всему, ока-
зали существенное влияние и на представления о святотатстве и “оскорблении
религиозных чувств”, характерные для постсекулярной религиозной культуры
последних десятилетий. Христос или Мухаммед, чьи “оскверненные” изобра-
жения могут вызывать возмущение и агрессию со стороны верующих, здесь,
вероятно, тоже воспринимаются не только как могущественные сверхъесте-
ственные существа, но и как персонажи, символизирующие социальную при-
надлежность и сопричастность, - родственники, единоплеменники и т.п.
Итак, применительно и к секулярной и постсекулярной культуре речь,
по-видимому, должна идти о специфическом типе агентов, медиирующих кол-
лективные идентичности и чувства сопричастности и обладающих своего рода
“политическими телами” в терминах Э. Канторовича.
Эмпирические наблюдения, высказанные в публикуемых статьях, демон-
стрируют описанную вариативность представлений о ритуальной агентности.
Моя работа, посвященная религиозным интерпретациям “матерной лаи” в
Московском государстве, показывает, что в XVII в. правительственная и цер-
ковная дисциплинарная политика, направленная, в частности, на борьбу со
сквернословием, употреблением табака и пьянством, могла приводить к низо-
вым визионерским “паникам”. Однако социальная драматургия последних была
основана на традиционных формах “производства сакрального”, ведущих к по-
явлению новых культов священных локусов и чудотворных икон, а трансляция
официальных запретов, подкрепленных эсхатологическими угрозами, играет
здесь роль эмфатической рамки. Случаи “иконоборческих” актов в отношении
портретов Сталина, исследуемые в статье Ю.Н. Сениной, можно интерпретиро-
вать и как форму символического сопротивления советскому режиму в целом, и
как попытки осквернить или разрушить “политическое тело” диктатора. Вместе
с тем политическая мифология и ритуалистика той эпохи превращали Сталина
в существо, наделенное сверхчеловеческими чертами и персонально присут-
ствующее в повседневной жизни советских граждан. В результате оскверне-
ние его портретов, не будучи магическим действием в традиционном смысле,
10
Этнографическое обозрение № 2, 2023
во многих отношениях напоминает средневековое иконоборчество, исходящее
из “неразрывного единства конкретного образа и его прообраза, который через
это изображение принимает молитвы людей и являет им свою силу” (Майзульс
2017: 43). С точки зрения официальных норм и дискурсов, однако, такое на-
рушение границ “советского сакрального” представляло собой демонстрацию
политической нелояльности и вызов социальному порядку.
Тема социального и морального порядка оказывается центральной и в по-
стсоветских дискурсах о святотатстве, осквернении и оскорблении чувств ве-
рующих. В статье Н.В. Петрова и Б.С. Пейгина, посвященной случаям “осквер-
нения” Вечного огня в России 2010-х - начала 2020-х годов, демонстрируется,
как на протяжении этого десятилетия в обществе формируются дискурсы о “ме-
мориальном святотатстве”, отражающие, как представляется, общие тенденции
формирования квазирелигиозного культа Второй мировой войны. Этот культ,
кстати сказать, вызвал к жизни и новые ритуальные формы, и новые представ-
ления об агентности (на что, в частности, указывают быстро получившие по-
пулярность “шествия мертвецов” - процессии так наз. бессмертного полка).
В нашем случае важно, однако, что с памятью о войне стали ассоциироваться
представления о моральном порядке, генеалогия которого теперь объясняется
и обосновывается коллективными жертвами и победами. Общественная дис-
куссия, исследуемая Н.В. Петровым и Б.С. Пейгиным, формирует не только но-
вые дискурсы об осквернении и святотатстве, но и ранее не существовавшие
границы секулярного сакрального, репрезентирующего моральный порядок в
ритуальных терминах.
Как показывает С.А. Штырков в своей статье, похожим образом может
использоваться тема “чувств верующих”, позволяющая религиозному сооб-
ществу, которое борется за легитимность и стремится к формированию нор-
мативной идентичности, апеллировать к моральным ценностям и праву на
коллективные эмоции. Упоминаемая в этой работе концепция “эмоциональных
сообществ” Б. Розенвейн вообще представляется достаточно важной для пони-
мания процессов сакрализации и эволюции дискурсов о святотатстве. Именно
“ожидаемые эмоции” (гордость, стыд, негодование и т.п.) и “эмоциональные
идентичности”, декларируемые в качестве общего достояния группы, призва-
ны демонстрировать аутентичность ее ценностей и легитимность притязаний.
В известном смысле ритуализованные формы публичных извинений, исследуе-
мые в статье Е.Л. Капустиной и Е.А. Хониневой, тоже можно обсуждать как ме-
ханизм создания эмоциональных сообществ, объединяющих “оскорбленных”
представителей социальных, этнических либо религиозных групп с “кающими-
ся” оскорбителями и осквернителями. Хотя, как показано в этой работе, прак-
тика публичных извинений - в качестве «источника моральных значений для
“проработки” прошлого, “валидации” опыта жертв исторической несправедли-
вости, разделения коллективной ответственности» - вообще характерна для со-
временной глобальной культуры; ее трансформации в России XXI в. отличают-
ся существенной спецификой. И применительно к сегодняшнему Дагестану, о
котором идет речь в статье, и в более широком контексте публичные извинения,
записываемые на видео и распространяемые при помощи современных медиа,
оказываются значимым и эффективным средством воспроизводства и формиро-
вания социальных иерархий и идентичностей. Хотя здесь вряд ли стоит искать
прямую преемственность с советскими формами “критики и самокритики”,
типологическое сходство представляется достаточно важным. Если, следуя
Дж.А. Гетти, видеть в сталинских ритуалах обличения и покаяния способ под-
держания символического порядка правящей элитой, испытывавшей тревогу
относительно стабильности и защищенности собственного политического ре-
Панченко А.А. Ритуальная агентность и моральные паники...
11
жима (Getty 1999: 68-69), можно допустить, что похожие факторы вызвали и
“эпидемию” публичных извинений в России второй половины 2010-х годов и
что речь идет об осознанно либо неосознанно ожидаемых угрозах идентично-
стям и иерархиям. Это позволяет вернуться к теме моральных паник в связи с
историей представлений о кощунстве.
Святотатство и моральные паники
Термин “моральная паника” (moral panic) получил популярность в англоя-
зычной социологии в первой половине 1970-х годов - после публикации книги
С. Коэна о массовых страхах и тревогах, связанных с молодежными субкульту-
рами в послевоенной Британии. С. Коэн писал:
Время от времени общества переживают периоды моральной паники. То или иное об-
стоятельство, эпизод, человек или группа начинают восприниматься в качестве угрозы
общественным ценностям и интересам; характер этой угрозы подается средствами мас-
совой информации в условной и стереотипной манере… Иногда предмет паники - это
нечто достаточно новое, а в других случаях он уже существовал долгое время, но внезап-
но оказался в центре внимания (Cohen 2011: 1).
Специалисты, занимавшиеся историей стигматизации и преследования
меньшинств, разными типами фундаментализма, а также проблемой социаль-
ного насилия в целом, писали о подобных процессах и до С. Коэна. Однако
концепция моральных паник позволила несколько иначе расставить акценты
применительно к этой проблеме. Во-первых, она подчеркивает роль вообра-
жаемого ценностного кризиса в формировании соответствующих тревожных
ожиданий:
использование словосочетания “моральная паника” подразумевает, что угроза направле-
на на нечто, считающееся священным или фундаментальным для общества. Панику на-
зывают моральной именно для того, чтобы подчеркнуть: воображаемая угроза относится
не к чему-то заурядному, скажем - производительности экономики или образовательным
стандартам, а к социальному порядку как таковому либо идеализированному (“идеоло-
гическому”) представлению о какой-то его части (Thompson 1998: 8).
Во-вторых, речь шла о неочевидных и требующих специального объяснения
причинах такого кризиса. Что предопределяет - на первый взгляд, случайный -
выбор предмета моральной паники? Почему та или иная угроза внезапно стано-
вится (а потом перестает быть) столь значимой и как это связано с реальными
либо воображаемыми ценностями, разделяемыми обществом?
Наконец, концепция С. Коэна делала специальный акцент на социальных
и медиальных факторах, обуславливающих формирование и распространение
моральных паник. Если реальное общественное значение предмета паники не
соответствует его воображаемой опасности, то почему одни паники оказывают-
ся, так сказать, успешными, а другие - нет? Какова общественная драматургия
моральной паники? Кто оказывается ее акторами, бенефициарами и жертвами?
Надо сказать, что за прошедшие полвека концепция моральных паник неодно-
кратно вызывала критику, причем с достаточно разных позиций. Больше все-
го, пожалуй, досталось идее диспропорции между реальной и воображаемой
угрозами как одной из специфических особенностей моральных паник. Кри-
тики утверждали, что эта концепция не подразумевает “какого-либо критерия
пропорциональности, позволяющего определить, насколько обосновано беспо-
койство касательно той или иной проблемы”, в результате сам термин оказы-
вается “идеологически нагруженным и оценочным”: “когда мы называем не-
12
Этнографическое обозрение № 2, 2023
что моральной паникой, мы подразумеваем, что речь идет об иррациональных
или ложных тревогах” (Thompson 1998: 9). Сторонники концепции С. Коэна
пытались прибегать к эмпирическим аргументам относительно возможных
критериев обоснованности и диспропорции. Они утверждали, в частности, что
отличительной чертой моральной паники является вольная либо невольная ма-
нипуляция статистическими данными, что нередко воображаемые угрозы во-
обще не подтверждались какими-либо эмпирическими свидетельствами, что
моральные паники, как правило, сопровождаются широким распространени-
ем устойчивых сюжетов, передаваемых в форме слухов и городских легенд, и,
наконец, что сами по себе моральные паники зачастую подразумевают особое
внимание к общественным явлениям, не вызывающим повышенного интереса
или беспокойства ни до ни после паники (Goode, Ben-Yehuda 2009: 75-77).
Э. Гуд и Н. Бен-Иегуда предлагают говорить о трех теориях моральной па-
ники, обсуждаемых в современной социологии: “низовой” модели (grassroots
model), концепции “заинтересованных групп среднего уровня” (middle-level
interest groups) и модели “управляющих элит” (elite-engineered model) (Goode,
Ben-Yehuda 2009: 52-72; Thompson 1998: 16-20). Первая подразумевает, что мо-
ральные паники имеют преимущественно спонтанный характер и представляют
собой выражение “присущих значительному количеству людей страхов и беспо-
койства по поводу реально существующей либо мнимой угрозы” (Goode, Ben-
Yehuda 2009: 55). Речь, правда, не идет об обществе в целом: движущей силой
моральной паники может быть и меньшинство (напр., евангельские христиане
или феминистки), не обладающее, однако, сколько-нибудь развитыми властны-
ми полномочиями или рычагами административного либо экономического влия-
ния. “Низовая модель” подразумевает, что моральные паники, как правило, име-
ют популистскую окраску и исходят из идеи “заговора элит”: ожидаемая угроза
в этом случае ассоциируется с тайными и вредоносными действиями аристокра-
тии, государственного аппарата, спецслужб, крупных корпораций и т.д.
Концепция “управляющих элит”, наоборот, утверждает, что именно правя-
щие группы
вызывают к жизни, создают, контролируют и “направляют” моральные паники, что са-
мые богатые и могущественные члены общества сознательно устраивают кампании,
провоцирующие общественное беспокойство, страх и панику… Как правило, такие кам-
пании призваны отвлечь внимание общества от тех реальных проблем, чье разрешение
угрожает интересам элиты (Ibid.: 62).
Надо сказать, что здесь, по справедливому замечанию К. Томпсона, Э. Гуд и
Н. Бен-Иегуда не делают необходимого различения между конспирологически
окрашенной “элитарной” и “классовой” моделями (Thompson 1998: 17). Клас-
совый (т.е. неомарксистский) подход подразумевает, что действия элит опреде-
ляются не осознанным стремлением к защите групповых интересов, а струк-
турными факторами, выражающимися в гегемонии. Именно так рассуждали
представители “бирмингемской школы” в опубликованной в 1978 г. работе о
британской моральной панике, связанной с уличной преступностью (mugging)
(Hall et al. 1978). Что касается концепции паник, сознательно провоцируемых
и направляемых элитами, то граница между теорией заговора и аналитической
моделью здесь должна быть связана с тем, как мы понимаем и описываем соци-
альную группу, ее интересы и перспективы согласованных действий. При этом
собственно признак “элитарности”, т.е. особого экономического или админи-
стративного могущества, оказывается в этом случае не столь уж важным по
сравнению с проблемами солидарности, планирования и управления. Любая -
даже самая могущественная - элита вряд ли сможет предсказать и проконтро-
Панченко А.А. Ритуальная агентность и моральные паники...
13
лировать ход и последствия моральной паники, приобретающей массовый ха-
рактер. Речь, таким образом, должна идти не об управлении, а о провокации,
сознательном формировании “повестки дня” для паники со стороны тех или
иных элитарных сообществ.
Наконец, концепция “заинтересованных групп” исходит из того, что глав-
ным движителем моральных паник оказываются сообщества “среднего уровня”,
преследующие собственные цели как экономического, так и идеологического
характера. Такими группами могут быть “профессиональные ассоциации, отде-
ления полиции, медиа, религиозные сообщества, образовательные организации
и т.д.” (Goode, Ben-Yehuda 2009: 67). Главные вопросы, обсуждаемые в контексте
этой модели: cui bono? и в чем состоит выгода или выгоды предполагаемого
бенефициара? При этом, как подчеркивают Э. Гуд и Н. Бен-Иегуда, здесь до-
вольно сложно провести границу между материальными, моральными и идеоло-
гическими задачами “заинтересованной группы”. Ее “активисты могут искренне
верить, что преследуют благородные цели. Деятельность на ниве идеологии и
морали неизбежно затрагивает статус и материальные интересы занимающейся
этим группы, а защита статуса и материальных интересов группы может вместе
с тем сказаться на ее идеологии и морали” (Ibid.: 67). Собственно говоря, три
“идеальных типа”, описанных Э. Гуд и Н. Бен-Иегудой, можно рассматривать
как своего рода шкалу интенциональности: от спонтанной и мало осознанной
эскалации “низовых” страхов и тревог к целенаправленной манипулятивной
деятельности “управляющих элит” (ср.: Rohloff, Wright 2010: 407-408).
В действительности, судя по всему, моральные паники представляют собой
сочетание различных (в том числе и всех трех) описанных моделей, как, впро-
чем, и многообразных интенций. Об этом пишут и сами Э. Гуд и Н. Бен-Иегуда
(Goode, Ben-Yehuda 2009: 62, 69-72). Таким образом, для понимания меха-
низма эмпирически наблюдаемой моральной паники нам необходимо уделять
специальное внимание ее акторам, а также расстановке их сил, конфигурации
их возможностей и интересов. По всей видимости, особая роль в драматургии
паник принадлежит “моральным антрепренерам” - публичным деятелям и об-
щественным активистам, берущим на себя ответственность за борьбу с вообра-
жаемыми угрозами и антагонистами (Ibid.: 26, 121-122, 126). Нередко мораль-
ные антрепренеры являются или становятся лидерами участвующих в панике
групп, однако они могут действовать и независимо, причем в разных социаль-
ных слоях и контекстах.
По справедливому замечанию К. Уолби и Д. Спенсера, социологи, занимав-
шиеся исследованием моральных паник, уделяли преимущественное внимание
анализу медиальных дискурсов, тогда как собственно “этнографическая” сто-
рона вопроса оставалась сравнительно мало изученной (Walby, Spencer 2011:
105-107). Вместе с тем попытки описать социальные и культурные механизмы
моральных паник как специфической формы коллективного поведения все же
предпринимались. Э. Гуд и Н. Бен-Иегуда упоминают о нескольких факторах,
формирующих и направляющих это поведение: распространение слухов и го-
родских легенд, массовая истерия и массовые иллюзии. Действенность этих
факторов американские исследователи объясняют преимущественно в психо-
логическом ключе. Так, роль слухов и городских легенд в эскалации моральных
паник они соотносят с репрезентацией и драматизацией коллективных страхов
(Goode, Ben-Yehuda 2009: 134-135). Эти соображения, впрочем, не дают основа-
ний для анализа социальной драматургии моральных паник, авторы оперируют
довольно абстрактным образом субъекта коллективного поведения.
По-своему проблематичным остается и вопрос о социальных функциях и
значении моральных паник, если оставить в стороне вышеупомянутые постро-
14
Этнографическое обозрение № 2, 2023
ения, исходящие из того, что паники продуцируются общественными группами
или классами, осознанно либо бессознательно преследующими свои статусные,
властные и экономические интересы. В социологических работах последних
десятилетий моральные паники иногда предлагается интерпретировать в более
широком контексте “морального регулирования”, формирования и воспроиз-
водства конвенционально приемлемых и управляемых “этических субъектов”1.
Этот подход, опирающийся на идеи М. Фуко и Н. Элиаса, подразумевает, что
паника сигнализирует о своего рода кризисе рутинных процессов регулирования
и служит средством проблематизации существующего баланса социальных сил,
имеющих отношение к моральным конвенциям. В этом смысле, по-видимому,
наибольшее значение имеет не конкретное содержание той или иной паники, а
ее структурные и процессуальные особенности: важно, кто и кого (но не в чем)
обвиняет.
Очевидно, что обсуждаемые нами дискурсы о богохульстве и святотатстве,
по крайней мере, отчасти укладываются в концепцию моральных паник. Мы
видим, что соответствующие идеи, нарративы и практики - будь то эсхатологи-
ческие видения XVII в. с запретами матерной брани или охота на “оскорбите-
лей чувств верующих” в сегодняшней России - нередко приобретают эпидеми-
ческий характер и воспринимаются обществом в связи с внезапно возникшими
угрозами социальному и моральному порядку. В статье С.Т. Дроздова, посвя-
щенной социальной драматургии преследований и наказаний за святотатство
в секуляризованной культуре Нового времени, показано, что основные группы
акторов, участвующие в навлечении “посюстороннего” возмездия на святотат-
цев, - государство, религиозные специалисты и экспертные институции, а также
“низовые” религиозные активисты - отчасти соответствуют моделям и предпо-
лагаемым общественным источникам моральных паник, выделенным Э. Гудом
и Н. Бен-Иегудой. Сами святотатцы и осквернители, соответственно, оказыва-
ются в позиции антагонистов, которых С. Коэн называл folk devils. Важно, на-
конец, иметь в виду, что особую роль и в моральных паниках, и в современных
преследованиях святотатцев играют уже упоминавшиеся “антрепренеры”, т.е.
люди, пытающиеся возглавить общественную борьбу с воображаемой угрозой.
Примеры деятелей такого рода, зачастую пытающихся упрочить либо повысить
свой статус или расширить социальные полномочия благодаря преследованию
антагонистов, можно найти и в публикуемых статьях.
Не останавливаясь сейчас подробно на проблеме социальных функций мо-
ральных паник в разных культурно-исторических и медиальных контекстах,
отмечу, что, на мой взгляд, подобные “социальные неврозы” нередко формиру-
ют новые категории и языки для описания социальной реальности. Одним из
факторов, вызывающих моральные паники, служит кризис конвенционального
понимания реальности и сосуществование в обществе противоречащих друг
другу фреймов и интерпретативных систем. В такой перспективе моральная
паника предстает по-своему эффективным средством достижения социальной
солидарности и создания устойчивых иерархий. Иными словами, подобные
“переговоры о реальности” оказываются способом “фреймирования” или “пе-
реформатирования” повседневного опыта, позволяющим заново устанавливать
и укреплять общественные границы и идентичности. Паники, связанные с те-
мами богохульства и святотатства, таким образом, можно рассматривать как
процессы создания новых форм и границ сакрального. Речь здесь может идти
и о появлении новых культов и святынь, имеющих публичное значение, и о
перераспределении властных полномочий в обществе, и о создании ранее не
существовавших символических ресурсов.
Панченко А.А. Ритуальная агентность и моральные паники...
15
* * *
История религиозных, секулярных и постсекулярных культур от Средневе-
ковья до современности позволяет говорить о различных типах дискурсов и
практик, связанных с богохульством, кощунством и святотатством. Локальные
культы священных объектов, чудотворных изображений и предметов использу-
ют тему кощунства для артикуляции норм и правил взаимодействия со сверхъ-
естественными агентами. Организованные формы святотатства, подобные ре-
формационному иконоборчеству или советским антирелигиозным кампаниям,
ориентированы на трансформацию привычных форм ритуальной деятельности
и создание новых представлений о человеческой и нечеловеческой агентности.
Современные паники, связанные со святотатством, ведут к появлению новых
идентичностей и представлений о моральном порядке. В российских истории и
культуре последних столетий мы можем наблюдать и сосуществование, и эво-
люцию всех этих типов. Представляется, что именно исследование дискурсов
о святотатстве в этом контексте позволяет понять, как именно в обществен-
ной жизни разных эпох связаны различные формы ритуальной деятельности,
идентичностей, представлений об агентности, а также о моральном и социаль-
ном порядке. Некоторые примеры таких связей читатель найдет в публикуемых
эмпирических исследованиях.
Примечания
1 Дискуссию по этому поводу см.: Hier 2002, 2008; Critcher 2009; Rohloff,
Wright 2010.
Научная литература
Алпатов С.В. Мышь и икона: к проблеме фольклорных корней поэтики
Ф.М. Достоевского // Studia Litterarum. 2020. Т. 5. № 1. С. 272-287.
Андрощук В.В. Преступления против религии по законодательству России конца
XIX - начала XX вв. Дисс. … канд. юридич. н. Москва, НИУ “Высшая школа
экономики”, 2016.
Антонов Д.И. У святых очи вертел? Фигуры без глаз на русских миниатюрах //
Сила взгляда: глаза в мифологии и иконографии / Отв. ред. Д.И. Антонов.
М.: РГГУ, 2014. С. 14-42.
Архипова А.С. Убить портрет Сталина: отношения между советским человеком
и изображением вождя в “дискурсе власти” и неподцензурных практиках //
Визуальное и вербальное в народной культуре. Тезисы и материалы Между-
народной школы-конференции по фольклористике и культурной антрополо-
гии / Сост. А.С. Архипова, С.Ю. Неклюдов, Д.С. Николаев. М.: РГГУ, 2013.
С. 42-44.
Бабкова Г.О. “Обман”, “суеверие”, “невежество”: преступления против веры в
“Уставе благочиния” 1782 г. (к вопросу об источниках) // О вере и суевериях:
сборник статей в честь Е.Б. Смилянской / Сост. В.Е. Борисов; отв. ред. Д.И.
Антонов. М.: Индрик, 2014. С. 179-206.
Белякова Н.А. “Долго же нас попы дурачили!” Богохульство, святотатство и на-
силие в советской России // Вестник Свято-Филаретовского института. 2022.
Буйских Ю. “Кара Божья” и “Чудо Господнее” в рассказах об осквернении свя-
тынь в текстах современной украинской крестьянской традиции // Acta
Baltico-Slavica. 2014. № 38. C. 263-278.
16
Этнографическое обозрение № 2, 2023
Добровольская В.Е. Несказочная проза о разрушении святынь // Русский фоль-
клор. Т. XXX / Отв. ред. А.Н. Розов. СПб.: Наука, 1999. С. 500-512.
Дранникова Н.В. Разрушение православных церквей и культовых сооружений в
повествовательной традиции Архангельской области // Традиционная культу-
ра. 2020. Т. 21. № 2. С. 91-102.
Липатова А.П. Наказание святотатцев // Традиционная культура Ульянов-
ского Присурья: Этнодиалектный словарь. Т. 2 / Отв. ред. И.А. Морозов,
М.П. Чередникова. М.: Индрик, 2012. С. 87-97.
Липатова А.П. Рассказы о разрушении святыни в контексте цикла: наблюдение над
одной закономерностью // Традиционная культура. 2020. Т. 21. № 2. С. 103-114.
Майзульс М. Наказание святых: благочестивое богохульство в Средние века и в
ранее Новое время // Государство, религия, церковь в России и за рубежом.
2017. № 2 (35). С. 15-51.
Микиртумов И.Б. Риторика оскорбленных чувств // РАЦИО.ru. 2016. № 17 (2).
С. 80-101.
Мороз А.Б. Устная история русской церкви в советский период (народные пре-
дания о разрушении церквей) // Ученые записки Российского православного
университета апостола Иоанна Богослова. 2006. Вып. 6. С. 177-185.
Панченко А. “Моральная экономика” жертвоприношения и святотатства в рус-
ской крестьянской культуре // Quaestio Rossica. 2021. Т. 9. № 4. С. 1241-1258.
Познышев С.В. Религиозные преступления с точки зрения религиозной свободы:
к реформе нашего законодательства о религиозных преступлениях. М.: Уни-
верситетская типография, 1906.
Рычкова Н.Н. Lex talionis: нарративы о наказании святотатцев в православном
городском сообществе // Традиционная культура. 2020. T. 21. № 2. С. 115-123.
Смилянская Е.Б. Волшебники. Богохульники. Еретики. Народная религиозность
и “духовные преступления” в России XVIII века. М.: Индрик, 2003.
Тимашев Н.С. Религиозные преступления по действующему русскому праву.
Петроград: Сенатская типография, 1916.
Узланер Д. Дело “Пусси райот” и особенности российского постсекуляриз-
ма // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2013. № 2 (31).
С. 93-133.
Штырков С.А. Наказание святотатцев: фольклорный мотив и нарративная схема //
Труды факультета этнологии / Ред. А.К. Байбурин. СПб.: Изд-во Европейско-
го ун-та в Санкт-Петербурге, 2001. С. 198-210.
Штырков С.А. Рассказы об осквернении святынь // Традиционный фольклор
Новгородской области: пословицы и поговорки. Загадки. Приметы и поверья.
Детский фольклор. Эсхатология. По записям 1963-2002 гг. / Сост. М.Н. Вла-
сова, В.И. Жекулина. СПб.: Тропа Троянова, 2006. С. 208-230.
Юрчук Л.А., Казаков И.В. Псковские легенды о наказании за святотатство (по
материалам фольклорного архива Псковского государственного университе-
та) // Беларускае падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў.
Полоцк: Полоцкий гос. ун-т, 2018. С. 328-337.
Asad T., Brown W., Butler J., Mahmood S. Is Critique Secular? Blasphemy, Injury, and
Free Speech. Berkeley: The Townsend Center for the Humanities, University of
California, 2009.
Bernstein A. Caution, Religion! Iconoclasm, Secularism, and Ways of Seeing in Post-
Soviet Art Wars // Public Culture. 2014. Vol. 26 (3). P. 419-448.
Cabantous A. Blasphemy: Impious Speech in the West from the Seventeenth to the
Nineteenth Century. N.Y.: Columbia University Press, 2002.
Cohen S. Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers.
L.: Routledge, 2011.
Панченко А.А. Ритуальная агентность и моральные паники...
17
Critcher C. Widening the Focus: Moral Panics as Moral Regulation // British Journal
of Criminology. 2009.Vol. 49. P. 17-34.
Favret-Saada J. An Anthropology of Religious Polemics: The Case of Blasphemy
Affairs // HAU: Journal of Ethnographic Theory. 2016. Vol. 6. No. 1. P. 29-45.
Getty J.A. Samokritika Rituals in the Stalinist Central Committee, 1933-38 // Russian
Review. 1999. Vol. 58. No. 1. P. 49-70.
Goode E., Ben-Yehuda N. Moral Panics: The Social Construction of Deviance. Oxford:
Wiley-Blackwell, 2009.
Hall S. et al. Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order. L.: Macmillan,
1978.
Hier S. Conceptualizing Moral Panic through a Moral Economy of Harm // Critical
Sociology. 2002. Vol. 28. P. 311-334.
Hier S. Thinking beyond Moral Panic: Risk, Responsibility, and the Politics of
Moralization // Theoretical Criminology. 2008. Vol. 12. P. 171-188.
Loetz F. Dealings with God. From Blasphemers in Early Modern Zurich to a Cultural
History of Religiousness. Farnham: Ashgate, 2009.
Nash D. Blasphemy in the Christian World: A History. Oxford: Oxford University
Press, 2007.
Rohloff A., Wright S. Moral Panic and Social Theory: Beyond the Heuristic // Current
Sociology. 2010. Vol. 58 (3). P. 403-419.
Sørensen J. Acts That Work: A Cognitive Approach to Ritual Agency // Method and
Theory in the Study of Religion. 2007. No. 19. P. 281-300.
Thompson K. Moral Panics. L.: Routledge, 1998.
Walby K., Spencer D. How Emotions Matter to Moral Panics // Moral Panics and the
Politics of Anxiety / Ed. S.P. Hier. N.Y.: Routledge, 2011. P. 104-117.
E d i t o r’s I n t r o d u c t i o n
Panchenko, A.A. Ritual Agency and Moral Panics: Toward the Anthropology of
Blasphemy and Sacrilege [Ritual’naia agentnost’ i moral’nye paniki: k antropologii
bogokhul’stva i sviatotatstva]. Etnograficheskoe obozrenie, 2023, no. 2, pp. 5-20.
© Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and Anthropology RAS
Alexander
Panchenko
|
|
apanchenko2008@gmail.com
|
European University at St. Petersburg
(6/1a
Gagarinskaya Str., St. Petersburg, 191187, Russia) | The Institute of Russian
Literature of the Russian Academy of Science (Pushkin House) (4 Makarova Emb.,
St. Petersburg, 199034, Russia) | The University of Tartu (18 Ülikooli Str., Tartu,
50090, Estonia)
Keywords
blasphemy, sacrilege, desecration, ritual agency, moral panics, identity, social order
Abstract
The introduction to the journal issue’s special theme on “The Icon and the Axe: Discourses
on Blasphemy and Sacrilege in the Russian Culture” deals with some theoretical aspects of
anthropological research focusing on blasphemy, sacrilege, and desecration. The history
of religious, secular, and post-secular cultures from the Middle Ages to the present day
involve different types of discourses on blasphemy and sacrilege. Local cults of sacred
sites, miraculous images and objects employ the concept of desecration to articulate the
rules and norms of communication between humans and supernatural agents. Organized
18
Этнографическое обозрение № 2, 2023
forms of sacrilege, like Reformation iconoclasm or Soviet anti-religious campaigns,
aim at transformation of habitual ritual activities along with formation of new types of
human and non-human agency. Present day “blasphemy panics” produce new identities
and ideas of the moral order. The Russian history and culture of the recent centuries
provides examples of coexistence and evolution of all these types.
Funding Information
This research was supported by the following institutions and grants: Russian Science
References
Alpatov, S.V.
2020. Mysh’ i ikona: k probleme fol’klornykh kornei poetiki
F.M. Dostoevskogo [The Mouse and the Icon: On the Ethnographic Roots of
Dostoevsky’s Poetics]. Studia Litterarum 5 (1): 272-287.
Androshchuk, V.V. 2016. Prestupleniia protiv religii po zakonodatel’stvu Rossii kontsa
XIX - nachala XX vv. [Crimes against Religion in the Russian Legislation of the
Late 19th - Early 20th Centuries]. PhD diss., NIU “Vysshaia shkola ekonomiki”.
Antonov, D.I. 2014. U sviatykh ochi vertel? Figury bez glaz na russkikh miniatiurakh
[“Did You Scratch Out Saints’ Eyes?” Eyeless Images in Russian Miniatures].
In Sila vzgliada: glaza v mifologii i ikonografii [The Power of Glance: Eyes in
Mythology and Iconography], edited by D.I. Antonov, 14-42. Moscow: RGGU.
Arkhipova, A.S. 2013. Ubit’ portret Stalina: otnosheniia mezhdu sovetskim chelovekom
i izobrazheniem vozhdia v “diskurse vlasti” i nepodtsenzurnykh praktikakh [To Kill
Stalin’s Portrait: Relationship between Soviet People and Images of the Leader in
the Official Discourse and in the Uncensored Practices]. In Vizual’noe i verbal’noe
v narodnoi kul’ture. Tezisy i materialy Mezhdunarodnoi shkoly-konferentsii po
fol’kloristike i kul’turnoi antropologii [Visual and Verbal in Popular Culture.
Abstracts and Materials of the International School and Conference on Folkloristics
and Cultural Anthropology], edited by А.S. Arkhipova, S.Y. Nekliudov, and
D.S. Nikolaev, 42-44. Мoscow: RGGU.
Asad, T., W. Brown, J. Butler, and S. Mahmood. 2009. Is Critique Secular? Blasphemy,
Injury, and Free Speech. Berkeley: The Townsend Center for the Humanities,
University of California.
Babkova, G.O.
2014.
“Obman”, “sueverie”, “nevezhestvo”: prestupleniia protiv
very v “Ustave blagochiniia” 1782 g. (k voprosu ob istochnikakh) [“Deception”,
“Superstition”, and “Ignorance”: Crimes against Religion in the Police Statute of
1782 (A Question of Sources)]. In O vere i sueveriiakh: sbornik statei v chest’
E.B. Smilianskoi [On Belief and Superstition: Essays in Honor of E.B. Smilianskaia],
edited by V.E. Borisov and D.I. Antonov, 179-206. Moscow: Indrik.
Beliakova, N.A. 2022. “Dolgo zhe nas popy durachili!” Bogokhul’stvo, sviatotatstvo
i nasilie v sovetskoi Rossii [“How Long Have the Priests Been Fooling Us!”
Blasphemy, Sacrilege, and Violence in Soviet Russia]. Vestnik Sviato-Filaretovskogo
Bernstein, A. 2014. Caution, Religion! Iconoclasm, Secularism, and Ways of Seeing in
Post-Soviet Art Wars. Public Culture 26 (3): 419-448.
Buyskykh, I. 2014. “Kara Bozh’ia” i “Chudo Gospodnee” v rasskazakh ob oskvernenii
sviatyn’ v tekstakh sovremennoi ukrainskoi krest’ianskoi traditsii
[“Lord’s
Punishment” and “Lord’s Miracle” in the Oral Stories about the Violation of
Sanctities in the Texts of Contemporary Ukrainian Rural Tradition]. Acta Baltico-
Slavica 38: 263-278.
Cabantous, A. 2002. Blasphemy: Impious Speech in the West from the Seventeenth to
the Nineteenth Century. New York: Columbia University Press.
Панченко А.А. Ритуальная агентность и моральные паники...
19
Cohen, S. 2011. Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers.
London: Routledge.
Critcher, C. 2009. Widening the Focus: Moral Panics as Moral Regulation. British
Journal of Criminology 49: 17-34.
Dobrovol’skaia, V.E. 1999. Neskazochnaia proza o razrushenii sviatyn’ [Legends
about the Destruction of Shrines]. In Russkii fol’klor [Russian Folklore], edited by
A.N. Rozov, XXX: 500-512. St. Petersburg: Nauka.
Drannikova, N.V. 2020. Razrushenie pravoslavnykh tserkvei i kul’tovykh sooruzhenii
v povestvovatel’noi traditsii Arkhangel’skoi oblasti [The Destruction of Orthodox
Churches and Religious Buildings in the Modern Folklore Tradition of the
Arkhangelsk Region]. Traditsionnaia kul’tura 21 (2): 91-102.
Favret-Saada, J. 2016. An Anthropology of Religious Polemics: The Case of Blasphemy
Affairs. HAU: Journal of Ethnographic Theory 6 (1): 29-45.
Getty, J.A. 1999. Samokritika Rituals in the Stalinist Central Committee, 1933-38.
Russian Review 58 (1): 49-70.
Goode, E., and N. Ben-Yehuda. 2009. Moral Panics: The Social Construction of
Deviance. Oxford: Wiley-Blackwell.
Hall, S., et al. 1978. Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order.
London: Macmillan.
Hier, S. 2002. Conceptualizing Moral Panic through a Moral Economy of Harm.
Critical Sociology 28: 311-334.
Hier, S. 2008. Thinking beyond Moral Panic: Risk, Responsibility, and the Politics of
Moralization. Theoretical Criminology 12: 171-188.
Lipatova, A.P.
2012. Nakazanie sviatotattsev
[Punishment for Sacrilege]. In
Traditsionnaia kul’tura Ul’ianovskogo Prisur’ia: Etnodialektnyi slovar’
[Traditional Culture of the Ul’ianovsk Prisur’ie Region: Ethnodialect Dictionary].
Vol. 2, edited by I.A. Morozov and M.P. Cherednikova, 87-97. Moscow: Indrik.
Lipatova, A.P. 2020. Rasskazy o razrushenii sviatyni v kontekste tsikla: nabliudenie
nad odnoi zakonomernost’iu [Stories About the Destruction of a Shrine in the
Context of a Cycle: Observing a Particular Pattern]. Traditsionnaia kul’tura 21 (2):
103-114.
Loetz, F. 2009. Dealings with God. From Blasphemers in Early Modern Zurich to a
Cultural History of Religiousness. Farnham: Ashgate.
Maizul’s, M. 2017. Nakazanie sviatykh: blagochestivoe bogokhul’stvo v Srednie veka
i v ranee Novoe vremia [The Punishment of Saints as Pious Blasphemy in the
Middle Ages and Early Modern Period]. Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i
za rubezhom 2 (35): 15-51.
Mikirtumov, I.B. 2016. Ritorika oskorblennykh chuvstv [Rhetoric of Insulted Feelings].
RATsIO.ru 17 (2): 80-101.
Moroz, A.B. 2006. Ustnaia istoriia russkoi tserkvi v sovetskii period (narodnye predaniia
o razrushenii tserkvei) [Oral History of the Russian Church in the Soviet Period
(Folk Legends about the Destruction of Churches)]. Uchenye zapiski Rossiiskogo
pravoslavnogo universiteta apostola Ioanna Bogoslova 6: 177-185.
Nash, D. 2007. Blasphemy in the Christian World: A History. Oxford: Oxford University
Press.
Panchenko, A. 2021. “Moral’naia ekonomika” zhertvoprinosheniia i sviatotatstva v
russkoi krest’ianskoi kul’ture [The Moral Economies of Sacrifice and Sacrilege in
Russian Agrarian Culture]. Quaestio Rossica 9 (4): 1241-1258.
Poznyshev, S.V. 1906. Religioznye prestupleniia s tochki zreniia religioznoi svobody:
k reforme nashego zakonodatel’stva o religioznykh prestupleniiakh [Religious
Crimes and Religious Freedom: To the Reform of Our Legislation on Religious
Crimes]. Moscow: Universitetskaia tipografiia.
20
Этнографическое обозрение № 2, 2023
Rohloff, A., and S. Wright. 2010. Moral Panic and Social Theory: Beyond the Heuristic.
Current Sociology 58 (3): 403-419.
Rychkova, N.N. 2020. Lex talionis: narrativy o nakazanii sviatotattsev v pravoslavnom
gorodskom soobshchestve [Lex Talionis: Narratives about the Punishment of
Blasphemers in the Orthodox Urban Community]. Traditsionnaia kul’tura 21 (2):
115-123.
Shtyrkov, S.A. 2001. Nakazanie sviatotattsev: fol’klornyi motiv i narrativnaia skhema
[Punishment for Sacrilege: Folklore Motif and Narrative Scheme]. In Trudy fakul’teta
etnologii [Works of the Faculty of Ethnology], edited by A.K. Baiburin, 198-210.
St. Peretsburg: Izdatel’stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge.
Shtyrkov, S.A. 2006. Rasskazy ob oskvernenii sviatyn’ [Stories about the Violation
of Shrines]. In Traditsionnyi fol’klor Novgorodskoi oblasti: poslovitsy i
pogovorki. Zagadki. Primety i pover’ia. Detskii fol’klor. Eskhatologiia.
Po zapisiam 1963-2002 gg. [Traditional Folklore of the Novgorod Region:
Proverbs and Sayings; Riddles; Omens and Beliefs; Children’s Folklore;
Eschatology: Recorded in
1963-2002], edited by M.N. Vlasova and
V.I. Zhekulina, 208-230. St. Petersburg: Tropa Troianova.
Smilianskaia, E.B. 2003. Volshebniki. Bogokhul’niki. Eretiki. Narodnaia religioznost’
i “dukhovnye prestupleniia” v Rossii XVIII veka [Magicians, Blasphemers, and
Heretics: Popular Religiosity and “Spiritual Crimes” in Eighteenth-Century
Russia]. Moscow: Indrik.
Sørensen, J. 2007. Acts That Work: A Cognitive Approach to Ritual Agency. Method
and Theory in the Study of Religion 19: 281-300.
Thompson, K. 1998. Moral Panics. London: Routledge.
Timashev, N.S. 1916. Religioznye prestupleniia po deistvuiushchemu russkomu pravu
[Religious Crimes according to the Present Day Russian Legislation]. Petrograd:
Senatskaia tipografiia.
Uzlaner, D. 2013. Delo “Pussi raiot” i osobennosti rossiiskogo postsekuliarizma [“The
Pussy Riot Case” and the Peculiarities of Russian Postsecularism]. Gosudarstvo,
religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 2 (31): 93-133.
Walby, K., and D. Spencer. 2011. How Emotions Matter to Moral Panics. In Moral
Panics and the Politics of Anxiety, edited by S.P. Hier, 104-117. New York:
Routledge.
Yurchuk, L.A., and I.V. Kazakov. 2018. Pskovskie legendy o nakazanii za sviatotatstvo
(po materialam fol’klornogo arkhiva Pskovskogo gosudarstvennogo universiteta)
[Pskov Legends about the Punishment for Sacrilege (From the Folklore Archives
of the Pskov State University)]. In Belaruskae padzvіnne: vopyt, metodyka і vynіkі
paliavykh dasledavanniaў [The Region of Belarusian Padzvіnne: The Experience,
Methodology, and Results of Field Studies],
328-337. Polotsk: Polotskii
Gosudarstvennyi universitet.