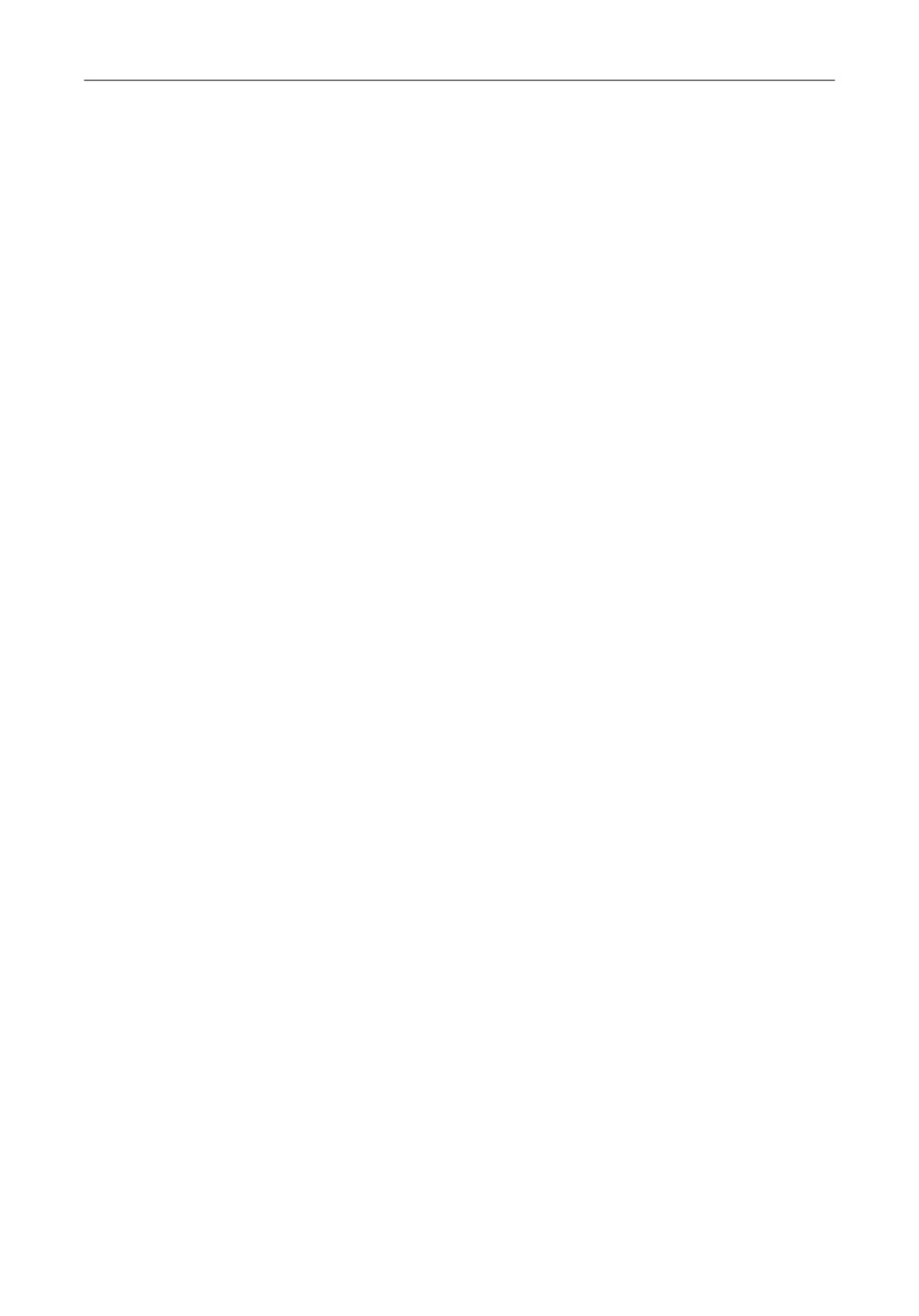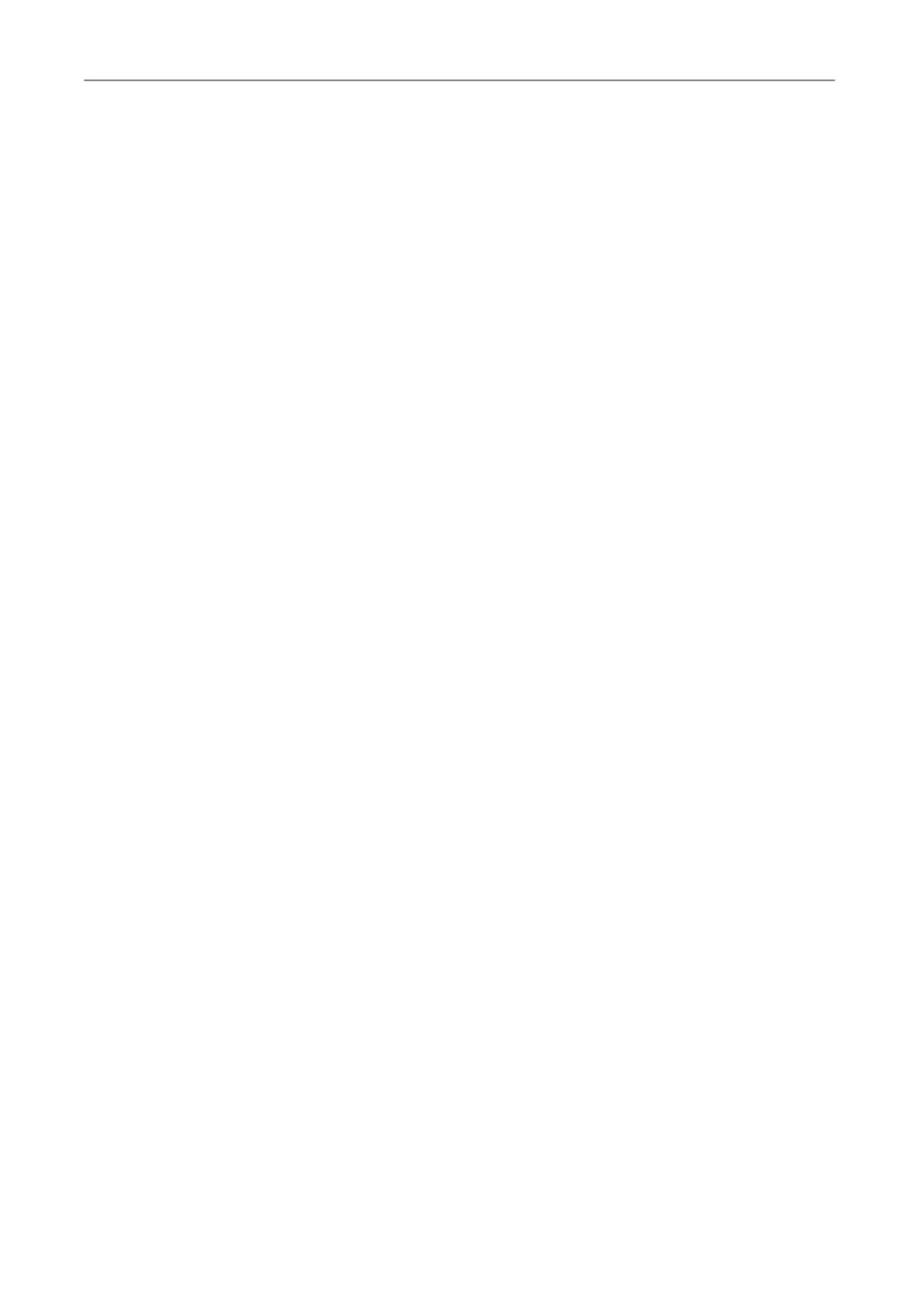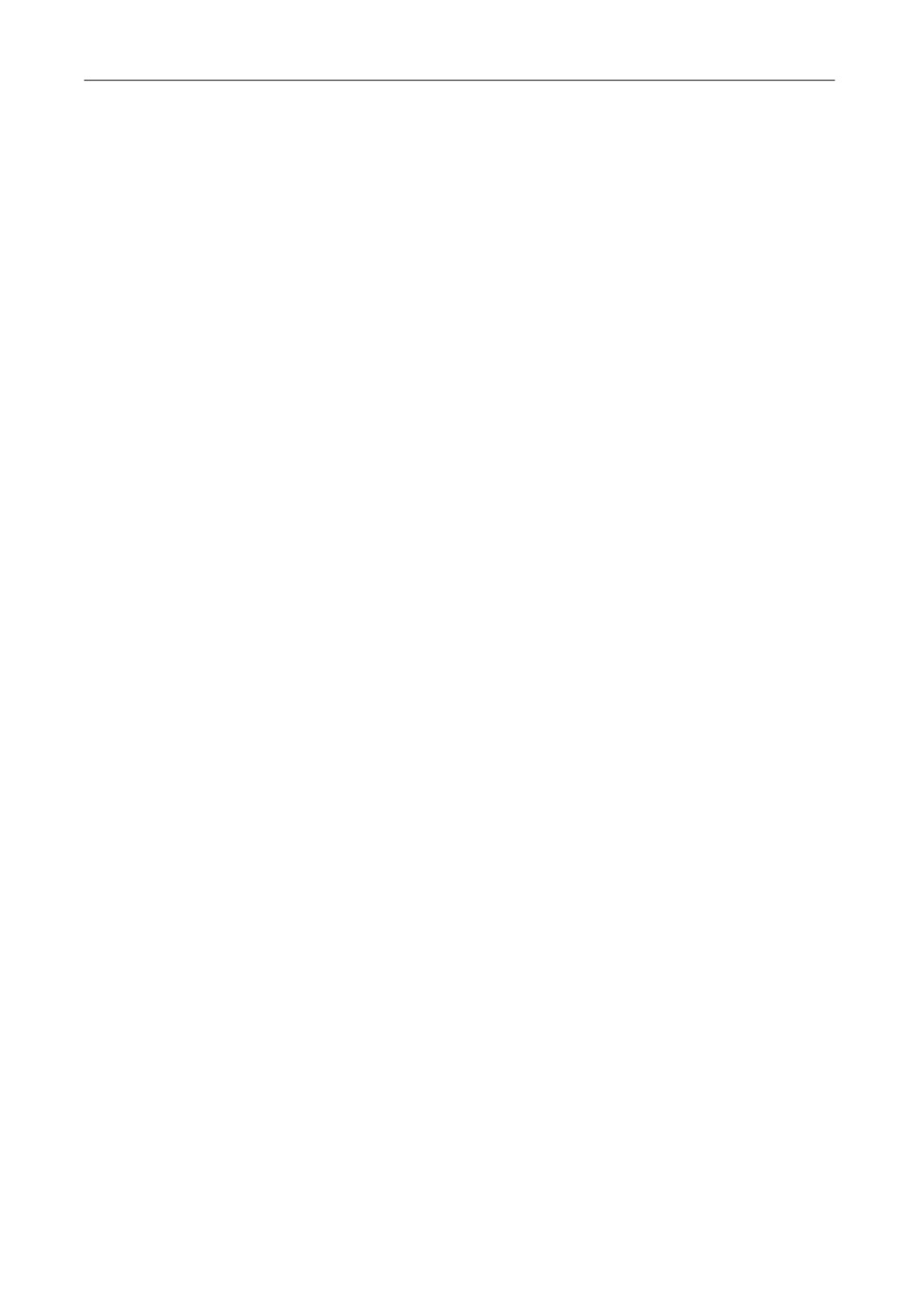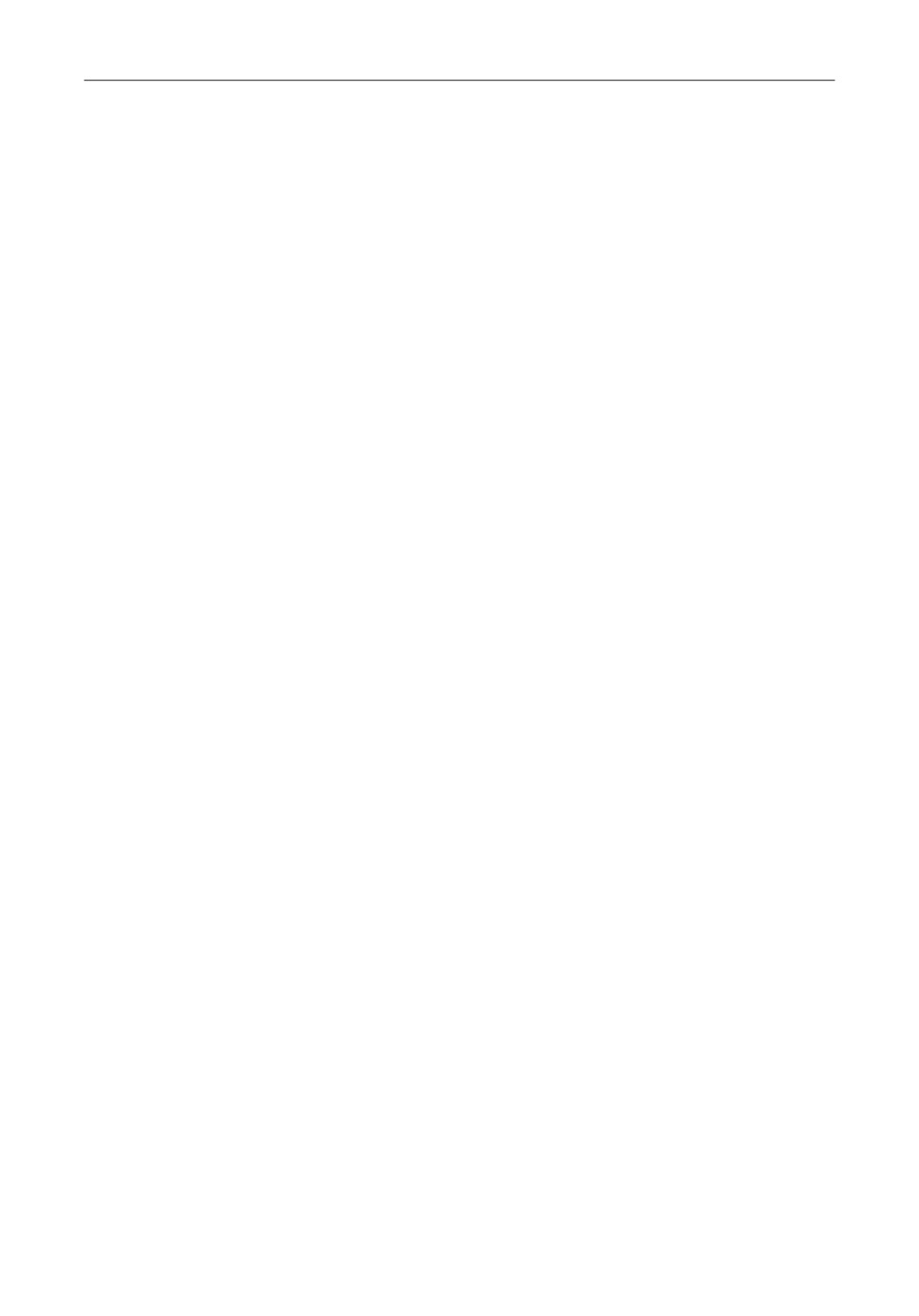ОСКВЕРНЕНИЕ ПОРТРЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛИДЕРОВ
В СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ
1950
-Х - НАЧАЛА 1960-Х ГОДОВ
Ю.Н. Сенина
младший научный сотрудник, аспирант | Европейский университет в Санкт-Петербурге
(ул. Гагаринская 6/1a, Санкт-Петербург, 191187, Россия)
Ключевые слова
иконоборчество, осквернение, портреты советских лидеров, дела об антисоветской
агитации и пропаганде, светское сакральное
Аннотация
В статье рассматривается тема нарушения границ светского сакрального в конце
1950-х - начале 1960-х годов, а именно случаи порчи священных для советской иде-
ологии символов - портретов государственных лидеров. В частности, обсуждается,
почему эти символы приобрели особый семиотический статус, а их порча каралась
не как хулиганство, а как своего рода ритуальное осквернение, наказание за которое
предусматривалось УК РФСР. Одним из основных источников получения информации
о единичных случаях такого “святотатства” стали фонды надзорного производства про-
куратуры СССР. Именно на основании сохранившихся материалов дел можно проана-
лизировать акты “низовых” антиправительственных действий и узнать о тех, кто их
совершил, поскольку большинство этих людей не оставили после себя мемуаров или
других записей, повествующих об их личной истории.
Информация о финансовой поддержке
Исследование проведено при финансовой поддержке следующих организаций и грантов
еномен иконоборчества, выражающийся во враждебных действиях по
отношению к священному изображению, встречался практически во
Ф
всех культурах на протяжении истории человечества. Атака на изобра-
жение (его порча или искажение) часто определяется сочетанием политиче-
ских, религиозных, эстетических и других идей и верований, и виды иконобор-
чества радикально между собой не различаются (Prusac, Kolrud 2014: 1) Так,
норвежский религиовед Йенс Брорвиг, рассуждая о мотивационных установ-
Статья поступила 24.11.2022 | Окончательный вариант принят к публикации 15.03.2023
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Сенина Ю.Н. Осквернение портретов государственных лидеров в советской культуре второй
половины 1950-х - начала 1960-х годов // Этнографическое обозрение. 2023. № 2. С. 52-65.
Senina, I.N. 2023. Oskvernenie portretov gosudarstvennykh liderov v sovetskoi kul’ture vtoroi
poloviny 1950-kh - nachala 1960-kh godov [Defiling the Portraits of State Leaders in the Soviet
Culture of the Later Half of the 1950s - Early 1960s]. Etnograficheskoe obozrenie 2: 52-65.
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
Сенина Ю.Н. Осквернение портретов государственных лидеров...
53
ках иконоборцев, говорит, что их намерения следует понимать намного шире
строго религиозных. Наряду с религиозной, иконоборчество может иметь во-
енную, политическую, идеологическую и экономическую подоплеку, так что
религия зачастую становится только предлогом для соответствующих действий
(Braarvig 2016: 154). Не существует и единого определения “иконоборчества”.
Так, Оксфордский словарь предлагает два значения этого термина: буквальное -
как “нарушение или уничтожение изображений; особенно разрушение изобра-
жений и картин, ставших объектами почитания”, и образное - как “нападение
(или ниспровержение) на почитаемые институты и верования, считающиеся
ложными или суевериями” (OED 1989: 609). Такой зазор в понимании терми-
на делает его потенциально гибким в употреблении, а также указывает на то,
что иконоборческие акты связаны не только с материальностью объекта, но и
с силой и ценностью, скрытыми внутри и за пределами его. Отчасти эта не-
однозначность является следствием неоднозначности определений “икона” и
“идол”, что заслуживает отдельного обсуждения1. Однако в данной статье мы
остановимся на буквальном понимании термина “иконоборчество”.
Самый большой корпус исследований, посвященных феномену иконоборче-
ства, затрагивает два периода: религиозно-политическую кампанию в Византии
в VII - начале IX в.2 и период Реформации в Западной и Центральной Европе в
XVI - начале XVII в.3. Однако известны случаи порчи и осквернения почитае-
мых изображений задолго до и после обозначенных временных рамок. Археолог
Эберхард Зауэр в своей статье “Устранение демонических образов: региональ-
ное разнообразие мотивов и целей иконоборцев в античный период” обращается
к вещественным доказательствам существования дохристианского иконоборче-
ства, полученным в ходе археологических раскопок: разрушенным языческим
памятникам и предметам искусства (Sauer 2016: 31-56). Нередки случаи иконо-
борчества и в современном мире: это и религиозное осквернение (напр., унич-
тожение талибами гигантской статуи Будды в Бамиане в 2001 г. [Braarvig 2016]),
и нарушение границ светского сакрального4 (напр., снос огромной бронзовой
фигуры Саддама Хусейна в 2003 г. в Багдаде, падение которой символизировало
падение режима иракского диктатора [Kiilerich 2016: 57]).
В этой статье мы рассмотрим случаи порчи в конце 1950-х - начале 1960-х
годов священных для Советского Союза символов - портретов государственных
лидеров. Образы и практики советского марксизма, хотя теоретики определяли
его как научную атеистическую идеологию, часто исследовались в терминах
религиоведения5. Осквернение изображений вождей можно назвать светским
иконоборчеством, которое, однако, проявляет большинство черт, характерных
для собственно религиозного иконоборчества.
Изобретение советской визуальности
В переосмыслении визуальности в ранний советский период можно выде-
лить две тенденции: с одной стороны, большевики хотели побороть “старый
мир” с его образами и сакральными символами, а с другой - построить соб-
ственную систему значений и смыслов и собственную новую визуальность, ко-
торая, в значительной степени опираясь на прошлые системы образов, все-таки
должна была чем-то отличаться.
Что касается первой тенденции, то здесь оказываются значимыми процессы
секуляризации и атеизации. Как пишет Виктория Смолкин в своей монографии,
посвященной истории советского атеизма, большевики представляли себе ком-
мунизм как мир без религии. Когда в октябре 1917 г. они захватили власть, то
обещали освободить людей от старого мира: эксплуатацию заменить справед-
54
Этнографическое обозрение № 2, 2023
ливостью, конфликты гармонией, предрассудки рациональностью, а религию
атеизмом (Смолкин 2020: 31), наукой и рациональностью. В такой перспективе
история Советского Союза была “историей вычитания” (subtraction story), т.е.
повествованием о постепенном избавлении и освобождении от всего, что огра-
ничивает знания и сужает горизонты.
Согласно влиятельной концепции антрополога Вебба Кина, центральную
роль в секуляризме играют семиотические идеологии, определяемые как исход-
ные представления о том, что такое знаки и как они функционируют в мире.
Семиотика для Кина - не теория, которая рассматривает социальные явления
как тексты, подлежащие расшифровке, его интересуют воспринимаемые отно-
шения между словами, вещами и предметами и особенно то, как эти отноше-
ния влияют на идеи агентности и свободы (Keane 2007: 4-5). В частности, Кин
предполагает, что секуляризм унаследовал определенные эпистемологические и
онтологические предпосылки от протестантской семиотической идеологии, ко-
торая лишила слова и образы их магической силы и занялась тем, что Кин, вслед
за французским социологом и философом Бруно Латуром (Латур 2006: 71),
рассматривает как часть “проекта очищения современности”.
Секуляризм часто преподносится как путь морального освобождения и из-
бавления. Секулярная “история вычитания” - это не нейтральное, а оценочное
повествование, оно, как показывает Кин, неразрывно связано с семиотически-
ми идеологиями и ставит вопрос: “Какие сущности обладают агентностью?”
(Keane 2007: 4). Приписывание божественной силы объектам или наделение их
свойствами полноценных акторов считается морально ошибочным - это спра-
ведливо как для советского, так и для современного секуляризма.
Цель советской секуляризации выходила за рамки приватизации религии
или функциональной замены религиозных форм светскими (Bernstein 2014:
430-431). Как утверждает Соня Люрман (Luehrmann 2011: 6-7), советское об-
щество строилось как “качественно новое общество”, которое полагалось бы
только на человеческую волю. Поэтому одной из задач советских атеистиче-
ских кампаний стало искоренение привязанности к нечеловеческим агентам.
Особую роль в этом играла борьба с почитанием икон - священных образов,
структурирующих опыт священного для православных верующих. Большеви-
ки, с одной стороны, пытались развенчать “миф” о сакральности изображений
святых, а с другой - переводили иконы из разряда объектов религиозного по-
клонения в разряд объектов искусства и исторического наследия, собирая их в
музейных фондах.
Переосмысление визуальной дореволюционной сакральной культуры приве-
ло к построению советской визуальности, где изображения вождей заняли место
икон. Историк Виктория Боннел в своем исследовании “иконографии власти” -
советских политических плакатов времен правления Ленина и Сталина - пишет,
что к 1920 г. художники-большевики создали отличительные образы, которые
включали элементы различных традиций, но также безошибочно выражали
большевистский этос. Боннел называет эти изображения новыми иконами, так
как они имели много сходных черт с изображениями святых. Они были стан-
дартизированы, т.е. создавались в рамках установленного образца, подобного
подлиннику в церковном искусстве. Их сюжеты воспроизводили деление на
героев и врагов так же, как в традиционной иконописи, - на святых и дьявола
с его сообщниками. Однако исследовательница обращает внимание на то, что
“иконы” советского политического искусства не отражали существующие со-
циальные институты и отношения в обществе. Скорее они были частью систе-
мы знаков, формируемой властями в стремлении трансформировать массовое
сознание (Bonnell 1998: 154). Новую иконографию советской власти иначе мож-
Сенина Ю.Н. Осквернение портретов государственных лидеров...
55
но назвать “изобретенной традицией”. Одна из функций последней, согласно
Эрику Хобсбауму, - способствование “социализации, насаждению верований,
системы ценностей и условности поведений” (Hobsbawm, Ranger 2012). Изо-
бретенные традиции, чтобы быть эффективными, должны быть неизменными
и повторяющимися, они должны передавать идеи, понятные предполагаемой
аудитории. В 1918 г. для передачи идей партии населению посредством текстов
(как устных, так и письменных) и изображений большевики мобилизовали про-
пагандистский аппарат (Kenez 1985: 95-118). Этот аппарат и системы значений
в течение десятилетий истории Советского государства претерпевали измене-
ния, однако не прерывались и постоянно воспроизводились.
Отдельное место уделялось иконографии политических лидеров. Изобра-
жение Ленина рано (уже в 1918 г.) появляется на советских плакатах и ста-
новится все более популярным после его смерти в 1924 г. Но только в начале
1930-х годов образы вождей, особенно Сталина, стали доминировать в совет-
ской визуальной культуре. Сталин, изображаемый в виде живого бога, занимает
центральное место в наглядной пропаганде, вытесняя и Ленина, которому все
больше отводится роль священного предка, и коллективные образы больше-
вистской мифологии (“пролетариат” и т.п.), согласно которой отдельная лич-
ность не имеет принципиального значения - главные исторические роли от-
водятся общественным классам. Как писал в 1935 г. политический оппонент
и ярый противник Иосифа Сталина Лев Троцкий: “…сталинская бюрократия
создала отвратительный культ вождей, наделяя их божественными чертами”
(Троцкий 2015: 100).
Массовое распространение и тиражирование изображений вождя совпадает
с зарождением культа личности Сталина, начало которого историк Ян Плампер
относит к 21 декабря 1929 г., когда по случаю 50-летия главы Советского государ-
ства в различных СМИ, в первую очередь в центральных газетах, развернулась
широкомасштабная кампания по его возвеличиванию. В дальнейшем культ Ста-
лина переживал разные этапы и визуальные репрезентации. После помпезного
юбилея на три года наступило затишье; это обычно объясняется либо нежелани-
ем Сталина, чтобы его имя каким-либо образом ассоциировалось с катастрофи-
ческими последствиями коллективизации, либо с тем, что к этому времени еще
не окончательно определилась его главенствующая позиция в партии. Выражен-
ный характер культ Сталина приобрел к 1933 г., а в 1930-е годы был создан и за-
креплен канон изображения вождя: упорядоченная система признаков, которая
при всей строгости соблюдения все-таки продолжала эволюционировать с тече-
нием времени. Апогей культа можно отнести к празднованию 60-летия вождя
в 1939 г., в Великую Отечественную войну наблюдается небольшой спад, а в
1949 г. - новый пик, связанный с 70-летним юбилеем Сталина (Плампер 2010: 7).
После смерти вождя его культ постепенно, но явственно теряет силу, а после
скандального доклада Никиты Хрущева на XX съезде партии оборачивается бес-
прецедентной по своему масштабу иконоборческой кампанией, о чем мы пого-
ворим ниже.
Масштабному культу личности Сталина предшествовал более скромный
культ Ленина. Как пишет Нина Тумаркин в своей знаменитой книге “Ленин
жив”, культ Ленина формировался постепенно, по частям и приобрел инсти-
туциональную основу к 1923 г., когда болезнь отстранила его от власти. После
смерти вождя в 1924 г. его культ кристаллизовался в светскую религию наци-
онального масштаба с организованной системой обрядов и символов, коллек-
тивная функция которых заключалась в том, чтобы пробуждать благоговение
у всех, соприкасающихся с культом вождя, для формирования эмоциональной
связи между ними и утвержденными партией изображениями Ленина, идеали-
56
Этнографическое обозрение № 2, 2023
зированной биографией вождя и ленинизмом - его “священными” текстами.
Организованные повсюду после смерти Ленина “уголки” стали своего рода
местными святынями, а мавзолей на Красной площади, куда было помещено
забальзамированное тело вождя, стал своеобразной центральной реперной
точкой культа. Это формализованное почитание Ленина сохранялось до конца
1920-х годов, когда зарождающийся культ Сталина начал постепенно его затме-
вать (Tumarkin 1997: 2-3).
Однако и после смерти Ленина, и после смерти Сталина их изображения
продолжали играть важную роль в репрезентации коммунистической идео-
логии и занимать места в “красных уголках”. Так как с их смертью, согласно
классической теории “политической теологии” Эрнста Канторовича, умерло их
природное тело, но не политическое. Природное тело вождя подвержено всем
болезням и бедствиям, какие могут случиться с любым другим человеком, и
главное - оно смертно (что в случае с Лениным советские власти пытались
оспорить: с помощью технологии бальзамирования сохранить тело вождя ми-
рового пролетариата нетленным). Тело же политическое не может быть видимо
и ощущаемо через прикосновение, поскольку “состоит из политики и правления
и создано для руководства народом и поддержания общего блага”. Оно предста-
ет подобием “святых духов и ангелов”, поскольку неизменно и существует вне
времени. Такая характеристика справедлива в случае средневековых монархов,
рассматриваемых Канторовичем, однако в какой-то степени она применима и к
руководителям советского государства. Именно тело политическое указывает
на сакральность фигуры властителя (Канторович 2015: 74-76).
Представления о связи лидера и его изображения сохраняли значимость на
протяжении практически всего советского времени. Образы вождей не были
лишены сакральной силы, напротив, связь между их изображениями и ими са-
мими постулировались. Любопытный пример этой связи приводит Владимир
Паперный в своей знаменитой работе “Культура два”, описывая установку
скульптуры Сталина на Всесоюзной хозяйственной выставке 1939 г.:
…когда статуя была почти полностью смонтирована, руководители строительства
(а почти все они были из НКВД) потребовали, чтобы главный конструктор выставки
С. Алексеев залез внутрь пустотелой статуи и убедился, что вредители не положили
туда бомбу. Это очень характерное опасение, прямо указывающее на мифологический
характер мышления культуры (Паперный 2016: 197).
Дела об антисоветской агитации и пропаганде
Один из основных источников информации о фактах “святотатства” в от-
ношении изображений политических лидеров - фонды надзорного производ-
ства прокуратуры СССР, которые были рассекречены в 1990-е годы. Именно
на основании сохранившихся материалов дел можно проанализировать акты
“низовых” антиправительственных действий и узнать о тех, кто их совершил,
поскольку большинство этих людей не оставили после себя мемуаров или дру-
гих записей, повествующих об их личной истории (Козлов 2003: 79). Всего, по
данным КГБ при Совете Министров СССР, в 1957-1985 гг. “за антисоветскую
пропаганду и агитацию и за распространение заведомо ложных сведений, по-
рочащих советский государственный и общественный строй”, было осуждено
8124 человека. В большинстве случаев основанием для обвинений служили
устные высказывания, реже - изготовление листовок, “писем антисоветского
содержания”, а также хранение и распространение “антисоветской литерату-
ры” (Козлов, Мироненко 2005: 17). Из приведенной Владимиром Козловым и
Сергеем Мироненко статистики видно, что случаи порчи изображений государ-
Сенина Ю.Н. Осквернение портретов государственных лидеров...
57
ственных лидеров не были наиболее частотными в ряду дел “об антисоветской
пропаганде и агитации”, однако они отмечаются на протяжении практически
всей истории советского государства и представляют собой яркие эпизоды на-
рушения границ светского сакрального, священных для советского государства
символов.
Чаще всего объектами нападения становились изображения действовавшего
на тот момент лидера страны и Ленина. Здесь важно отметить, что иконобор-
ческие кампании на протяжении практически всей истории СССР (особенно это
заметно в годы правления Сталина) давали пример того, как можно бороться с
памятью о “неугодных” лидерах. Как замечают в своей монографии “Опасные
советские вещи” антропологи Анна Кирзюк и Александра Архипова, образ вра-
га играл важную роль в советской идеологии с самого начала ее существования:
он оправдывал и внешнюю, и внутреннюю политику государства. Советский че-
ловек привыкал жить в воображаемой “осажденной крепости”: он постоянно
читал и слышал, что его окружают враги. С середины 1930-х годов в стране про-
ходили публичные процессы, на которых бывшие члены Политбюро (Николай
Бухарин, Григорий Зиновьев, Лев Каменев и др.) и известные журналисты (Карл
Радек) каялись в совершении преступлений: шпионаже, покушениях на совет-
ское правительство, подготовке государственного переворота, массовом убий-
стве советских людей. Борьба с врагами не прекращалась даже после их изоб-
личения. Советских лидеров, объявленных врагами, граждане страны, начиная
со школьников, должны были символически казнить, зачеркивая изображения
и уничтожая их портреты (Архипова, Кирзюк 2020: 76-77). После физического
устранения репрессированных искоренялись все формы их визуального суще-
ствования. Портреты, предназначенные для публикации, закрашивали, в музеях
и картинных галереях со стен периодически снимали полотна, а спустя некоторое
время возвращали, но уже без скомпрометированных лиц (Кинг 2012: 11). Таким
образом, советскому человеку, жившему в состоянии постоянной подозритель-
ности и поиска внешних и внутренних врагов, была знакома семиотически зна-
чимая практика уничтожения “неугодных” изображений, санкционированная
самим государством.
Испортив портрет “вождя”, т.е. его политическое тело, люди могли пока-
зать свое отношение и к действующей власти, и к господствующей идеологии,
и к самой фигуре лидера. Показательно и то, как именно уничтожались или
повреждались изображения партийных лидеров, какие практики для этого вы-
бирались. При всем своем разнообразии практики советского иконоборчества,
которые можно обнаружить в делах об антисоветской агитации и пропаганде
(портреты рвали на мелкие кусочки, стегали кнутом, резали ножом, сжигали и
т.д.), имеют типологические параллели с религиозным иконоборчеством, суще-
ствовавшим задолго до появления советского государства. К ним, в частности,
относится атака на глаза изображения. В сборнике статей “Сила взгляда” приво-
дится ряд характерных примеров. Так, Дмитрий Антонов рассматривает атаку
на глаза и руки мучителей и убийц (к которым относились не только грешники
и бесы, но и всевозможные демонические твари и персонифицированные силы
зла) в русских книжных миниатюрах XVIII в. (Антонов 2014: 26). При анали-
зе иконоборческих практик Антонов выделяет пять мотивировочных устано-
вок, обуславливающих их прагматику: 1) зрительское вмешательство в сюжет
(“спасение” святого и “нейтрализация” нападающих грешников или демонов);
2) стремление “наказать” различных “антигероев” посредством оскорбления
или унижения их образа; 3) попытка причинить реальную боль изображенному
персонажу; 4) желание унизить образ и одновременно причинить боль; 5) “пре-
вентивная” порча (Там же: 32).
58
Этнографическое обозрение № 2, 2023
При анализе прагматики атаки на глаза изображений советского лиде-
ра наиболее частой мотивировкой оказывается стремление людей наказать
источник зла и несчастий, средоточием которого являлся образ правителя.
Рассмотрим пример из следственного дела об антисоветской агитации и про-
паганде. Рабочий хозяйственной части завода “Изолит” Дмитрий Анисимович
Федотов (1911 г.р.) 14 марта 1933 г. изуродовал гвоздем портрет Сталина, за
что “тройкой полномочного представительства объединенного государствен-
ного политического управления Московской области по статье 58 части 10
был приговорен к двум годам исправительно-трудового лагеря”. Вот как сам
обвиняемый описывал произошедшее:
14-го марта утром я вместе с одним из рабочих хозяйственной части нашего завода,
фамилию его не знаю, зашел в помещение Красного Уголка погреться, подошел там к
бюллетеню газет, рассматривал фотоснимки и в это же время как-то случайно мне попал
в руки гвоздь, лежавший у меня в кармане, я им и стал впервые чертить портрет тов.
Сталина, а затем уже ковырял глаза и рот. Почему я это делал - я и сам не могу дать себе
отчёта, просто очередное хулиганство. Присутствовавший же здесь со мной наш рабо-
чий видел всё это, но ничего мне не сказал и никак на это не реагировал. В тот же день
после обеда мне поручили поехать закупить бумаги и ремень для производства завода,
выдали накладную, доверенность и 218 руб. денег, заполучив эти деньги я решил пред-
варительно выпить, выпил поллитровочку, опьянел немного, потом ещё добавил, затем
попал в отрезвитель, где проснулся уже примерно часов в 8 вечера. Там мне вручили
оставшуюся у меня сумму денег около 200 рублей без документов, т.е. доверенности, на-
кладной, воинского билета, заводского пропуска и пропуска в распределитель, которые я
видимо утерял или же у меня их вытащили (ГАРФ 2. Д. П-1664).
Мы видим, что в своих показаниях Федотов делал акцент на бессознатель-
ности своих действий. Он подчеркивал, что гвоздь взял случайно, а в порче
портрета не отдавал себе отчета. Упоминается в рассказе и алкоголь: хотя
Федотов выпивал уже после совершения инкриминируемого ему преступления,
он как бы намекает на свою приверженность пьянству и на то, что действовал в
измененном состоянии сознания. Эти показания, данные очевидно для смягче-
ния наказания и снятия с себя вины, не позволяют понять реальную прагматику
действий Федотова. Однако к делу приложены и свидетельские показания его
сослуживца, ставшие, по всей видимости, основанием для вынесения обвини-
тельного заключения:
Федотов говорил: “Теперь везде судят, но ничего не дают, я вообще ненавижу эти поряд-
ки и новшества, вводимые советской властью”. В этот же день во дворе эта компания
учинила скандал, ругань между собой, а на замечания и просьбы проживающих прекра-
тить шум и ругань, они не обращали внимания, а даже делали выкрик: “Что вы нам гро-
зите, зовите, мол, сюда самого Сталина или Ворошилова, всех пошлём подальше”… и
т.д. Продкарточек Федотов последнее время не имел, поскольку он нигде больше месяца
не работал, увольнялся за прогулы, естественно он был недоволен таким положением,
т.е. введением карточной системы и постановлением правительства о борьбе с прогула-
ми (Там же).
Принимая во внимание тот факт, что свидетельские показания могли быть
и ложными, мы все же можем предположить, какими были мотивы Федотова,
когда он выкалывал глаза и портил усы Сталину на портрете. Федотов, будучи
рядовым рабочим на заводе, находился внизу системы социальной стратифи-
кации советского государства. Его недовольство вылилось в атаку на портрет
правящего лидера. Федотов стремился “наказать” предполагаемого виновника
своих несчастий посредством оскорбления и унижения его образа.
Сенина Ю.Н. Осквернение портретов государственных лидеров...
59
Иконоборческая кампания после XX съезда партии
Дела об антисоветской агитации и пропаганде в связи с осквернением пор-
третов Сталина заводились на протяжении всего его правления. Как и в упомя-
нутом примере, изображениям вождя часто выкалывали глаза, их могли резать
на кусочки и использовать в качестве стелек6. Однако по-настоящему массовая
борьба с изображениями Сталина и на государственном, и на “низовом” уровне
началась после доклада Никиты Хрущева на XX съезде партии, положившего
начало курсу на десталинизацию.
На закрытом заседании ХХ съезда КПСС 25 февраля 1956 г. Хрущев высту-
пил с докладом “О культе личности и его последствиях”. А 5 марта 1956 г. Пре-
зидиум ЦК КПСС принял постановление «Об ознакомлении с докладом тов.
Хрущева Н.С. “О культе личности и его последствиях” на ХХ съезде КПСС».
Обкомам, крайкомам и ЦК компартий союзных республик было предложено
ознакомить с содержанием доклада всех коммунистов и комсомольцев, а так-
же беспартийный актив. С этой целью на места были разосланы брошюры с
текстом доклада, при этом с обложки был снят гриф “строго секретно”, вместо
него появился гриф “не для печати”. “Смягченный” вариант доклада, в котором
задавались рамки допустимой критики сталинизма, был обнародован в качестве
постановления Президиума ЦК КПСС только 30 июня 1956 г. под названием
“О преодолении культа личности и его последствий” (Хрущев 1989). Однако
уже после 5 марта о нем стали говорить все, слухи о содержании доклада Хру-
щева распространялись и передавались повсеместно.
Реакция людей на доклад была самой разной. Не все приняли слова Хруще-
ва на веру, а приведенные им факты преступлений Сталина - за истину, обвине-
ния посыпались как на самого Хрущева, так и на остальных членов Политбюро.
Примеры такой реакции можно найти в дневниках и воспоминаниях современ-
ников. Вот как описывает свои впечатления студентка факультета журналисти-
ки Лидия Кляцко (1935 г.р.):
Разговоры о съезде ввергли меня в полнейшее недоумение. Противно все: и борь-
ба разных мнений (неизвестно, кто прав), все встречается “бурными аплодисментами”.
Игорь относится весьма отрицательно к речи Микояна. Не думаю, что его точка зрения
так же примитивна, как у Марины Л. и Гали Б. Они уверены, что культ личности созда-
вался курсом партии, а не самим Сталиным. Есть что-то отвратительное в этом оплевы-
вании Сталина, в этой нарочитости в оценке прошлого, противна вся эта шумиха.
А в общем, я ничего не понимаю. Отчаливаю от общественной работы и от разгово-
ров о политике. Жаль только, что нет Ленина (Кляцко 1956).
Многие люди категорически не хотели принимать факты, представленные в
докладе. Особенно явно это проявилось в Тбилиси, где разоблачение Сталина
задело не только политические эмоции, но и национальные чувства. В марте
1956 г. здесь начались массовые протесты, в результате которых было расстре-
ляно по разным данным от 15 до 500 мирных граждан.
На государственном уровне “визуальная десталинизация” велась достаточ-
но осторожно и спокойно. После XX съезда КПСС прекратили устанавливать
новые памятники Сталину, а затем начался постепенный демонтаж старых.
Однако на “низовом” уровне осквернение изображений Сталина началось прак-
тически сразу после XX съезда и имело массовый характер. Известиями об от-
ломанных конечностях и носах, сколотых со сталинских изваяний, были полны
отчеты местных партийных органов, направляемые вверх по инстанциям.
Люди, услышав о злодеяниях режима из уст правящей верхушки, по сути,
получили мандат на самостоятельное “ниспровержение кумира”. При этом нака-
зание за такие акты осквернения следовало не всегда, так как для власти статус
60
Этнографическое обозрение № 2, 2023
вождя народов тоже был двойственен. С одной стороны, Сталин был осужден и
изгнан из пантеона лидеров партии, с другой - никаких инструкций по поводу
того, что делать с его изображениями и трудами, не поступало. Так, студент пя-
того курса матмеха ЛГУ Анатолий Вершик и трое его сокурсников предприняли
попытку уничтожить мемориальные доски Сталину, установленные на здании
Биржи в Ленинграде. Участникам акции удалось уронить и расколоть правую
доску, расположенную со стороны Биржевого моста. Приступить к демонтажу
левой они не успели, так как были замечены милиционером, и им пришлось ухо-
дить от погони. Поступок не повлек негативных последствий, хотя, как замечает
Вершик, найти студентов для милиции не составляло труда (Вершик 2006).
Другой пример “низовой” иконоборческой реакции на доклад Хрущева мы
находим в деле студента Московского энергетического университета, мастера
электромонтажных работ Николая Николаевича Славова. Его обвиняли в том,
что «в апреле 1957 года после ознакомления с письмом ЦК КПСС “О культе
личности Сталина” он, придя в контору, снял портрет Сталина, разбил его об
пол и растоптал ногами» (ГАРФ 1. Д. 83287. Л. 9, 10). Сам Славов описал свои
действия так:
Весной (не помню числа и месяца) 1956 года после рабочего дня там зачитали письмо
ЦК КПСС “О культе личности Сталина”. Текст письма настолько был насыщен фактами
отрицательной деятельности Сталина, что это очень болезненно повлияло на мое ду-
шевное состояние и я не мог успокоиться до следующего дня. Прийдя на другой день на
работу я зашел в производственный отдел нашего управления, где велся спор о преиму-
ществе и недостатках личности Сталина при этом сотрудник Удилин (свидетель) сказал:
“Сталин непревзойденная личность и все эти козявки не смогут ничего ему сделать”.
Я под впечатлением письма и высказанного Удилиным, в сердцах, снял со стены портрет
Сталина и бросил его на пол. После чего я ушел домой и весь день не работал ввиду
нервного потрясения. На следующий день меня вызвал начальник управления и объявил
мне, что уволит меня за хулиганство, но увольнения не последовало. Приблизительно
через полгода меня вызвали по этому поводу в обком партии, где разъяснили, что я по-
ступил неправильно. Я это понял и был очень тронут вежливостью и внимательностью.
Я понял, что неправильно поступил и больше о Сталине ничего не высказывал (Там же).
В показаниях Славова, как и в свидетельствах рабочего Федотова, подчер-
кивается, что атака на портрет скомпрометированного лидера была соверше-
на в состоянии аффекта. Славова не привлекли к ответственности сразу, что
объясняется опять-таки растерянностью органов власти и отсутствием четких
инструкций, как теперь поступать с осквернителями портретов вождя. Однако,
когда через год Славова арестовали из-за его “антисоветских” речей по поводу
ввода войск в Венгрию, разбитый портрет ему был также инкриминирован.
Порча портретов советских лидеров после Сталина
С развенчанием культа личности Сталина уголовные дела осквернителей
изображений советских лидеров не прекратились, лишь уменьшилось их коли-
чество. В отношении портретов Хрущева случаи порчи стали множиться после
принятия неодобряемых обществом внутриполитических решений. В одном из
дел надзорного ведомства описывается случай, произошедший в Новочеркасске
в 1962 г. во время событий, известных как “новочеркасский расстрел”. Тогда
33-летний старший инженер Бредихин, находясь на рабочем месте в конструк-
торском бюро, услышал от коллег, что в центре города проходит демонстрация
против повышения цен на продукты и снижения заработной платы и что ми-
лиция и армия открыли огонь по мирным жителям. После этого Бредихин, как
написано в обвинительном заключении, “находясь в помещении конструктор-
ского бюро института, в рабочее время в присутствии сотрудников института,
Сенина Ю.Н. Осквернение портретов государственных лидеров...
61
сорвал со стены портрет Первого секретаря ЦК КПСС тов. Хрущева, вынес
портрет из помещения в коридор и из окна 2-го этажа выбросил во двор” (ГАРФ
1. Д. 98310. Л. 4-6). Коллеги Бредихина, согласно материалам дела, поспешили
привести портрет в порядок и повесить его на прежнее место. В тексте обвини-
тельного заключения говорится, что портрет был поврежден незначительно, и
это оказалось смягчающим обстоятельством. В результате дело удалось обжа-
ловать в прокуратуре и добиться освобождения обвиняемого.
* * *
Пришедшие в 1917 г. к власти большевики принялись пересматривать ста-
рую систему значений, в рамках этой деятельности была развернута широко-
масштабная атеистическая кампания. Советская власть стремилась к разделе-
нию “религиозной” и “научной” онтологий: преследовалось почитание Бога и
святых, а иконам придавался новый культурно-исторический смысл. Однако
изобретение советской визуальности с новой системой символов и значений
сделало эти усилия по “очистке” области визуального благочестия несостоя-
тельными. Портреты советских политических лидеров, наравне с другими
символами новой власти, приобрели семиотический статус государственных
святынь, атаки в отношении которых квалифицировались органами государ-
ственной безопасности как своего рода богохульство, направленное на осквер-
нение коммунистического строя.
В статье была предпринята попытка рассмотрения “низовых” иконобор-
ческих актов в отношении “политических тел” советских лидеров, т.е. порча
их публичных изображений. Эти акты в основном представляют собой спон-
танные, эмоциональные, несанкционированные действия отдельных лиц или
небольших коллективов, направленные на символы власти и официальную
иконографию с целью делегитимировать, изуродовать или наказать “полити-
ческое тело” правителя. Такие акты были ограничены сферой относительной
автономии субъекта, способного действовать рационально и выражать эмоции.
Низовая борьба велась в том числе за право изменить официальную семантику
символов советского режима и ограничить их социальную “силу”.
Из приведенных примеров видно, что практики уничтожения или порчи
культовых изображений могут типологически восходить к религиозным иконо-
борческим практикам и определяться разными причинами и мотивировочными
установками. Кроме того, отметим распространенность подобных действий в
разные исторические времена. Стоит только вспомнить damnatio memoriae (лат.
“проклятие памяти”) - известное еще в Древнем Риме “посмертное наказание”
государственного преступника, когда любые материальные объекты, свидетель-
ствующие о его существовании (статуи, настенные и надгробные надписи, упо-
минания в законах и летописях), подлежали тотальному уничтожению, чтобы
стереть память об умершем.
Иконоборческая кампания, направленная на уничтожение образов Сталина
на государственном уровне, была попыткой уничтожить культурную память о
репрессиях, годах коллективизации, о раскулачивании, потерях в войне и т.д.
Такое иконоборчество было частью официальной политики памяти. Случаи же
“низовой” борьбы с визуальными репрезентациями политических лидеров пре-
имущество обуславливались желанием наказать облеченного властью вождя,
представленного конкретным изображением. Из рассмотренных в статье при-
меров явствует, что иконоборческий акт является своего рода проекцией пер-
сональных эмоций в отношении (сверх)человека, оказавшегося не божеством,
олицетворяющим идеи коммунизма, а обманщиком или преступником.
62
Этнографическое обозрение № 2, 2023
Примечания
1 Подробнее см., напр.: Besançon et al. 2000: 65.
2 См., напр.: Humphreys 2021; Brubaker, Haldon 2011; Barber 2002; т.д.
3 См., напр.: Michalski 2013; Koerner 2004; Eire 1989; т.д.
4 Действия, направленные на образы, признанные священными государ-
ством или светским обществом.
5 Из недавних исследований можно привести книгу историка и антрополога
Юрия Слёзкина “Дом правительства. Сага о русской революции”, в которой ав-
тор говорит о первых строителях коммунизма как о сектантах, а о большевизме
как о милленаризме (Слёзкин 2019).
6 В случае со сделанной из портрета Сталина стелькой для обуви (ГАРФ 2.
Д. П-7924) интересна идея постоянного попирания образа вождя. Здесь напра-
шивается историческая параллель со стелькой патриарха Никона, описанной в
его старообрядческих житиях: в стельках Никона был зашит образ Богородицы
и трисоставный крест - таким образом, указывалось, что Никоном постоянно
совершается святотатство в отношении сакральных православных символов
(Перетц 1900).
Источники и материалы
Вершик 2006 - Вершик А.М. Пятьдесят лет назад в марте // Звезда. 2006. № 3.
C. 173-186.
ГАРФ 1 - Государственный архив Российской Федерации. Ф. 8131. Оп. 31.
ГАРФ 2 - Государственный архив Российской Федерации. Ф. 10035.
Кляцко
1956
- Кляцко Л.П. Дневник. Запись от 21.02.1956 // Электрон-
ный корпус
01%22&diaries=%5B1202%5D (дата обращения: 12.10.2022).
Перетц 1900 - Перетц В.Н. Слухи и толки о патриархе Никоне в литературной
обработке писателей XVII-XVIII вв. // Известия Отделения русского языка
и словесности Императорской Академии наук. 1900. Т. 5. Кн. 1. С. 123-190.
Троцкий 2015 - Троцкий Л.Д. Преступления Сталина. М.: Directmedia, 2015.
Хрущев 1989 - Хрущев Н.С. О культе личности и его последствиях: доклад Пер-
вого секретаря ЦК КПСС тов. Хрущева Н.С. XX съезду КПСС // Известия
ЦК КПСС. 1989. № 3. С. 128-170.
OED 1989 - The Oxford English Dictionary / Eds. J.A. Simpson, E.S.C. Weiner.
Oxford: Oxford University Press, 1989.
Научная литература
Антонов Д.И. (отв. ред.) Сила взгляда: глаза в мифологии и иконографии.
М.: РГГУ, 2014.
Архипова А.С., Кирзюк А.А. Опасные советские вещи: городские легенды и страхи
в СССР. М.: НЛО, 2019.
Канторович Э.Х. Два тела короля. Исследование по средневековой политиче-
ской теологии. М.: Изд-во Института Гайдара, 2015.
Кинг Д. Пропавшие комиссары. М.: Контакт-Культура, 2012.
Козлов В.А. Крамола: инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953-1982
годы: по рассекреченным документам Верховного суда и Прокуратуры СССР //
Отечественная история. 2003. № 4. С. 93-111.
Козлов В.А., Мироненко С.В. (ред.) Крамола: инакомыслие в СССР при Хрущеве
и Брежневе, 1953-1982 гг.: рассекреченные документы Верховного суда и
Прокуратуры СССР. М.: Материк, 2005.
Сенина Ю.Н. Осквернение портретов государственных лидеров...
63
Латур Б. Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии.
СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2006.
Паперный В.З. Культура два. М.: НЛО, 2016.
Плампер Я. Алхимия власти. Культ Сталина в изобразительном искусстве.
М.: НЛO, 2010.
Слёзкин Ю. Дом правительства. Сага о русской революции. М.: АСТ; Corpus, 2019.
Смолкин В. Свято место пусто не бывает: история советского атеизма. М.: НЛО,
2020.
Barber C. Figure and Likeness: On the Limits of Representation in Byzantine
Iconoclasm. Princeton: Princeton University Press, 2002.
Bernstein A. Caution, Religion! Iconoclasm, Secularism, and Ways of Seeing in Post-
Soviet Art Wars // Public Culture. 2014. T. 26. No. 3. P. 419-448.
Besançon A. et al. The Forbidden Image: An Intellectual History of Iconoclasm.
Chicago: University of Chicago Press, 2000.
Bonnell V.E. Iconography of Power: Soviet Political Posters under Lenin and Stalin.
Berkeley: University of California Press, 1998.
Braarvig J. Iconoclasm -Three Modern Cases // Iconoclasm from Antiquity to
Modernity / Eds. M. Prusac, K. Kolrud. Abingdon: Routledge, 2016. P. 153-170.
Brubaker L., Haldon J. Byzantium in the Iconoclast Era (c. 680-850): A History.
Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
Eire C.M.N. War against the Idols: The Reformation of Worship from Erasmus to
Calvin. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
Hobsbawm E., Ranger T. (ed.) The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge
University Press, 2012.
Humphreys M. (ed.) A Companion to Byzantine Iconoclasm. Leiden: Brill, 2021.
Keane W. Christian Moderns. Berkeley: University of California Press, 2007.
Kenez P. The Birth of the Propaganda State: Soviet Methods of Mass Mobilization,
1917-1929. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
Kiilerich B. Defacement and Replacement as Political Strategies in Ancient and
Byzantine Ruler Images // Iconoclasm from Antiquity to Modernity / Eds.
M. Prusac, K. Kolrud. Abingdon: Routledge, 2016. P. 57-75.
Koerner J.L. The Reformation of the Image. Chicago: University of Chicago Press, 2004.
Luehrmann S. Secularism Soviet Style: Teaching Atheism and Religion in a Volga
Republic. Bloomington: Indiana University Press, 2011.
Michalski S. Reformation and the Visual Arts: The Protestant Image Question in
Western and Eastern Europe. Abingdon: Routledge, 2013.
Prusac M., Kolrud K. Introduction - Whose Iconoclasm? // Iconoclasm from Antiquity
to Modernity / Eds. M. Prusac, K. Kolrud. Abingdon: Routledge, 2016. P. 1-15.
Sauer E.W. Disabling Demonic Images: Regional Diversity in Ancient Iconoclasts’
Motives and Targets // Iconoclasm from Antiquity to Modernity / Eds. M. Prusac,
K. Kolrud. Abingdon: Routledge. 2016. P. 31-56.
Tumarkin N. Lenin lives!: The Lenin Cult in Soviet Russia. Cambridge: Harvard
University Press, 1997.
R e s e a r c h A r t i c l e
Senina, I.N. Defiling the Portraits of State Leaders in the Soviet Culture of the Later
Half of the 1950s - Early 1960s [Oskvernenie portretov gosudarstvennykh liderov v
sovetskoi kul’ture vtoroi poloviny 1950-kh - nachala 1960-kh godov] Etnograficheskoe
obozrenie,
2023, no.
2, pp.
EDN: QOVNJM ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute of
Ethnology and Anthropology RAS
64
Этнографическое обозрение № 2, 2023
University at St. Petersburg (6/1a Gagarinskaya Str., St. Petersburg, 191187, Russia)
Keywords
iconoclasm, desecration, portraits of Soviet leaders, anti-Soviet agitation, propaganda,
secular sacral
Abstract
The article deals with the topic of violation of the boundaries of the secular sacral in
the late 1950s and early 1960s - namely, the cases of damage to symbols sacred to
the Soviet ideology, such as portraits of the state leaders. I discuss why these symbols
acquired a special semiotic status and their damage was punished not as hooliganism
but as a kind of ritual defilement, the punishment for which was provided for by the
Criminal Code of the Russian Federal Socialist Republic. Among the main sources
of information about individual cases of such “sacrilege” were the archives of the
supervisory proceedings of the USSR Prosecutor’s Office. It is on the basis of the
surviving case files that one can analyze acts of “grassroots” anti-government actions
and learn about those who committed them, since most of these people did not leave
behind memoirs or other records that would talk about their personal history.
Funding Information
This research was supported by the following institutions and grants: Russian Science
References
Antonov., D.I., ed. 2014. Sila vzgliada: glaza v mifologii i ikonografii [The Power of
the Eye: Eyes in Mythology and Iconography]. Moscow: RGGU.
Arkhipova, A., and A. Kirziuk. 2019. Opasnye sovetskie veshchi: gorodskie legendy
i strakhi v SSSR [Dangerous Soviet Things: Urban Legends and Fears in the
USSR]. Moscow: NLO.
Barber, C. 2002. Figure and Likeness: On the Limits of Representation in Byzantine
Iconoclasm. Princeton: Princeton University Press.
Bernstein, A. 2014. Caution, Religion! Iconoclasm, Secularism, and Ways of Seeing
in Post-Soviet Art Wars. Public Culture 26 (3): 419-448.
Besançon, A., et al. 2000. The Forbidden Image: An Intellectual History of Iconoclasm.
Chicago: University of Chicago Press.
Bonnell, V.E. 1998. Iconography of Power: Soviet Political Posters under Lenin and
Stalin. Berkeley: University of California Press.
Braarvig, J. 2016. Iconoclasm - Three Modern Cases. In Iconoclasm from Antiquity to
Modernity, edited by M. Prusac and K. Kolrud, 153-170. Abingdon: Routledge.
Brubaker, L., and J. Haldon. 2011. Byzantium in the Iconoclast Era (c. 680-850):
A History. Cambridge: Cambridge University Press.
Eire, C.M.N. 1989. War against the Idols: The Reformation of Worship from Erasmus
to Calvin. Cambridge: Cambridge University Press.
Hobsbawm, E., and T. Ranger, ed. 2012. The Invention of Tradition. Cambridge:
Cambridge University Press.
Humphreys, M., ed. 2021. A Companion to Byzantine Iconoclasm. Leiden: Brill.
Kantorovich, E.H. 2015. Dva tela korolia: Issledovanie po srednevekovoi politicheskoi
teologii [The King’s Two Bodies]. Moscow: Izdatel’stvo Instituta Gaidara.
Keane, W. 2007. Christian Moderns. Berkeley: University of California Press.
Kenez, P. 1985. The Birth of the Propaganda State: Soviet Methods of Mass
Mobilization, 1917-1929. Cambridge: Cambridge University Press.
Сенина Ю.Н. Осквернение портретов государственных лидеров...
65
Kiilerich, B. 2016. Defacement and Replacement as Political Strategies in Ancient
and Byzantine Ruler Images. In Iconoclasm from Antiquity to Modernity, edited
by M. Prusac and K. Kolrud, 57-75. Abingdon: Routledge.
King, D. 2012. Propavshie komissary [Missing Commissioners]. Moscow: Kontakt-
Kultura.
Koerner, J.L. 2004. The Reformation of the Image. Chicago: University of Chicago
Press.
Kozlov, V.A. 2003. Kramola: inakomyslie v SSSR pri Khrushcheve i Brezhneve.
1953-1982 gody [Sedition: Dissent in the USSR under Khrushchev and Brezhnev.
1953-1982]. Otechestvennaia istoriia 4: 93-111.
Kozlov, V.A., and S.V. Mironenko, eds. 2005. Kramola: inakomyslie v SSSR
pri Khrushcheve i Brezhneve, 1953-1982 gg.: rassekrechennye dokumenty
Verkhovnogo suda i Prokuratury SSSR [Sedition: Dissent in the USSR under
Khrushchev and Brezhnev, 1953-1982: Declassified Documents of the Supreme
Court and the Prosecutor’s Office of the USSR]. Moscow: Materik.
Latour, B. 2006. Novogo Vremeni ne bylo. Esse po simmetrichnoi antropologii
[We Have Never Been Modern]. St. Petersburg: Izdatel’stvo Evropeiskogo
universiteta v Sankt-Peterburge.
Luehrmann, S. 2011. Secularism Soviet Style: Teaching Atheism and Religion in a
Volga Republic. Bloomington: Indiana University Press.
Michalski, S. 2013. Reformation and the Visual Arts: The Protestant Image Question
in Western and Eastern Europe. Abingdon: Routledge.
Papernyi, V.Z. 2016. Kul’tura dva [Culture Two]. Moscow: NLO.
Plamper, J. 2010. Alkhimiia vlasti. Kul’t Stalina v izobrazitelnom iskusstve [Alchemy
of Power: The Cult of Stalin in the Visual Arts]. Moscow: NLO.
Prusac, M., and K. Kolrud. 2016. Introduction - Whose Iconoclasm? In Iconoclasm
from Antiquity to Modernity, edited by M. Prusac and K. Kolrud, 1-15. Abingdon:
Routledge.
Sauer, E.W. 2016. Disabling Demonic Images: Regional Diversity in Ancient
Iconoclasts’ Motives and Targets. In Iconoclasm from Antiquity to Modernity,
edited by M. Prusac and K. Kolrud, 31-56. Abingdon: Routledge.
Slezkine, Y. 2019. Dom pravitel’stva. Saga o russkoi revoliutsii [The House of
Government: A Saga of the Russian Revolution]. Moscow: АСТ; Corpus.
Smolkin, V. 2020. Sviato mesto pusto ne byvaet: istoriia sovetskogo ateizma
[No Holy Place Is Empty: The History of Soviet Atheism]. Moscow: NLO.
Tumarkin, N. 1997. Lenin Lives!: The Lenin Cult in Soviet Russia. Cambridge:
Harvard University Press.