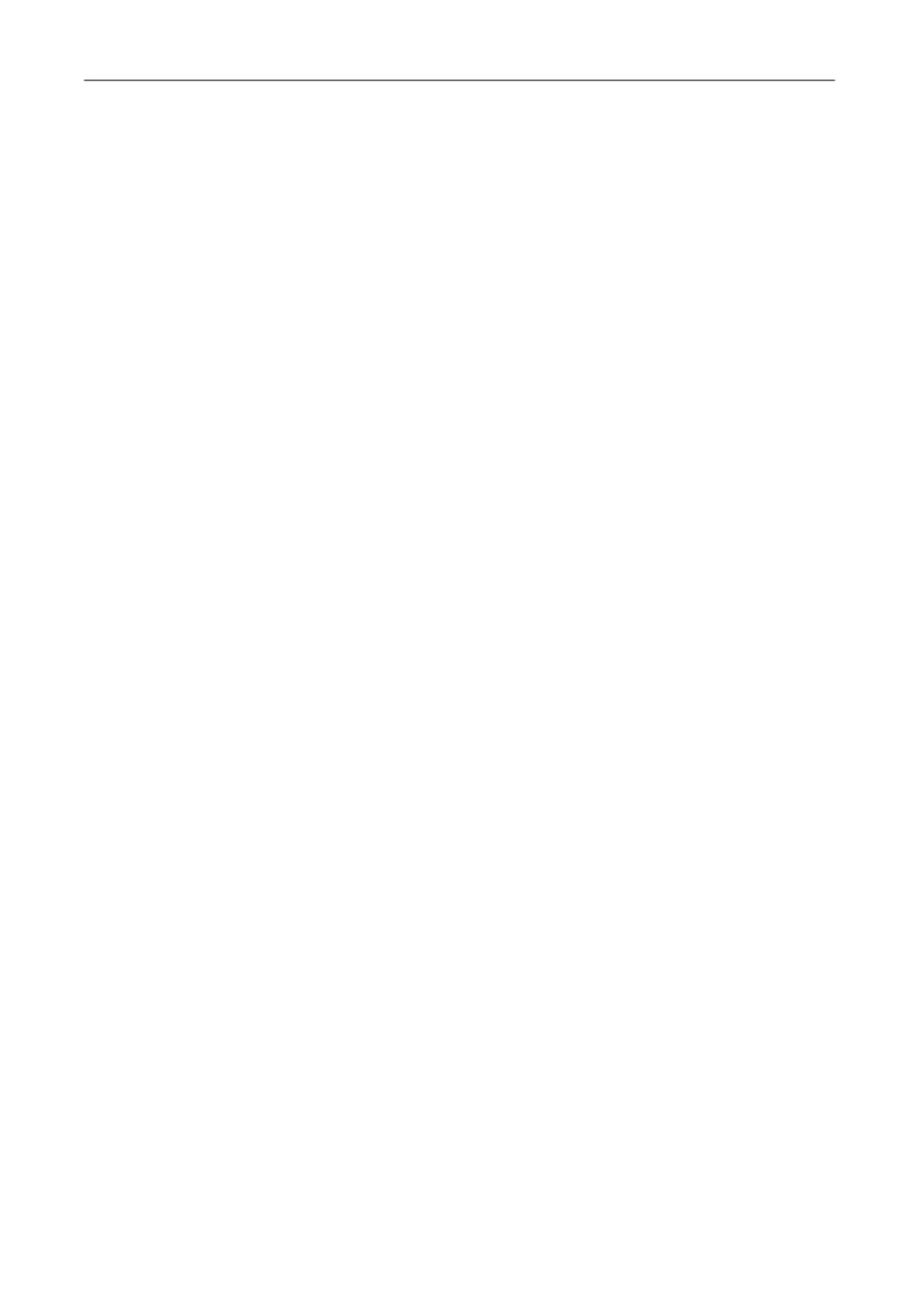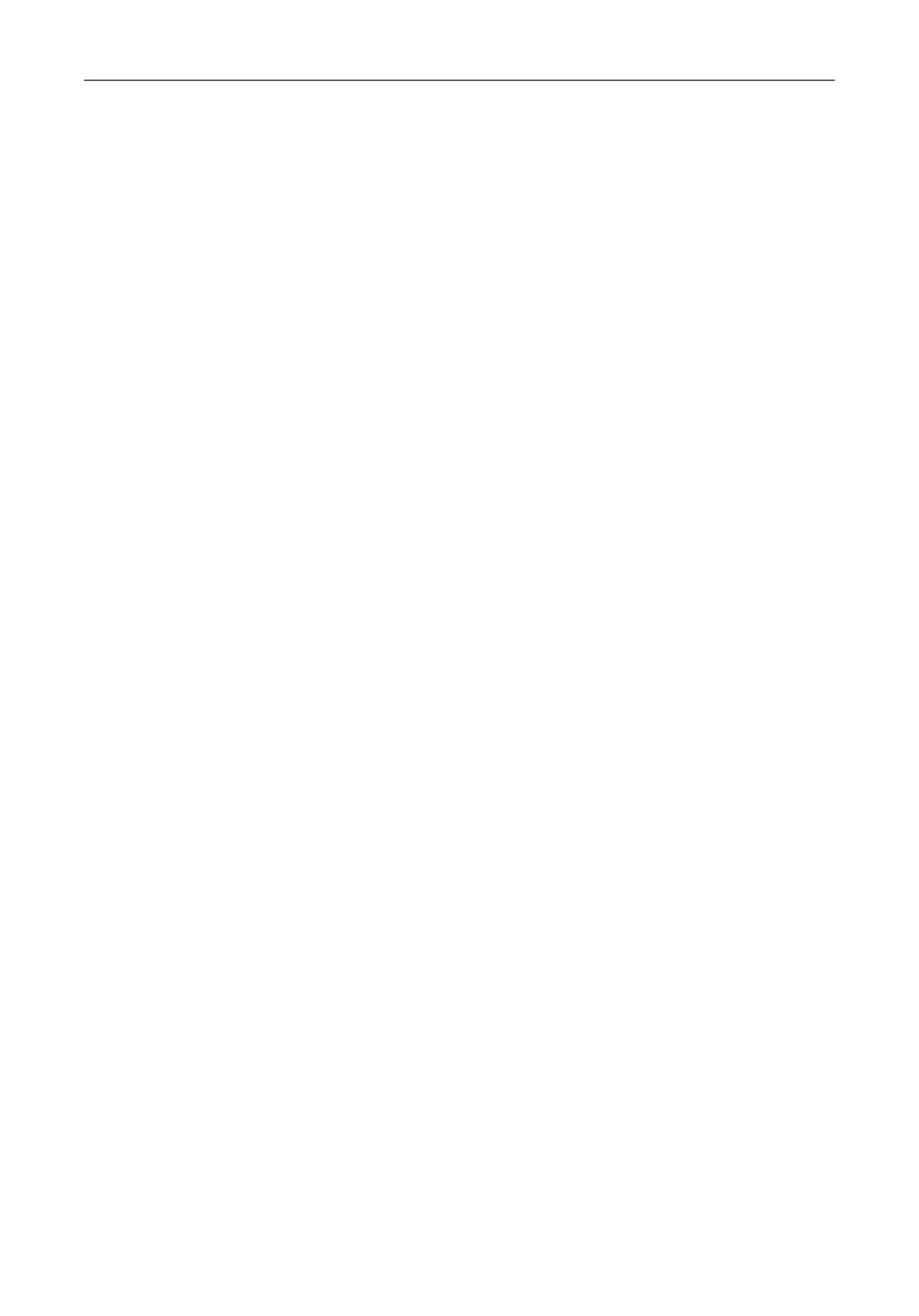КАК ХОРОШИ, КАК СВЕЖИ БЫЛИ РОЗЫ…
М.В. Крюков
Михаил Васильевич Крюков
|
32liukefu@163.com
|
д.и.н., член Европейской
Академии, почетный член Британского Королевского антропологического общества
(Москва, Россия; Пекин, Китай)
Ключевые слова
история этнографии, Институт этнографии АН СССР, Древний Китай, системы родства,
концепция Моргана-Энгельса, экспедиционная деятельность
Аннотация
Статья предлагает читателям научные воспоминания автора, д. и. н., члена Европейской
Академии, почетного члена Британского Королевского антропологического общества,
работавшего в Институте этнографии АН СССР. Автор повествует о своем творческом
пути, об исследованиях и научных спорах, о друзьях и коллегах, о работе в журнале
“Советская этнография” (“Этнографическое обозрение”), о перипетиях научной жизни
Института этнографии (сегодняшнего Института этнологии и антропологии РАН).
етом 1962 г. после окончания Пекинского университета я вернулся в
Москву с дипломом археолога. Естественно поэтому, что, едва ступив на
Л
московскую землю, я первым делом отправился устраиваться в Инсти-
тут археологии. Прежде всего я разыскал Сергея Владимировича Киселева, с
которым познакомился не где-нибудь, а на развалинах Великого города Шан
в Аньяне. Внимательно выслушав меня, он приветствовал мое намерение свя-
зать свою судьбу с Институтом археологии и даже предложил мне тему канди-
датской диссертации - “Локальные варианты культуры Шан-Инь”. Но в дирек-
ции Института мне сказали, что им действительно нужен молодой сотрудник,
специализирующийся по археологии Китая, однако, к сожалению, вакантных
мест нет. Приходите, мол, через полгода! Ждать полгода я никак не мог. У меня
были жена и новорожденный сын, которых я должен был кормить. Вконец рас-
строенный, я вернулся домой. И тут на помощь мне пришел мой товарищ по
Пекинскому университету Саша Решетов, уже работавший в это время в ленин-
градской части Института этнографии.
Саша был яркой личностью, выделявшейся на фоне всех, кто учился в те
годы в Китае. Прежде всего, мы были студентами, он - аспирантом, и это, раз-
умеется, поднимало его авторитет в глазах однокашников. Несмотря на груз-
ность, Саша с неподражаемым искусством исполнял танец маленького лебедя и
Статья поступила 17.06.2023 | Окончательный вариант принят к публикации 01.09.2023
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Крюков М.В. Как хороши, как свежи были розы… // Этнографическое обозрение. 2023. № 5.
Kriukov, M.V. 2023. Kak khoroshi, kak svezhi byli rozy… [How Lovely, How Fresh Were the
EDN: YEAOIG
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
64
Этнографическое обозрение № 5, 2023
вообще был весьма эрудированным балетоманом. Он был не дурак пропустить
по маленькой, а после третьей обычно исполнял свою любимую арию из неиз-
вестной мне оперы:
Обязательно, обязательно, обязательно женюсь!
Обязательно, обязательно возьму жену на вкус!
Блондиночка, брюнеточка хороша пока молода,
а состарится, разонравится, ни к черту негодна!
Однако свое широко разрекламированное намерение жениться Саша так и
не осуществил, на всю жизнь остававшись холостяком. Услышав о моем не-
удачном визите в Институт археологии, Саша, не задумываясь, предложил:
“А ты давай к нам! Этнография - это же такая интересная наука! Не говоря уже
о том, что наш директор един в двух лицах, совмещает в себе и археолога и
этнографа!” Об этнографической науке я имел тогда очень смутное представле-
ние и знал только, что был у нас такой Миклухо-Маклай, первым из европейцев
высадившийся на Новой Гвинее. Выбора у меня не было. Я последовал Саши-
ному совету и пошел в ИЭ АН.
В Институте этнографии
Я приехал на ул. Дмитрия Ульянова, поднялся на четвертый этаж, где рас-
полагался институт, и, прежде чем направиться в дирекцию, зашел в туалет.
А когда вышел оттуда, меня остановил в коридоре седовласый мужчина (как
потом выяснилось, это был институтский завхоз) и произнес назидательным
тоном: “Я вижу, юноша, Вы здесь у нас первый раз. Но должен Вам заметить:
входя в академическое учреждение, следует застегивать ширинку!” От стыда я
готов был провалиться сквозь землю.
Заместитель директора Людмила Николаевна Терентьева встретила меня в
своем кабинете очень любезно и объявила: «Мы берем Вас на место сотруд-
ницы, ушедшей в декрет. Теперь Вы - “временно беременный” с окладом
87 рублей в месяц!» В отделе мне показали стол, за которым мне предстояло
трудиться. Но не успел я осмотреться, как откуда ни возьмись появилась моло-
дая особа, направившаяся прямо ко мне:
- Ты кто такой? И почему сидишь за моим столом? - голос Натальи Львовны
Жуковской звучал на высокой ноте. - Это мой стол! А ну вышвыривайся отсюда
и поскорее!
Озабоченный всем, что произошло в этот день, я вышвырнулся. Впрочем,
очень скоро у нас с Натальей Львовной установились дружеские отношения
и наступил день, когда она преподнесла мне оттиск свой статьи с дарственной
надписью:
Когда-то были Вы одним из нас
И вместе с нами тезисы писали.
Ну а теперь большим ученым стали,
Статьи и книги что ни день у Вас.
Гордимся Вами, Вашим быстрым ростом,
Успешно Вы вершите массу дел.
Во всём, во всём Вы человечно просты,
На Вас держать равненье - наш удел.
И благодарны мы без всякой лести,
Всем коллективом счастливы вполне
За то, что Вы повсюду с нами вместе,
За то, что Вы живете на Земле!
Крюков М.В. Как хороши, как свежи были розы…
65
В Институте этнографии АН СССР в те годы трудилась целая плеяда выда-
ющихся ученых. Начать хотя бы с его директора Сергея Павловича Толстова.
Первоначально наш институт размещался в Ленинграде, и во время войны Тол-
стову, открывшему для науки древний Хорезм, было поручено на пустом месте
создать институт в Москве. Он блестяще справился с нелегкой задачей и по
праву возглавил созданный им коллектив. Дитя своего века, Толстов руководил
институтом жестко, не допуская инакомыслия. Однажды одна наша сотрудница
написала в своей статье, что греческий антрополог, инкогнито скрывавшийся в
Москве от черных полковников, - не только прекрасный ученый, но и комму-
нист, достойный этого высокого звания. Толстову позвонили из ЦК и поинте-
ресовались, почему он так плохо инструктирует своих подчиненных. Разъярен-
ный, как лев, директор примчался в институт и, не дожидаясь лифта, побежал
по лестнице прямо на четвертый этаж. “Где эта дура?! - оглушительно кричал
он. - Подайте ее мне немедленно!” “Которую? Которую подать?” - переспра-
шивала бежавшая рядом с шефом заведующая кадрами.
Сектором Зарубежной Европы у нас заведовал С.А. Токарев. Ученый-энци-
клопедист, выдающийся знаток этнографии народов Земли и теоретик науки, он
состоял почетным членом многих зарубежных академий, но у себя дома не был
даже членкором. Сергей Александрович являл собой воплощение подлинной
человеческой скромности. Как-то раз, встретив меня в институтском коридоре,
он остановился и сказал мне: «Михаил Васильевич! У меня к Вам нижайшая
просьба! Видите ли, я хочу просить Вас стать ответственным редактором моей
“Истории зарубежной этнографии”». “Ну что Вы, Сергей Александрович! - я,
тогда еще желторотый юнец, просто не находил слов от смущения. - Какой
же из меня ответственный редактор?!” “Нет-нет, не отказывайтесь! Прошу Вас
сделать одолжение!” Когда этот труд Сергея Александровича вышел из печати,
он подарил его мне с надписью: “Моему глубокоуважаемому Михаилу Васи-
льевичу - с искренней благодарностью за бескорыстную помощь”. Я до сих пор
бережно храню эту книгу.
С чувством огромной благодарности я вспоминаю сейчас своего учителя,
заведующего нашим сектором Николая Николаевича Чебоксарова - Ник-Ника,
как мы за глаза называли его. Николай Николаевич был немного моложе Сергея
Александровича, но принадлежал к той же выдающейся плеяде, чьими трудами
в 30-х годах прошлого века создавалась отечественная этнографическая наука.
Ник-Ник был не только одним из крупнейших советских антропологов, но и
одаренным этнографом. Он испытывал истинное наслаждение от самого про-
цесса научного исследования и всегда прямо-таки по-детски радовался чужим
и своим открытиям. Его никак нельзя было назвать кабинетным ученым - в
экспедициях Ник-Ник чувствовал себя как рыба в воде, хотя отнюдь не мог по-
хвастаться богатырским здоровьем.
Очень жаль, что до сих пор не увидели света дневники, которые он писал в
конце 1950-х в Китае во время полевых исследований в провинции Юньнань.
В те годы у нас на секторе постоянно устраивались интереснейшие дискуссии,
главную скрипку в которых всегда играл сам Николай Николаевич. Он же был
инициатором создания серии обобщающих работ по различным аспектам куль-
туры и этнической истории народов Азии. Ник-Ник любил жизнь во всех ее
проявлениях, был гостеприимным хозяином, постоянно приглашал нас к себе
домой, и сам, невзирая на постоянные протесты врачей, любил предаваться чре-
воугодию. После экспедиции по островам Тихого океана, где я заболел тропи-
ческой лихорадкой, у меня были проблемы с печенью. На очередной встрече у
Ник-Ника громогласная Ирина Абрамовна, его супруга, как всегда, угощала нас:
“Кушайте, кушайте, ребята! Это вкусно!” “Да-да, это очень вкусно, - вторил
66
Этнографическое обозрение № 5, 2023
ей Николай Николаевич. - Но Вам, Михаил Васильевич, этого нельзя: у Вас
печень. А я, пожалуй, съем маленький кусочек!” И с этими словами он накла-
дывал себе полную тарелку снеди, приготовленной Ириной Абрамовной, совер-
шенно забывая в это мгновение, что у него, как и у бедняги Михаила Василье-
вича, тоже печень.
Вскоре после моего зачисления в институт я присутствовал на заседании
ученого совета. В зале стоял постоянный шум: сидевшие на задних рядах за-
нимались своими делами и, не стесняясь, переговаривались между собой, не
обращая внимания на выступающего. Рядом со мной сидел молодой аспирант,
которому это явно не нравилось:
- Это не ученый совет, а бардак какой-то! - наконец не выдержал он.
- Простите великодушно, - откликнулся на эту реплику его сосед, мужчина
благообразной внешности и почтенного возраста. - А Вы, молодой человек, там
бывали?
- О чем Вы? - не понял аспирант.
- Вы упомянули о доме терпимости. А сами-то Вы там когда-нибудь бывали?
- Ну что Вы, что Вы! - застеснялся аспирант.
- Вот видите! - произнес сосед. - Вы там не бывали, а беретесь судить. А я,
случалось, захаживал. И должен Вас заверить, батенька, что порядок там всегда
идеальнейший, не то, что у нас на ученом совете!
Когда я поинтересовался, кто это был, мне сказали: “Как же, как же! Да это
же Марк Осипович Косвен!” Вот как! Значит, это знаменитый Косвен, один
из главных советских теоретиков истории первобытного общества! Я попро-
сил представить меня Марку Осиповичу, сообщил ему, что интересуюсь про-
блемой рода и спросил, что из новейшей литературы по этой тематике мне
стоило бы прочесть. Выслушав меня, Марк Осипович заметил, что проблема
рода - это важный вопрос, который и его чрезвычайно занимает, и что он как
раз недавно опубликовал новое исследование на эту тему: «Если Вы не чита-
ли, то поинтересуйтесь! Я имею в виду “Семейную общину и патронимию”.
Мне было бы весьма важно узнать Ваше мнение о главной идее этой моей
книжицы!» Я немедля разыскал в магазине только что вышедшую из печати
книгу Марка Осиповича и тщательно проштудировал ее. И нашел в ней ответ
на вопросы, давно уже волновавшие меня. Косвен убедительно показал, что в
истории человечества существовало два качественно различных, хотя и имев-
ших некоторые черты внешнего сходства, типа кровнородственной организа-
ции - род и патронимия.
Я принял решение писать кандидатскую на тему о роде и патронимии в
Древнем Китае. Через год с небольшим моя диссертация была готова и реко-
мендована к защите. Казалось, все шло как нельзя более успешно. Но тут на
моем пути возникло препятствие. Когда я пришел в институт, весь его коллек-
тив был занят подготовкой серии “Народы мира”, задуманной и руководимой
лично директором. За сектором Зарубежной Азии числились “Народы Восточ-
ной Азии”. Рукопись этого тома была подготовлена под руководством и.о. зав.
сектором Григория Григорьевича Стратановича (Гри-Гри, как мы его называли),
который связывал с этой работой большие надежды на будущее, рассчитывая,
в частности, что после ее публикации он будет официально утвержден в долж-
ности зав. сектором. Но тут из командировки в Китай вернулся Николай Нико-
лаевич Чебоксаров, и кресло заведующего досталось не Гри-Гри, а Ник-Нику.
Николай Николаевич стал главным редактором тома и, критическим оком обо-
зрев рукопись, посчитал, что она нуждается в переработке. Для начала он по-
ручил мне внимательно прочитать ее и сделать свои замечания по части китай-
ских реалий, чем я и занялся.
Крюков М.В. Как хороши, как свежи были розы…
67
Замечаний было много, и это было весьма неприятно Григорию Григорьеви-
чу. Его особенно задело мое пожелание исключить из текста цитату из “Шиц-
зина”, поскольку в переводе Гри-Гри священный гимн стал похож на частушку:
Варится и парится
И котлы кипят.
К небу поднимается
Чудный аромат…
Судя по всему, именно тогда Григорий Григорьевич решил, что этого выскоч-
ку нужно приструнить. В один прекрасный день мне сообщили, что на партбюро
будет рассматриваться вопрос о моем переходе из кандидатов в члены партии,
и назначен час, когда мне нужно было явиться на заседание. Я уже собирался
на партбюро, когда Гри-Гри начал рассказывать мне, почему минареты бывают
именно такой, а не какой-либо иной формы. Я посматривал на часы и порывался
идти, но мой собеседник повторял: “Не беспокойтесь, Михаил Васильевич, парт-
бюро у нас никогда не начинается вовремя!” Наконец я не выдержал и попросил
Гри-Гри досказать о минаретах в следующий раз, побежал в партбюро, опоздал
минут на 15 и, едва став членом КПСС, сразу же с места в карьер получил выго-
вор за свою неподобающую партийцу расхлябанность.
Но главное было еще впереди. Когда мою диссертацию уже можно было ста-
вить на защиту, Григорий Григорьевич сказал мне: “А почему бы Вам, Михаил
Васильевич, не получить еще один отзыв специалистов? Я берусь организовать
обсуждение Вашей диссертационной работы в Отделе древней истории в Ин-
ституте Востоковедения!” Не подозревая подвоха, я согласился. А на заседании
отдела древней истории произошло нечто совершенно неожиданное: меня про-
пустили сквозь строй, как это бывало в старину с проштрафившимися солда-
тами. Единственным участником заседания, выступившим с положительной
оценкой моей работы, был Виталий Рубин. А бал в тот день правили три дамы:
две сотрудницы отдела - Александра Андреевна Серкина и Татьяна Васильев-
на Степугина, а также сыгравшая первую скрипку специально приглашенная на
заседание профессор Института стран Азии и Африки при МГУ Любовь Дми-
триевна Позднеева.
Когда решение считать мою диссертацию не соответствующей требованиям
ВАКа было принято, Любовь Дмитриевна не удержалась и, с удовольствием
потирая руки, произнесла: “Ну, мы свое дело сделали, можем расходиться!”
Размышляя о том, почему это произошло, я пришел к выводу, что на то у участ-
ников заседания было по крайней мере три серьезные причины. Во-первых,
большую подготовительную работу провел Гри-Гри. Выступая на обсуждении,
он принес свои извинения по поводу того, что такая слабая диссертация под-
готовлена в секторе, в котором он работает. Во-вторых, тогда у нас уже давно
перестали петь о русском, который китайцу брат навек. Противостояние геге-
монистов и ревизионистов становилось все непримиримее, а тут является не-
кий китайский выкормыш, только что прибывший не откуда-нибудь, а прямо
из Пекина. В-третьих, моя диссертация плохо вписывалась в общепринятые
рамки: в ней не было ни одной цитаты из Маркса и Энгельса, не говоря уже о
последних решениях ЦК КПСС, а речь шла о понятиях, классиками марксизма
не упомянутых.
Я решил, что спорить в такой обстановке не имеет смысла и в заключитель-
ном слове ограничился тем, что поблагодарил выступавших за то, что они по-
тратили свое драгоценное время на чтение моей диссертации. После заседания
ко мне подошла Татьяна Васильевна: “Михаил Васильевич, я была уверена,
что Вы станете брыкаться, а Вы вели себя как мужчина!” И вдруг - нежданно-
68
Этнографическое обозрение № 5, 2023
негадано: “Я желаю Вам успеха!” И уж чего я никак не ожидал от Татьяны
Васильевны, так это того, что вскоре после этого она преподнесла мне книгу
с дарственной надписью - книгу, одним из ответственных редакторов которой
она была.
Через несколько дней собрался наш сектор, я доложил о том, как прошло
обсуждение в ИВАНе и, видя, с каким довольным выражением лица сидел
Гри-Гри, не выдержал и попросил записать в протоколе мою просьбу к нему:
“Впредь не быть в каждой бочке затычкой”. Наши отношения были вконец ис-
порчены.
Поскольку наш институт не обращался в ИВАН с официальной просьбой
дать предзащитный отзыв на мою диссертацию, на секторе было принято ре-
шение проигнорировать произошедшее и поставить работу на защиту. И вот на
доске объявлений появилось извещение о том, что 7 декабря 1965 г. состоится
защита моей диссертации. Но выяснилось, что признавать себя побежденным
Гри-Гри не собирался. В тот день я специально пришел в институт загодя и
очень правильно сделал, потому что ко мне тут же подошла бледная, как мел,
ученый секретарь: “Я прошу Вас, Михаил Васильевич, возьмите себя в руки!
Быть может, мы еще что-нибудь сможем придумать!” Оказывается, в адрес
ученого совета пришло анонимное письмо, в котором сообщалось, что в своей
работе я усиленно протаскиваю враждебные идеи Мао Цзэдуна. Это было сме-
хотворное утверждение, потому что в диссертации ни о Мао Цзэдуне, ни о его
идеях не говорилось ни слова. Но взаимные обвинения китайских гегемонистов
и советских ревизионистов обострились в ту пору до такой степени, что сделать
вид, словно никакого письма в институт не поступало, было невозможно.
Секретарь нашего сектора Зоя Александровна Листвинова тут же пришла
мне на помощь и напоила меня элениумом, чтобы я не слишком волновался.
Но она, как видно, переборщила с дозой, и на заседании я сидел совершен-
но равнодушный, словно происходившее меня совершенно не касалось. После
того, как заседание открылось и сведения о личности диссертанта были огла-
шены, ученый секретарь сообщила присутствовавшим о злополучной анонимке
и задала вопрос: “Нужно ли зачитывать ее?” Мнения членов ученого синклита
разделились. “Чего нам бояться каких-то писем без подписи! Конечно, надо за-
читать!” - говорили одни. “Этого еще не хватало! Ни в коем случае не зачиты-
вать анонимку!” - утверждали другие.
Одним словом, вся энергия выступавших ушла в прения по этому организа-
ционному вопросу, и когда они проголосовали и решили не зачитывать письма,
все уже до предела утомились. На дискуссию по содержанию самой диссерта-
ции ни у кого уже не было сил, и моя работа была за какие-нибудь минут пят-
надцать единогласно сочтена достойной степени кандидата исторических наук.
Я не согласен с Генри Морганом, Фридрихом Энгельсом
и Ией Леонидовной Маяк
С трудом преодолев препятствия, внезапно возникшие в связи с защитой
моей кандидатской диссертации, я, во-первых, опубликовал ее в виде небольшой
монографии “Формы социальной организации древних китайцев”, а во-вторых,
предложил журналу “Советская этнография” статью “О соотношении родовой
и патронимической организации”, предполагая начать дискуссию на эту тему,
еще не получившую тогда в этнографическом мире признания. А главное -
я продолжал размышлять над тем, что мне удалось обнаружить. То, что “ро-
довые имена”, зафиксированные в древнекитайских надписях, были наиме-
нованием не родов, а кланов, мне теперь было понятно. А как дело обстояло,
Крюков М.В. Как хороши, как свежи были розы…
69
например, с древнеримским gens? Генри Морган полагал, что римский gens и
род ирокезов - это явления одного порядка. Фридрих Энгельс безоговорочно
принял толкование Моргана, утверждая: “Впервые римский и греческий gens
получил полное объяснение на примере родовой организации дикарей, в осо-
бенности американских индейцев; таким образом, найдена прочная база для
первобытной истории”.
Советские антиковеды, строго следуя основополагающему принципу пар-
тийности науки, не сомневались в том, что Энгельс был прав, и в своих рабо-
тах ограничивались поисками дополнительных доказательств этого, игнорируя
факты, свидетельствовавшие о противоположном. Ярким примером тому было,
в частности, исследование известного специалиста по ранней истории Древне-
го Рима Ии Леонидовны Маяк, автора монографии “Рим первых царей”. Одна
из глав этой книги была специально посвящена семье и gens. Ие Леонидовне
были известны работы Косвена, и в своей книге она даже неоднократно упо-
требляла термин “патронимия”, но тем не менее вслед за Энгельсом считала,
что gens - это род. Между тем уже тех свидетельств древних авторов, которые
Ия Леонидовна приводит в своей книге, вполне достаточно, чтобы прийти к
выводу: gens представляет собой не род, а клан. Тот факт, что коллега Карла
Маркса допустил столь существенную ошибку в характеристике социальных
институтов древнего общества, не только шокировал, но и заставлял задумать-
ся: а нет ли в концепции Моргана-Энгельса других ошибок?
Как твердо помнит каждый, кто окончил советский вуз, Энгельс взял на
вооружение идею Моргана о том, что семья в процессе своего исторического
развития прошла несколько этапов, каждому из которых соответствовал специ-
фический тип организации: от кровнородственной через семью пуналуа к пар-
ной, а затем - к моногамной семье. Раз речь шла о типах семьи, я приложил к
ним те принципы типологизации, которые были сформулированы профессором
Су Бинци в его спецкурсе, читанном в Пекинском университете, и обнаружил,
что тут явно не все в порядке. Профессор Су настаивал на том, что типология,
например, предметов мебели “парты большие, деревянные и желтые” неприем-
лема. А у Моргана в паре с Энгельсом, по существу, все было, как с теми зло-
получными желтыми партами. В самом деле, “кровнородственная семья” как
определенный тип семейной организации была выделена на основе характера
родственных отношений между ее членами, “семья пуналуа” - в связи с тем,
что в ее основе лежали брачные отношения целой группы мужчин с такой же
группой их родственниц, “парная семья” отличалась от “пуналуа” тем, что она
основалась не на групповых, а на индивидуальных брачных узах, а “моногам-
ная” от “парной” - степенью устойчивости этих уз. Все это не отвечало стро-
гим правилам типологизации и ставило под сомнение всю систему выделенных
типов в целом.
Я задал себе вопрос: а какой тип семьи в эпоху китайского неолита может
быть реконструирован на археологическом материале? Главным источником
наших суждений в этом отношении было жилище как среда обитания семьи.
Оставляя за скобками вопрос о кровнородственной семье как этапе, предше-
ствующем роду, можно было утверждать, что полуземлянки из Баньпо или
Цюаньху не подходили для семьи типа пуналуа, так как их скромные размеры
были достаточными лишь для одной брачной пары вместе с ее отпрысками. Но
стояла ли за этим неустойчивая парная семья или семья моногамная?
Парная семья, по Энгельсу, зиждилась на эфемерном брачном союзе, кото-
рый легко возникал и мог быть в любой момент столь же безболезненно рас-
торгнут. Но возведение неолитической полуземлянки требовало весьма значи-
тельных трудовых усилий. Для того, чтобы выполнить весь комплекс работ по
70
Этнографическое обозрение № 5, 2023
возведению хижины, брачная пара должна была трудиться не покладая рук не
один месяц, занимаясь только этим и отложив все прочие хозяйственные дела.
Крайне сомнительно, что стоило тратить столько времени и труда в условиях,
когда не сегодня завтра эфемерный брачный союз мог быть расторгнут, и где-то
в другом месте нужно было начинать строить новую хижину. Но если неолити-
ческое жилище было местом обитания малой семьи, то это противоречило глав-
ному энгельсовскому тезису о том, что малая семья формируется на обломках
родовой организации. Словом, приняв содержащуюся в книге Энгельса инфор-
мацию о тотемном роде, я споткнулся на изложении Энгельсом истории семьи.
Было ясно, что мне в этом вопросе ничего не ясно, и нужно было продолжать
разбираться, что здесь к чему.
Морган, а за ним Энгельс, строили свою концепцию исторических типов се-
мьи на идее эволюции системы терминов родства, эти типы отражавшей. Ина-
че говоря, основные этапы развития семьи были реконструированы на основе
характеристики порожденных ими типов терминологии родства. Это опять-та-
ки была проблема типологии, и ее решение целиком и полностью зависело от
убедительности построения соответствующей типологической схемы. И здесь
привлечение сравнительных материалов по современной китайской системе
терминов родства позволило мне обнаружить еще одну прореху в построении
Моргана-Энгельса. Пришлось признать, что вся картина эволюции социальных
институтов, нарисованная в книге основоположника марксизма, оказалась без-
надежно искаженной.
Приняв концепцию Косвена о роде и патронимии, я пришел к заключению,
что, будучи правильной по существу, она все же нуждается в некоторой терми-
нологической корректировке. В самом деле, термин “патронимия” означал бук-
вально “имя по отцу”, но использовался для обозначения не наследственного
наименования этой группы, а самой группы как таковой. С этой точки зрения,
говоря о патронимии, предпочтительнее было бы употреблять какой-либо иной
термин, например клан, широко распространенный в западной литературе.
Что же касалось сущности клана, то я пришел к выводу, что ранговая систе-
ма древнекитайского общества порождается клановой структурой, коль скоро в
основе клана лежит деление на старших и младших. Но если клан и ранговая
система - это две различные ипостаси одного и того же состояния общества,
то это значит, что клановая организация влияла также и на другие социальные
явления. Может быть, и на системы терминов родства? Может быть, они отра-
жали не различные этапы развития семьи, как утверждали Морган и Энгельс, а
специфику рода и клана и отсутствие на более позднем этапе и того и другого?
Значит, думал я, для решения проблемы нужно исследовать историю китайской
системы родства и выяснить, чем же объясняется ее специфика. Для этого нуж-
но обратиться к последовательным периодам истории китайского общества,
первым из которых была эпоха Инь. Самые ранние из известных в Китае пись-
менных источников - иньские надписи - должны содержать информацию на
этот счет! Я решил, что понять историческую роль клана можно лишь просле-
див общие закономерности эволюции систем родства. Китайская система пре-
доставляла едва ли не идеальные условия для такого исследования, поскольку
сдвиги в ее структуре можно было проследить на протяжении уникально про-
должительного периода времени.
Современник Моргана российский ученый П.А. Лавровский, занимаясь из-
учением систем родства славянских народов, использовал именно такой метод.
Подход, сформулированный П.А. Лавровским, казался мне более продуктив-
ным, чем метод Моргана, и я написал об этом в статье для журнала “Советская
этнография”. Статья была послана редакцией ведущему специалисту по систе-
Крюков М.В. Как хороши, как свежи были розы…
71
мам родства Д.А. Ольдерогге, который не рекомендовал ее в печать, сопроводив
фразой: “Судя по всему, автор стремится доказать, что Россия - родина слонов”.
Но эта обидная реплика только подзадорила меня. Я решил не реагировать на
нее, а написать работу, которая доказала бы, что прав я, а не мой убеленный
сединами оппонент. Короче говоря, я решил, что моя докторская диссертация
будет посвящена истории китайской системы родства. Главный результат изу-
чения ее древнейшего состояния заключался в том, что, вопреки схеме Моргана-
Энгельса, исходным звеном эволюции китайской терминологии родства был
отнюдь не “малайский” тип, следов которого в Китае вообще обнаружить не
удалось, а вариант “ирокезского” типа, отличавшийся от классического тем, что
отношения кровного родства терминологически совпадали с отношениями по
браку.
Имея в своих руках аргументы в пользу вышесказанного, на грядущей за-
щите я мог чувствовать себя более или менее уверенным в своих силах. Да вот
беда: на одном из заседаний нашего ученого совета произошел инцидент, кото-
рый мог стать предвозвестником моей сокрушительной неудачи. В это время
на секторе меня выдвинули в старшие научные сотрудники, и это дело должно
было рассматриваться на ученом совете. Несколько выступавших высказались
“за”, но тут слово взяла Юлия Павловна Аверкиева. Юлия Павловна занимала
особое место среди звезд, составлявших научную элиту Института этнографии.
В 1930-х годах она до краев испила горькую чашу, много лет проведя в ме-
стах не столь отдаленных. Во время хрущевской оттепели вернулась в институт,
продолжала исследовать культуру и социальную организацию индейцев нутка
и тлинкитов, стала заведующей сектором народов Америки и главным редак-
тором журнала “Советская этнография”, с юношеским пылом отстаивавшим
чистоту марксистско-ленинского учения.
Ко мне Юлия Павловна относилась с большой теплотой, что, впрочем, не
помешало ей на этот раз дать мне несколько неожиданную характеристику:
“Михаил Васильевич - симпатичный юноша, но ведь он же не марксист!” Юлия
Павловна имела в виду тот факт, что в своих недавних работах я упоминал об
ошибках Энгельса, допущенных им в “Происхождении семьи”. Члены совета
вздрогнули, проголосовали “против”, и я остался, как и был, младшим науч-
ным. Но меня волновало не то, какую должность я буду занимать, а нечто гораз-
до более серьезное. Что будет, если и на моей защите Юлия Павловна прилюдно
повторит то, что она уже однажды сказала? К тому же первым оппонентом был
приглашен Дмитрий Алексеевич Ольдерогге, некогда высмеявший мою статью
о П.А. Лавровском. Что-то скажет он на этот раз?
Одним словом, на защите элениум принимать я не стал и поэтому из послед-
них сил делал вид, что спокоен, а на самом деле ощущал себя куском мяса, ко-
торый насадили на вертел и вот-вот положат на горящие угли. Но неисповеди-
мы пути Господни! Дмитрий Алексеевич начал свое выступление следующими
словами: “Не будучи китаистом, я в свое время писал о китайской системе род-
ства. И вот сейчас Михаил Васильевич своей диссертационной работой нагляд-
но показал, насколько я был тогда неправ”. Юлия Павловна слова не попросила.
Решение ученого совета было почти единогласным (при одном “против”). Что
до Дмитрия Алексеевича, то с тех пор в своих письмах он обращался ко мне не
иначе как “дорогой Михаил Васильевич”, и дарил мне свои книги “в знак глу-
бокого уважения”, выражая надежду на то, что я буду продолжать свои занятия
общетеоретическими проблемами истории систем родства народов мира.
Воодушевленный напутствием Дмитрия Алексеевича, я решил организо-
вать у нас в институте междисциплинарный семинар по системам терминов
родства и первым делом пригласил участвовать в нем известнейшего лингви-
72
Этнографическое обозрение № 5, 2023
ста, одного из основателей отечественной семиотики, владевшего несколькими
сотнями современных и мертвых языков, - Вячеслава Всеволодовича Иванова.
Участники семинара выступали с докладами, за которыми следовали интерес-
нейшие дискуссии. Однажды Вячеслав Всеволодович привел на семинар своего
ученика - аспиранта из Абхазии Владислава Ардзинба, писавшего диссерта-
цию по хеттскому языку. А спустя много лет его имя стало широко известно
не потому, что он защитил докторскую диссертацию, а в связи с политически-
ми событиями в Абхазии: объявлением ею независимости и провозглашением
Республики, первым президентом которой он был избран.
На просторах Тихого океана
Как-то раз в коридоре ко мне подошла ученый секретарь института: “Не
хотите ли Вы, Михаил Васильевич, принять участие в экспедиции на Новую
Гвинею?” Я не поверил своим ушам. Экспедиция по Тихому океану по следам
Миклухо-Маклая?! Попасть на Новую Гвинею, в деревню Бонгу?! Это звучало,
как сказка. Почти как приглашение завтра слетать на Луну. Оказывается, Прези-
диум АН пошел наконец навстречу настоятельным просьбам нашего директора,
и в состав экспедиции по Тихому океану на принадлежащем Институту океа-
нологии научно-исследовательском судне “Дмитрий Менделеев” было решено
включить этнографический отряд, дабы отметить двойной юбилей - 100-летие
с начала полевых исследований Миклухо-Маклая на Новой Гвинее и 125-летие
со дня его рождения. Меня утвердили в составе этнографического отряда, хотя
кое-кому из известнейших специалистов по Океании (например, “невыездному”
Владимиру Рафаиловичу Кабо) было отказано.
Мы погрузились во Владивостоке на борт белоснежного красавца “Дмитрия
Менделеева”. Запомнилась остановка в одном из самых маленьких государств
на Земле - Науру. Республика Науру не имеет аналогов на планете. Она распо-
ложена на острове, который можно часа за два обойти по периметру. Остров
этот - не из камня или кораллов, а из чистейших фосфоритов, выращивать на
которых овощи и фрукты можно только насыпав сверху хотя бы тонкий слой
земли. Жители Науру понемногу разрабатывают то, на чем живут, и получают
на этом баснословные прибыли. В Науру на рейде нас встречал не диспетчер
порта, как это бывает в нормальных странах, а лично министр иностранных
дел. Поднявшись на борт, он сообщил, что Президент Республики приветствует
посланцев мира и приглашает всех на государственный прием.
После приема нас отвезли в правительственные апартаменты, и мы окуну-
лись в ранее невиданную роскошь. Утром бой сообщил нам, что позавтракать
мы можем в ресторане на первом этаже. Озираясь по сторонам, мы оказались
в зале, где нам тут же подали меню с названиями разнообразнейших местных
и европейских блюд. Начальник этнографического отряда Даниил Давыдович
Тумаркин, заведовавший финансами, предупредил нас, чтобы мы заказывали
по минимуму, потому что бог его знает, сколько все это может стоить. То же
повторилось за обедом, потом за ужином и на следующий день. Постепенно по-
сещение ресторана превратилось в сущую муку: мы заказывали одно блюдо на
троих, а мгновенно покончив с ним, делали вид, что совсем не голодны. Когда
пребывание на острове подошло к концу, и Даниил Давыдович, затаив дыхание,
осведомился, сколько мы должны за питание, крайне удивленный этим вопро-
сом метрдотель ответил, что мы - гости Президента и платить, естественно,
ничего не должны.
“Дмитрий Менделеев” бросил якорь в бухте Константина на северо-восточной
оконечности Новой Гвинеи 9 июля 1971 г. Для любого этнографа, имеющего
Крюков М.В. Как хороши, как свежи были розы…
73
опыт полевой работы, это покажется кощунством, но в нашем распоряжении
были не годы и даже не месяцы, которые мы должны были провести на бе-
регу Маклая, а всего четыре дня. Что можно было сделать в деревне Бонгу за
столь короткий срок? Тем не менее мы заранее распределили между собой сфе-
ры деятельности. Д.Д. Тумаркин должен был осуществлять общее руководство
и изучать вопросы местного управления. Крупнейший советский специалист
по этнографии коренного населения Новой Гвинеи Н.А. Бутинов - вопросы
социальной организации и (совместно с Н.М. Гиренко) современную языко-
вую ситуацию в д. Бонгу. В.Н. Басилов - материальную культуру бонгуанцев.
И.М. Меликсетова - проблемы школьного образования. О.М. Павловский - ис-
следование физического типа папуасов. Б.Н. Путилов - их песенно-музыкаль-
ный фольклор. Я поставил своей задачей записать современную систему терми-
нов родства тамо бонгу с тем, чтобы попытаться реконструировать направления
ее эволюции на протяжении столетия, отделявшего нас от того дня, когда на
Новой Гвинее высадился тамо рус Маклай. Самый эрудированный из нас -
Н.А. Бутинов, используя труды Маклая и записки немецкого миссионера
А. Ханке, поселившегося в Бонгу в 1896 г. и позднее опубликовавшего грамма-
тику и словарь языка бонгу, составлял краткий самоучитель бонгуанского языка.
В своих записках А. Ханке упоминал термины родства, бытовавшие в языке
бонгу (напр., вау - дед, внук; акаи - бабка, внучка; мем - отец; ам - мать; нгай -
сестра отца; гай - брат матери; и др.), но один из них - ghabal - он оставил без
перевода, не приведя его конкретного значения. Беда в том, что А. Ханке не
был этнографом. Он настойчиво стремился найти в языке бонгу все те катего-
рии, которые свойственны классической латыни и, приводя значения туземных
терминов, пытался истолковать их с точки зрения привычной ему европейской
системы родства. За время пребывания в д. Бонгу мне удалось разрешить эту за-
гадку. Термин ghabal смутил А. Ханке тем, что он в одно и то же время обозна-
чал не только кровных родственников (сына брата матери и сына сестры отца),
но и свойственников (мужа сестры и брата жены). Поэтому, хотя в переводе
одной папуасской сказки он и отожествил ghabal с немецким Schwager (деверь,
шурин, свояк, зять), он тем не менее не был уверен в правильности этого пере-
вода. Немецкому миссионеру было невдомек, что этот термин действительно
мог возникнуть в условиях бытования двух родов, связанных между собой нор-
мами обязательного брака, и что совершенно аналогичный ему термин суще-
ствовал у древних китайцев в I тыс. до н.э.! (ghabal - это древнекитайский шэн).
Такой термин мог возникнуть только в условиях бытования дуально-родовой
организации.
Не менее плодотворным было наше краткое пребывание на о-ве Эроманга.
После отплытия с берега Маклая однажды на палубе “Дмитрия Менделеева” ко
мне подошел Армен Леонович Тахтаджян со словами “Будьте любезны, расска-
жите мне все, что Вы знаете, об этом острове!” Оказывается, знакомые пригла-
сили Армена Леоновича - известного ботаника - поработать на этом острове
в составе экспедиции Британского королевского общества, а он решил взять с
собой зоолога, геолога, корреспондента “Известий” Михаила Александровича
Ростарчука и меня.
На Эроманга я получил конкретные свидетельства того, что “малайская”
система терминов родства жителей этого острова вовсе не предшествовала
“ирокезской”, как полагали Морган и Энгельс, но, напротив, пришла ей на
смену. В 20-х годах прошлого века на Эроманга работал английский этнограф
К. Хэмфрис, записавший терминологию родства местных жителей, которая ха-
рактеризовалась так наз. ирокезскими чертами: дети брата отца и сестры мате-
ри отличались как от детей брата матери и сестры отца, так и от родных братьев
74
Этнографическое обозрение № 5, 2023
и сестер. Однако наш респондент “старый Уили”, бывший вождь, к которому
нас привели проводники, настаивал на том, что родственников всех трех кате-
горий называют одним и тем же термином авун, причем так же обращаются и
просто к друзьям-сверстникам. А это означало, что за несколько десятилетий в
языке эроманга произошел важный исторический сдвиг: “ирокезская” термино-
логия родства трансформировалась в “малайскую”, ту самую, которую Морган
и Энгельс считали наиболее древней.
На о-ве Эроманга были налицо проблемы депопуляции. Нам рассказывали,
что когда-то д. Хэппилэнд (это название ей дали англичане в 1941 г.) делилась
на две части, называвшиеся нимоовро; в каждой из них было по несколько се-
мейных хиин сильву. Впрочем, семейной такую хижину можно было назвать
лишь условно. В ней жила жена с детьми, а муж наведывался лишь изредка;
его постоянным местом жительства был мужской дом симанло. Хижины, на-
зываемые симанло, до сих пор сохранились в д. Хэппилэнд. Но если раньше в
симанло жили мужчины и неженатые юноши, а представительницам слабого
пола категорически запрещалось не только заходить в них, но даже и прибли-
жаться к ним, то теперь это было нечто вроде дома для приезжающих, эдакой
деревенской гостиницы. Так, другой наш проводник Луи жил в симанло рядом
с домом, который был отведен для нас с Михаилом Александровичем; коротать
время до рассвета ему помогала юная Эни. Приглушенные голоса, доносивши-
еся по ночам из глубины симанло, наводили меня на грустные размышления.
Как много, думал я, должно было измениться в жизни меланезийцев, прежде
чем симанло - святая святых мужского целомудрия - превратился в приста-
нище для влюбленных! Причина же этого коренилась в катастрофическом со-
кращении численности населения на Новых Гебридах вообще и на Эроманга
в частности. За неделю, проведенную в Хэппилэнде, нам удалось встретиться
лишь с несколькими ее обитателями (вождем д. Сэи, пастором, учителем, его
помощником Джэрри да хромым братом нашего проводника авуна Чарли - вот
и все взрослое мужское население деревни). Депопуляция нанесла сокруши-
тельный удар по традиционной социальной организации на Эроманга. Прежняя
структура этого небольшого мезанезийского общества оказалась неспособной к
нормальному функционированию. Именно катастрофическими последствиями
депопуляции, отсутствием условий для функционирования экзогамных форм
социальной организации объясняются и изменения в системе терминов родства
на Эроманга. Символом этих кардинальных сдвигов является авун в его новом
значении. На Эроманга складывается система родства малайского типа, отража-
ющая разрушение былых экзогамных запретов.
Только под конец нашего пребывания в Хэппилэнде мы узнали, что авун
Чарли - сын колдуна и сам колдун, а его узкая специализация - гром, молния
и прочие атмосферные явления. Таких людей, как авун Чарли, на Эроманга на-
зывают тавууа. Они от рождения обладают особой внутренней силой мана.
К. Хэмфрис в свое время писал, что все его попытки получить от тавууа инфор-
мацию о том, как они осуществляют свои магические практики, заканчивались
неудачей. Но нам посчастливилось записать рассказ Чарли на магнитофон. Для
успешного осуществления своей миссии магам необходимо точно помнить и
неукоснительно соблюдать последовательность всего технологического про-
цесса. Например, все может в последний момент сорваться из-за того, что маг,
проснувшись поутру, тут же справит малую нужду. Делать этого ни в коем слу-
чае нельзя. Вместо этого следует немедленно начать необходимые приготовле-
ния к священнодействию. В хижине тавууа всегда хранится волшебный камень
натамас эваи. Чтобы вызвать молнию, Чарли берет этот камень и втайне от всех
жителей деревни несет его в лес. Там он собирает листья с нескольких строго
Крюков М.В. Как хороши, как свежи были розы…
75
определенных деревьев и, произнеся заклинание, кладет их на камень, который
сразу же после этого оживает и начинает двигаться. Чарли внимательно сле-
дит за ним и, продолжая произносить заклинания, идет следом. Случается, что
натамас эваи подпрыгивает и иногда даже оказывается где-нибудь высоко на
дереве; своей внутренней силой маг должен заставить его вернуться на землю.
Если камень не подчиняется сразу, не следует терять времени даром, все равно
ни грома, ни молнии не будет, ибо этому препятствует нечто, находящееся вне
компетенции тавууа. Если же камень повиновался, Чарли берет его в руки и
произносит еще одно - самое главное - заклинание, после чего и достигает
желаемого… (Может быть, нам и не стоило столь настойчиво расспрашивать
авуна Чарли обо всем этом - считается, что посторонний, посвященный в се-
креты профессии мага, может заболеть и даже умереть, а подвергать нас такой
опасности Чарли все-таки не хотел!)
Мы отправляемся на Остров свободы
Вскоре после нашего возвращения с просторов Тихого океана мне дове-
лось дважды окунуться в вóды океана Атлантического. Прослышав, что я за-
нимаюсь системами родства, директор Института этнографии в Гаване Рафаэль
Лопес-Вальдес пригласил меня на Кубу, чтобы приобщить своих сотрудников к
этой важной проблематике. Мое имя и отчество казались для кубинцев трудно-
произносимыми, и в гаванском институте меня называли попросту - Parentesco
(“Системы родства”).
Во второй экспедиции на Кубу, кроме этнографического, принимал участие
антропологический отряд. Возглавлял его Валерий Алексеев, личность во мно-
гих отношениях неординарная. Он учился вместе со мной в Институте восто-
коведения на уйгурском отделении, но после окончания сразу же резко изменил
свои жизненные планы, начал специализироваться в области физической ан-
тропологии и скоро стал по этой части крупным специалистом. Мне, правда,
очень не нравилось в нем то, что, только-только оперившись, он стал пренебре-
жительно отзываться о своем учителе - выдающемся советском антропологе
Г.Ф. Дебеце. Но это, судя по всему, было всего лишь заблуждением юности: по-
том он написал о Георгии Францевиче весьма прочувствованные воспоминания.
На Кубе я обнаружил еще одну удивительную черту Валерия. Как только в
работе наступал краткий перерыв и мы усаживались где-нибудь на обочине до-
роги передохнуть, он вынимал записную книжку и начинал писать. “Что ты пи-
шешь?” - спросил его я. “Дописываю статью об антропогенезе европеоидов”.
“А как же сноски?” “Все сноски у меня в голове”. Мне вспомнился профессор
Плейшнер из “Семнадцати мгновений весны”, который тоже утверждал нечто
подобное.
У нас в гостях Тур Хейердал
А далее произошло важное событие: к нам в институт приехал знамени-
тый норвежский путешественник Тур Хейердал, которого называли “Колумбом
ХХ века”! Событие было тем более значимым, поскольку имело долгую и испол-
ненную драматизма предысторию. В 40-х годах прошлого века, изучая историю
первоначального заселения человеком тихоокеанских архипелагов, Хейердал
пришел к выводу, что оно происходило не только с запада, из Азии, как при-
нято было считать, но и с востока - с американского континента. В отличие от
тех исследователей, которые обдумывали научные аргументы в тиши кабинетов,
Хейердал решил представить общественности доказательства иного рода. В Перу
76
Этнографическое обозрение № 5, 2023
он построил плот, который назвал “Кон-Тики”, и вместе с пятью смельчаками от-
плыл на нем на восток. Через три с лишним месяца плот, преодолевший в океане
8 тыс. км, достиг атолла Рароива (архипелаг Туамоту). Cвою экспедицию, до-
казавшую, что благодаря течениям и направлению ветра можно на простейшем
плоту добраться от берегов Южной Америки до островов Полинезии, Хейер-
дал описал в книге “Путешествие на Кон-Тики”. Книга была переведена на 66
языков, в том числе и на русский, - это было сделано Львом Ждановым. Но в
научных кругах сочинение Хейердала не только не получило положительной
оценки, но, напротив, послужило основанием для ожесточенной критики ее ав-
тора. Н.А. Бутинов написал к книге резкое предисловие, назвав ее “ненаучной”
и более того - даже “фальсификаторской”. За Хейердала вступился переводчик
его книги Жданов. Он написал Н.А. Бутинову:
Уважаемый товарищ Бутинов! До сих пор наука предполагала заселение Полинезии
исключительно с запада. Не отрицая этой теории совершенно, Хейердал дополняет ее
своим предположением, что восточная часть Полинезии могла быть также заселена с
востока, причем иммиграцию с востока он склонен датировать более ранним периодом.
<…> Вы спорите о всей Полинезии, хотя речь идет лишь о восточной части. Вы обви-
няете Хейердала в отрицании иммиграции с запада, хотя он ее не отрицает, а предлагает
принять возможность иммиграции также с востока.
Вы резко полемизируете с Хейердалом по вопросу о загадочных строителях в Юж-
ной Америке, хотя Хейердал пока что не занимался вплотную этим вопросом и его вы-
сказывания по этому поводу носят характер очень туманных предположений.
Не следует создавать в предисловии впечатления, будто он создатель версии о “бе-
лых строителях”, она существует очень давно. Но главное - нельзя приписывать Хейер-
далу утверждений, которых у него нет, и потом оспаривать эти утверждения! Я имею в
виду Ваши слова о пристрастии его к викингам.
Всего хорошего. Л. Жданов
Бутинов ответил Жданову:
Уважаемый товарищ Жданов, я получил Ваше письмо, и мне стало ясно, что Ваши
замечания на мое предисловие вытекают из неправильных представлений о теории Хей-
ердала.
В Вашем понимании эта теория выглядит таким образом: Западная Полинезия за-
селена с запада, а Восточная Полинезия - также и с востока. Должен Вам сказать, что
такой теории у Хейердала нет. Это, собственно, не его, а Ваша теория, и она совершенно
не учитывает тот факт, что полинезийцы - это единый народ по языку и культуре. Вы
пишете: “Советские ученые оспаривают положения Хейердала”. Здесь надо добавить:
все ученые мира оспаривают эти положения, как совершенно абсурдные. Я не видел ни
одной положительной рецензии на его книгу “Американские индейцы в Тихом океане”,
все отрицательные.
С приветом Н. Бутинов.
Наш тогдашний директор Сергей Павлович Толстов поддержал “всех уче-
ных мира”, и лишь очень немногие осмелились не согласиться с ним. Среди
этих немногих был аспирант, ставший затем одним из ведущих специалистов
института, Генрих Анохин. Как вспоминал Генрих, на заседании ученого со-
вета Сергей Павлович со свойственной ему эмоциональностью заявил: “Пора
кончать с выскочками от науки! Я имею в виду Хейердала! Это недоучка! Само-
популяризатор! Фальсификатор! Расист, приписывающий достижения народов
викингам! Сотрудничал с фашистами!” Но никто не ожидал, что затем слово
возьмет аспирант: “Это недостойно советской науки, Академии наук СССР!
Хейердал не самопопуляризатор. Ибо тогда все подписывающие статьи и книги
своим именем - самопопуляризаторы, а не авторы. Хейердал не фальсифика-
тор. Ибо нет ни одного факта из источников, в искажении которого его можно
обвинить. Он не расист, ничего нигде викингам не приписывал. А о белокожих
Крюков М.В. Как хороши, как свежи были розы…
77
индейцах Южной Америки имеются источники. И первичное население Вос-
точной Полинезии, по Хейердалу, - не викинги, а индейцы Южной Америки,
хотя и белокожие. И он не сотрудничал с фашистами, даже не был нигде на
территории, оккупированной фашистами, а добровольцем вместе с советскими
войсками устанавливал новую администрацию в Северной Норвегии!”
А Хейердал писал Жданову:
Дорогой Жданов, пока мы переписывались о тетрадях с письменами ронго-ронго, най-
денных мною на острове Пасхи, случилась печальная вещь, как это видно из прилага-
емых вырезок из норвежских газет. Подвергается сомнению моя честность и добросо-
вестность, в печати пятнается мое имя исследователя. Вторая сторона дела заключается
в том, что у читателя создается впечатление, будто советская академия наук недоброже-
лательно относится ко мне; я же думаю и надеюсь, что все объясняется недостаточным
знакомством с моей работой. Если русские ученые интересуются моими исследовани-
ями на острове Пасхи, я охотно приеду в вашу страну, чтобы сделать доклад. Нужно,
чтобы советская академия наук официальным приглашением показала, что интересуется
моими работами в Тихом океане. Поскольку я понимаю, что Вы поддерживаете контакт
с учеными в этой области, даю Вам настоящим полномочия. Между 3 и 8 апреля я мог
бы в любой момент вылететь к вам.
Но когда президиум АН запросил на этот счет мнение Толстова, тот катего-
рически высказался против. С тех пор прошло много лет. В нашем институте
давно сменился директор. И вот наконец сбылась давняя мечта Генриха Ано-
хина: Тур Хейердал был приглашен посетить Советский Союз. К нам в Инсти-
тут этнографии Хейердал приехал в сопровождении еще одного своего друга -
Юрия Александровича Сенкевича, вместе с которым он совершил в 1970 г. пу-
тешествие на папирусной лодке “Ра”. Вернувшись из этой исторической экспе-
диции, военврач Сенкевич сменил жизненное амплуа и стал ведущим популяр-
ной телепрограммы “Клуб путешественников”.
После лекции, которую Хейердал прочел в нашем институте, к нам подошел
Сенкевич, слышавший, что этнографы побывали на Новой Гвинее и в других
уголках Тихого океана. Мы разговорились. «Михаил Васильевич! А не хотите
ли присоединиться к нам в “Клубе”?» К этому времени у меня был уже опыт
выступлений об увиденном в Океании. Я согласился. Так начался довольно про-
должительный период моей жизни, когда я стал “своим” на центральном теле-
видении. Это была увлекательная работа. Помимо “Клуба путешественников”
тогда было еще несколько весьма популярных программ. Одну из них - “Оче-
видное - невероятное” - вел Сергей Петрович Капица, известный физик, сын
еще более знаменитого родителя - лауреата Нобелевской премии Петра Леони-
довича Капицы. Меня он заинтриговал своей статьей, в которой доказывал, что,
в отличие от астрономического, историческое время имеет тенденцию к посто-
янному ускорению. Сергей Петрович иной раз заглядывал к нам в “Клуб” и
однажды даже предложил мне выступить “по совместительству” у него в “Оче-
видном - невероятном” c рассказом о календарях народов мира.
Без теории этноса нам как без воды:
ни туды и ни сюды
В середине 1960-х Сергей Павлович Толстов серьезно заболел и пошли слу-
хи, что кто-то другой заменит его на посту директора. В конце концов выяс-
нилось, что во главе института встанет еще довольно молодой ученый секре-
тарь отделения Юлиан Владимирович Бромлей. И вот он появился у нас, и все
с большим интересом стали гадать, с какими нововведениями нам предстоит
столкнуться.
78
Этнографическое обозрение № 5, 2023
На мой взгляд, Юлиан Владимирович выбрал единственно правильный
путь. Специалист по средневековой истории славянских стран, он мог бы сде-
лать сектор славяноведения ведущим подразделением института, и его вряд ли
кто-нибудь стал порицать за это. Но Бромлей сразу пошел ва-банк, заявив, что
Институт этнографии не может существовать, если в полном загоне находится
теория предмета исследований - этноса.
Термин “этнос” ввел в современную науку Н.М. Могилянский, давший в
1916 г. одно из первых его определений. Но заслуга его внедрения в научный
обиход, равно как создание общей “теории этноса”, принадлежит другому рос-
сийскому ученому - Сергею Михайловичу Широкогорову. Само собой разуме-
ется, что в СССР труды Широкогорова, считавшегося ярым антисоветчиком,
в том числе и его исследования в области теории этноса, были подвергнуты
остракизму, понятие “этнос” объявлено антинаучным, а по словам одного из
наиболее целеустремленных критиков буржуазных идей в общественных нау-
ках В.Б. Аптекаря, - даже “расистским”.
В результате всего этого во второй половине прошлого века в отечествен-
ной этнографии сложилась комическая ситуация: этнографы активно разраба-
тывали проблемы этногенеза, но запрещенный термин этнос в их лексиконе
отсутствовал - как если бы можно было говорить об арбузных семечках при
категорическом отрицании того факта, что в русском языке есть, помимо этого,
слово арбуз. Поэтому нашему новому директору нельзя было отказать в сме-
лости: не убоявшись обвинений в пропаганде идей, долгое время подвергав-
шихся нелицеприятной критике, он не только выступил инициатором борьбы за
“реабилитацию” широкогоровской теории этноса, но, засучив рукава и сплотив
вокруг себя большую группу единомышленников, заинтересовавшихся этим
начинанием, продолжил дело своего предшественника. Его путь не был усы-
пан розами. Первым, кто резко выступил против сформулированной Юлианом
Владимировичем теории этноса, был Л.Н. Гумилев. В противовес пониманию
этноса как социальной категории, Лев Николаевич толковал его как чисто био-
логическое явление, добавив к этому свой знаменитый тезис о роли “пассио-
нарности” в процессе этногенеза. Хорошо помню, как он говорил: «“Этнос и
этнография” Бромлея? Очень полезная книжица. Я даю ее своим студентам на
экзамене и предлагаю найти в тексте допущенные автором ошибки. Найдет че-
ловек 5 ошибок - получай “тройку”, 10 ошибок - вот тебе “четверка”. Должен
Вам сказать, батенька, что больше половины моих студентов - отличники». Не
знаю, о каких именно ошибках говорил Гумилев, но сам он очень не любил,
когда другие указывали на фактические неточности, допущенные им в его соб-
ственных трудах: “Вы - мелковеды. Для вас главное - факт или даже фактик.
А я - теоретик, и для меня гораздо важнее общий взгляд на вещи!”
У меня возникла идея: проследить закономерности формирования и транс-
формации этноса на примере китайцев, коль скоро имеющиеся источники позво-
ляют осуществить это на фоне беспрецедентно длительного периода времени -
нескольких тысячелетий. Я поделился своими соображениями с Ник-Ником,
и он полностью одобрил это начинание. Труд был задуман как междисципли-
нарное исследование, и в соответствии с этим был подобран авторский кол-
лектив: физическая антропология, естественно, была за Ник-Ником, я должен
был отвечать за интерпретацию археологического материала, Саша Решетов -
за письменные источники, а для освещения лингвистических проблем решили
пригласить нашего общего знакомого доктора филологических наук Михаила
Викторовича Софронова, который, не задумываясь, согласился.
Мы приступили к работе, но вскоре выяснилось, что первоначальный замы-
сел - изложить всю этническую историю китайцев в одном томе - нереален.
Крюков М.В. Как хороши, как свежи были розы…
79
Решено было подготовить два тома, посвятив первый проблеме этногенеза, а
второй - последующей этнической истории. Но и этим дело не ограничилось…
В итоге у нас получилось ни много ни мало шесть томов. Ленинградский про-
фессор Смолин назвал наш труд “Шестикнижием”.
Работа продвигалась, наталкиваясь порой на неожиданные подводные камни.
Произошел инцидент, в результате которого мы с Сашей Решетовым едва не ра-
зошлись, как в море корабли. Дело в том, что трое москвичей уже вчерне подго-
товили свои тексты и обсудили их на заседании сектора и только от Саши из Ле-
нинграда ничего не было, а на телефонные звонки он неизменно отвечал: “Скоро
пришлю!” В конце концов терпение у Ник-Ника лопнуло, и он сказал мне: “На
Сашу надежда плохая! Берите-ка себе его часть и пишите!” Узнав об этом, Саша
был не на шутку разгневан: “Вы там в Москве все сами за всех решаете, а потом
еще предъявляете другим претензии!” Благодаря усилиям Ник-Ника конфликт
был несколько приглушен, но на переплете вышедшего из печати тома “Древние
китайцы: проблемы этногенеза” фигурировали только три автора.
У каждого, кто обращается к проблеме происхождения того или иного эт-
носа, невольно возникает вопрос: сложился ли этнос на той самой территории,
которую населяет в настоящее время, или же сформировался где-то в другом
месте и проник на свою нынешнюю территорию позднее. Для ряда европей-
ских исследователей XIX-XX вв. тезис о переселении древних китайцев (либо
их предков) с запада был непреложной истиной: для одних потому, что, по их
мнению, все народы на Земле произошли от трех сыновей Ноя, для других в
силу того, что к истории человечества они подходили с ортодоксальных евро-
поцентристских позиций.
На позициях априорного диффузионизма стоял советский китаист Леонид
Сергеевич Васильев. Он подчеркивал “поразительное сходство” в орнамен-
тации керамики культур баньшань и мяодигоу, с одной стороны, и триполья
и анау - с другой. В то же время он утверждал, что в Ганьсу (в частности,
в Вацзяпине) обнаружен “протояншаоско-мацзяяоский слой”, который со вре-
менем дает начало двум культурам - мацзяяо и яншао, что было равнозначно
утверждению: локализованная в бассейне Хуанхэ культура яншао обязана своим
происхождением диффузии крашеной керамики с Ближнего Востока. Подобная
концепция вполне отвечала духу времени: даже известный археолог академик
Алексей Павлович Окладников, раньше считавший, что керамические триподы
появились в Сибири из Китая, теперь не в последнюю очередь по политическим
соображениям изменил свою первоначальную точку зрения на прямо противо-
положную. Но против концепции Васильева говорили неопровержимые фак-
ты, которые он вообще не учитывал, в том числе радиокарбонные датировки,
свидетельствовавшие, что ранний вариант культуры яншао на добрых полторы
тысячелетия старше культуры мацзяяо! Неолитические миграции в западной
половине Среднекитайской равнины действительно имели место, но, во-пер-
вых, они носили локальный характер, а во-вторых, были направлены не с запа-
да на восток, а с востока на запад. Юлиан Владимирович одобрил мою полеми-
ку с Васильевым: мол, проявил характер, нашел в себе силы пойти наперекор
господствующей тенденции. А Гри-Гри на всякий случай поставил еще одну
палочку в перечне моих научных прегрешений.
Изучая древнейшие письменные памятники Китая, мы установили прин-
ципиально важный факт, являвшийся исходной точкой исследования этногене-
за китайцев: в этих источникax вплоть до определенного времени нет ника-
ких следов этнических различий среди населения Среднекитайской равнины.
Различия существовали и осознавались, но носили они совершенно иной харак-
тер, ничего общего не имевший с этничностью.
80
Этнографическое обозрение № 5, 2023
Иньцы полагали, что их “Великий город Шан” - это центр Поднебесной.
Его окружали “земли” - территории, населенные подчиненными иньскому пра-
вителю родoплеменными коллективами. Ван заботился о том, получат ли они
в этом году урожай, а те, в свою очередь, присылали ему дань, регулярно явля-
лись ко двору и следовали за ним в его походах на враждебные племена, жив-
шие за пределами “земель”. Подобные представления ни в коей мере не были
специфичны исключительно для иньцев. Главное заключалось в том, что гра-
ница между “землями” и враждебными племенами была в высшей степени ус-
ловной. Аналогичная картина предстает перед нами и в раннечжоуское время.
Однако несколько столетий спустя ситуация принципиально меняется: впервые
появляется представление о том, что грань между “нами” и “ними” принци-
пиальна и неизменна, вне зависимости от того, как складываются сиюминут-
ные взаимоотношения между этими общностями. Как следствие такого про-
тивопоставления в VII-VI вв. до н.э. в древнем Китае возникает антитеза “ся”
(или “хуася” - “варвары четырех стран света”). Это было свидетельством важ-
ного сдвига в процессе этногенеза древних китайцев: формирование их этниче-
ской общности завершилось.
Опять-таки в этом можно было наблюдать полную аналогию с древнейшей
Грецией: Фукидид обратил внимание на то, что Гомер “нигде не обозначает
всех эллинов, в их совокупности, таким именем”, “точно также Гомер не упо-
требляет и имени варваров, потому, мне кажется, что сами эллины не обосо-
бились еще под одним именем, противоположным названию варваров”. Автор
трактата “Ли цзи” утверждал, что “варвары” отличаются от “нас” особенно-
стями своей культуры, языком и психическим складом. Отечественные этно-
графы, обратившиеся к изучению этногенетических проблем, были согласны с
ним лишь отчасти; полного единства во взглядах среди них не было. По мере
более углубленного изучения этой тематики выяснилось, что некоторые осо-
бенности этноса должны, строго говоря, рассматриваться не как этнические
признаки, а как условия возникновения этнических общностей, т.е. этнообра-
зующие факторы.
Какие же черты следует считать собственно этническими признаками? Не-
которые авторы рассматривали язык как условие формирования этнической
общности, другие считали его не только этнообразующим фактором, но и эт-
ническим признаком. Многочисленные факты говорят о том, что этническая
общность может складываться из компонентов, зачастую разноязычных. Но,
по-видимому, неправы те ученые, которые считают этническим признаком
общность территории. Единая территория - необходимое условие сложения
новой этнической общности, но после того, как этнос сложился, общность тер-
ритории сплошь и рядом нарушается. Принципиально важный вывод, к кото-
рому пришли исследователи теории этноса, заключается в том, что этнические
признаки характеризуются определенной иерархичностью, таксономической
неравноценностью. Если раньше общность территории, общность языка, куль-
туры и т.д. рассматривались обычно как лежащие в одной плоскости, то теперь
стало ясно, что они в своей совокупности представляют собой сложную струк-
туру, включающую различные уровни.
Так, подчеркивая специфику положения этнического самосознания среди
всех прочих признаков этноса, Н.Н. Чебоксаров писал:
Взаимодействие этих признаков, их суммарное влияние на образование и сохранение
этнической общности выражаются в виде вторичного явления - этнического самосозна-
ния, которое в конечном счете оказывается решающим для определения принадлежно-
сти отдельной личности или целых человеческих коллективов к той или иной этниче-
ской общности.
Крюков М.В. Как хороши, как свежи были розы…
81
Замечу в скобках, что одним из первых советских ученых, обратившихся
к исследованию этнического (“национального”) самосознания, был известный
филолог и культуролог Д.С. Лихачев, еще в 1946 г. посвятивший этой пробле-
ме специальную монографию. Но и в начале 1970-х, когда Бромлей начинал
свои исследования этноса, находились ученые, напрочь отрицавшие значение
самосознания как признака этноса (среди таковых, в частности, был Нурамбек
Джальгиндин).
Именно в процессе анализа признаков этноса вдруг обнаружилось одно из
немногих моих расхождений с Юлианом Владимировичем. Я пришел к выводу,
что важным этническим признаком является эндогамия - предпочтительное за-
ключение браков внутри этноса (хотя этническая эндогамия и не является столь
строгим правилом, как родовая экзогамия, наглядным примером чему является
мое собственное семейное положение). Но Бромлей категорически отказывал-
ся признавать эндогамию признаком этноса, по-видимому, стремясь устранить
любые сомнения в том, что этнос не является биологической категорией. По по-
воду наших споров об эндогамии этноса он написал на подаренной мне книге:
“Дорогому Михаилу Васильевичу с пожеланиями, чтобы расхождения между
нами в нюансах не заслоняли единства в главном - в понимании сущности эт-
носа и основных задач этнографии”.
Что является конечной точкой процесса формирования этноса? Когда-то
на этот вопрос отечественные ученые, занимавшиеся проблемами этногенеза,
не могли дать четкого ответа. Известный специалист по этнографии народов
Сибири Людмила Васильевна Хомич писала: “На каком-то этапе, продолжаю-
щемся во времени, на базе различных этнических компонентов появляются все
основные признаки этнической общности - складываются язык, самоназвание
и самосознание, территория формирования, основные черты хозяйства и куль-
туры, свойственные данной этнической общности”.
Но практически применить сформулированный выше критерий оказывается
чрезвычайно трудно, если не невозможно. Иначе обстоит дело, если мы исхо-
дим из постулата об иерархичности этнических признаков, которая сама по себе
отражает закономерность причинно-следственных отношений между таковыми
и хронологическую последовательность их возникновения. Соответственно,
процесс этногенеза включает следующие этапы: при наличии определенных
внешних условий складывается совокупность этнообразующих факторов, под
влиянием которых начинает формироваться этническая общность; в процессе
складывания этнической общности постепенно и отнюдь не одновременно по-
являются признаки, отличающие ее от других ей подобных; наконец, наступает
момент, когда эти объективные признаки находят отражение в коллективном
сознании членов формирующей общности. Именно появление отчетливого эт-
нического самосознания, внешним проявлением которого является общее са-
моназвание, и может считаться свидетельством того, что процесс этногенеза
завершился.
Для суждений о сущностной трансформации китайского этноса первосте-
пенное значение имеет анализ его самоназваний. В период наивысшей кон-
солидации общности древних китайцев, в III в. до н.э. - III в. н.э., одним из
основных самоназваний древнекитайского этноса было наименование единого
государства. События, последовавшие за падением династии Хань, в значитель-
ной мере поколебали уверенность древних китайцев в том, что этот традици-
онный автостереотип соответствует действительности. Среднекитайская рав-
нина - колыбель древнекитайской цивилизации - была захвачена северными
кочевниками, а центр этнической территории китайцев сместился на юг. Чув-
ствительным ударом по представлению о том, что китайцы обитают в центре
82
Этнографическое обозрение № 5, 2023
Поднебесной и потому превосходят все другие народы, было распространение
буддизма - “истинного учения”, возникшего за пределами Китая.
Переоценка ценностей была настолько кардинальной, что даже после вос-
становления единства империи прежнее этническое самоназвание так и не
возродилось. На смену ему пришли новые этнонимы. Они, однако, были затем
вытеснены одним, ставшим единственным - хань. Это самоназвание этимо-
логически восходит к наименованию древнекитайской династии, а начало его
употребления в этническом смысле относится к V-VI вв. Соответственно, ког-
да речь шла о китайском языке, современники стали употреблять выражение
“язык хань”.
Пройдя через плавильный котел интенсивного взаимодействия разнород-
ных компонентов, китайский этнос вышел из него обновленным и качественно
трансформировавшимся. Сдвиг в главном этническом признаке - самосознании
народа, внешним проявлением которого является самоназвание, соответствовал
очередной “критической точке” этнической истории - формированию общно-
сти современных китайцев.
Во Введении к последнему шестому тому нашей серии я предупредил чи-
тателя о том, чего он не найдет в этой книге. Со школьной скамьи мы твердо
усвоили тезис, согласно которому народы мира - “исторические общности лю-
дей”, как принято было раньше говорить - прошли в своем развитии три ста-
дии, которым соответствуют три типа этих общностей: племя, народность, на-
ция. Это положение, основывающееся на мимоходом произнесенной Сталиным
фразе, находилось в явном противоречии с более ранним его утверждением о
том, что нация представляет собой “историческую общность”, тогда как племя
является общностью “этнографической”. Так или иначе, с начала 1950-х годов
триада “племя-народность-нация” настолько прочно вошла в наш научный
обиход, что превратилась в своего рода аксиому. Когда цитирование произведе-
ний четвертого классика марксизма вышло из моды, указанную триаду постиг-
ла судьба некоторых других подобных построений. Имя Сталина исчезло со
страниц исторических исследований, но идеи его продолжали витать в воздухе.
Стали утверждать, что мысль о формировании наций в эпоху поднимающегося
капитализма принадлежит Ленину, хотя Ленин в своих сочинениях использовал
термин “нация” применительно также к народам, еще не достигшим капита-
листического уровня (он, например, писал: “Мы требуем свободы отделения
для монголов, египтян и всех без исключения угнетенных и неполноправных
наций”).
В 70-х годах прошлого века наряду с апелляцией к ленинскому авторитету
советские ученые предприняли попытки задним числом вложить конкретное со-
держание в крайне расплывчатые и лишенные категориальной определенности
понятия “племя”, “народность”, “нация”. В частности, Сергей Александрович
Арутюнов выдвинул гипотезу, согласно которой этнические общности на раз-
ных этапах своего развития обнаруживают различный уровень цементирующих
их информационных связей. По его мнению, в истории человечества было два
периода, когда инфосвязи резко интенсифицировались: первый - эпоха возник-
новения письменности, соответствующая появлению древнейших государств;
второй - распространение в новое время грамотности в более или менее широ-
ких массах населения, зарождение прессы и общенационального литературного
языка. Этим двум порогам соответствует существование трех типов этнических
общностей: “племен” - в дописьменную эпоху, “народностей” - вплоть до появ-
ления газет, “наций” - начиная с этого момента и до настоящего времени.
Мы с Сережей вместе учились в Московском институте востоковедения, я -
на китайском, он - на японском отделении. Он окончил институт на год рань-
Крюков М.В. Как хороши, как свежи были розы…
83
ше меня. Я всегда отдавал должное его эрудиции. Но со сформулированной им
теорией инфосвязей я тем не менее решительно не мог согласиться и, полагая,
что она представляет собой вливание нового вина в старые мехи, написал по
этому поводу критическую статью, которую опубликовал в журнале “Советская
этнография”. Мои возражения сводились к следующему. Прежде всего, мы пока
вообще не располагаем надежным инструментом для измерения уровня инфос-
вязей, и поэтому наши суждения на сей счет являются в значительной степени
субъективными. Таковым является утверждение, что индикатором формирова-
ния “наций” является распространение “хотя бы начатков грамотности в более
или менее широких массах населения”. Но каковы должны быть масштабы это-
го явления?
Находки новгородских берестяных грамот доказали, что, по словам круп-
нейшего специалиста в этой области А.В. Арциховского, в XI-XIV вв. в Нов-
городе “было множество грамотных людей”. Значит ли это, что превращение
русской “народности” в русскую “нацию” мы должны датировать именно этим
временем? Еще один вопрос на засыпку. В пограничных крепостях на терри-
тории современного Синьцзяна был обнаружен архив китайских документов
II-I вв. до н.э., в котором помимо официальной корреспонденции содержится
большое количество частных писем. Достаточно ли их для того, чтобы утвер-
ждать, что в ханьском Китае начатки грамотности были уже распространены
в более или менее широких массах населения страны? Далее, вряд ли умест-
но в угоду сталинской триаде настаивать именно на двух скачках в процес-
се повышения уровня инфосвязей, делая вид, что нам ничего не известно о
масштабах и последствиях научно-технической революции, произошедшей
в середине ХХ в. и выразившейся в лавинообразном увеличении общего
объема доступной широким массам информации, в применении все более
совершенных компьютеров, видеозаписи, ксероксов, фотонаборной типо-
графской техники, спутниковых средств связи (сегодня мы можем добавить
к этому еще и фантастические возможности “5G”!). Означает ли это, что мы
является свидетелями формирования какого-то нового, отличного от “нации”
типа этнических общностей? Именно исходя из этих соображений в нашем
исследовании ничего не говорилось о превращении китайской “народности”
в китайскую “нацию”.
В храме Мельпомены
Теоретическим проблемам мы посвящали бóльшую часть своего времени с
понедельника до субботы, но по воскресеньям наши мысли были заняты дру-
гим. Все сотрудники института в этот день выходили подметать улицы. И еще
одно: жизнь Института этнографии тех лет невозможно было бы представить
не только без воскресных трудовых упражнений, но и без ее неотторжимого
аспекта, каким были полюбившиеся институтской публике капустники.
Сценарии постановок писала сотрудник нашего сектора индолог Наталья
Романовна Гусева - человек огромного таланта и безудержного остроумия.
А режиссировал другой самородок - институтский фотограф Георгий Ахилле-
сович Аргиропуло, когда-то подвизавшийся в Театре юного зрителя. Георгий
Ахиллесович и Наталья Романовна были душой наших капустников. Зрители
начинали собираться в институтском актовом зале задолго до начала представ-
ления, чтобы захватить себе места получше. К тому моменту, когда звучал тре-
тий звонок, уже негде было яблоку упасть. Спектаклей было множество, но
мне особенно запомнился один: “Вот уж мне эти матримонии!” В соответствии
с профилем нашего института он был посвящен серьезной научной теме -
84
Этнографическое обозрение № 5, 2023
истории семьи и брака, которая, однако, как нетрудно догадаться, была пред-
ставлена на театральных подмостках в варианте, несколько отличавшемся от
канонического моргано-энгельсовского.
Этот был мой бенефис. Я играл трех персонажей. В первом акте - первобыт-
ного человека, которому удалось без лишних разговоров умыкнуть зазевавшу-
юся соплеменницу (Наташу Жуковскую). Во втором акте я был рыцарем, тщет-
но пытающимся увлечь даму своего сердца (Зою Александровну Листвинову),
которая явно предпочитала другого (им был Сережа Арутюнов) и оценила до-
стоинства рыцаря лишь после того, как он в схватке со своим соперником ли-
шился одного уха. А в третьем акте я играл Фридриха Шиллера, который упал
в обморок при виде оказавшейся в цивилизованном обществе бабы из Костенок
(эту роль блестяще сыграла Роза Джарылгасинова).
Золото скифов, очень много золота
В начале 1980-х годов у председателя Японской ассоциации культурных
связей с зарубежными странами Мацумаэ возникла идея пойти навстречу поже-
ланиям широкой общественности и организовать выставку “Шелковый путь”,
по которому, как считали жители Страны восходящего солнца, их предки при-
шли на острова. Мацумаэ обратился в Президиум АН СССР с соответствующей
просьбой, которая встретила там полное одобрение. Президиум отдал распоря-
жение директору нашего института, а академик Бромлей назначил меня руко-
водителем этого хлопотного, но чрезвычайно интересного дела и поручил мне
обдумать и представить ему общую концепцию будущей выставки.
Моя концепция в общих чертах заключалась в следующем. Первоначально
под Шелковым путем понималась караванная дорога, пролегавшая через оази-
сы Восточного Туркестана и Средней Азии. Но существовал еще один маршрут
культурных контактов Запада и Востока - евразийский степной коридор, где
хозяевами были кочевники. Их подвижный образ жизни сам по себе предопре-
делял их историческую роль передатчиков культурных достижений на большие
расстояния. Мне в голову пришла мысль продемонстрировать японской ауди-
тории прежде всего именно этот кочевой Шелковый путь, о котором она имела
лишь весьма смутное представление.
Юлиан Владимирович одобрил эту идею, и я начал подбирать себе команду,
которая помогла бы мне наполнить концепцию конкретным материалом. Пер-
вым, о ком я подумал, был, разумеется, Севьян Израилевич Вайнштейн. Он был
гораздо старше меня, но мы с ним как-то сразу почувствовали взаимное распо-
ложение, и до конца своих дней он заявлял во всеуслышанье: “Мишенька - мой
лучший друг”. Он был тюркологом, я - китаистом, и в результате совмещения
этих ипостасей у нас с ним то и дело появлялись совместные статьи. Больше
всего мне дорого эссе о происхождении седла и стремени, хотя писали мы и на
другие темы. Вообще работы Севьяна по культуре кочевников Евразии счита-
лись образцовыми. В Париже, Лондоне и Тайбэе мне доводилось слышать весь-
ма лестные отзывы о них. Поэтому неудивительно, что Севьян стал одним из
организаторов наших выставок, и мы вместе с ним возили их сначала в Японию,
а затем в Финляндию. Планировали мы продолжить начатые им раскопки древ-
неуйгурской крепости в урочище Пор-Бажин в Туве, но дело все время по раз-
ным причинам откладывалось и в конце концов так и не осуществилось.
Владимир Николаевич Басилов был одним из первых, с кем я познакомился,
только-только поступив в Институт этнографии. Мы вместе сдавали кандидат-
ские экзамены, а после защиты постоянно общались. Володя был специалистом
по этнографии народов Средней Азии, прежде всего их верований, но прекрас-
Крюков М.В. Как хороши, как свежи были розы…
85
но разбирался и в вопросах материальной культуры. С этой точки зрения он мог
бы внести существенный вклад в организацию нашей выставки. Восстанавли-
вая в памяти японскую эпопею, я убеждаюсь, что ее успех в немалой степени
был обеспечен именно Володиным участием.
Удобнее всего было начинать с расположенного в Ленинграде нашего соб-
ственного музея, который по привычке мы называли Кунсткамерой. Для более
успешной работы нужно было заручиться поддержкой заведующего Ленин-
градской частью ИЭ АН Рудольфа Фердинандовича Итса, или Рудика, как его
запанибрата называли сотрудники. К счастью, у меня с Рудиком были прекрас-
ные отношения. Когда я объяснил ему суть дела, он сделал удивленные глаза:
“О чем ты говоришь, Миша? Иди и отбирай все, что тебе нужно!”
Гораздо сложнее было договориться с Эрмитажем. Государственный Эрми-
таж - один из лучших музеев мира, и получить согласие на экспонирование
за рубежом хранящихся там сокровищ было ох как нелегко. С самого начала
этому открыто воспротивился заместитель директора Виталий Александрович
Суслов. Но гораздо более лояльно отнесся к нашим просьбам сам директор -
Борис Борисович Пиотровский. Будучи археологом с мировым именем (для на-
уки его трудами было, в частности, открыто древнее царство Урарту), он был
убежден, что извлеченным на свет божий артефактам не место в музейных за-
пасниках, что их миссия - быть увиденными людьми. Поэтому он сразу пошел
нам навстречу и заявил своему заместителю: “Помогите коллегам отобрать экс-
понаты для их японской выставки!”
Не менее ценные экспонаты хранились в киевских музеях. Вне конкуренции
была, конечно, золотая пектораль, обнаруженная в 1971 г. при раскопках курга-
на “Толстая могила” в Днепропетровской области. Многочисленные реалисти-
ческие изображения на этом украшении делают его подлинной энциклопедией
жизни древних скифов.
О самом главном эпизоде, связанном с советской выставкой в Японии, я
всегда рассказываю с дрожью в голосе. Наступил момент, когда перечень экс-
понируемых предметов был утвержден, сами экспонаты доставлены в Москву,
а Выставочный комитет АН СССР во главе с А.П. Капицей дал свое “добро”.
Но тут выяснилось, что страховка древних золотых украшений стоит прямо-та-
ки фантастических денег. Японская сторона задумалась, а потом задала вопрос:
“А нельзя ли изготовить качественные копии этих вещей, чтобы выставить их
вместо подлинников?”
В одной из академических лабораторий специально для нас сделали такие
копии, практически неотличимые от оригиналов. Мы вылетели в Токио, где че-
рез неделю должно было состояться торжественное открытие выставки. И тут -
как гром среди чистого неба! - произошло нечто совершенно непредвиденное.
Руководители фирмы “Тобу”, давнего конкурента наших спонсоров, неизвестно
каким образом пронюхали, что на выставке будет экспонироваться не подлин-
ное золото скифов, а не представляющие какой-либо ценности копии. Деятели
из “Тобу” прямо спросили об этом японских организаторов, которые по своим
профессиональным соображениям не решились сказать одну только правду, ни-
чего кроме правды. Судьба выставка повисла на волоске.
Поздно вечером ко мне пришел глава Оргкомитета и без обиняков предло-
жил: “Крюков-сан, мы раздобудем денег на страховку. А Вы срочно вылетайте
в Москву и, умоляю Вас, не возвращайтесь без подлинников!” Я вернулся в
Москву, и мне не без труда удалось заново собрать все требуемое золото. Я по-
ложил его в чемодан, радостно отправился в аэропорт и представил в таможню
список вывозимых предметов:
86
Этнографическое обозрение № 5, 2023
- Позвольте, но несколько дней тому назад Вы уже вывезли в Японию все эти экспо-
наты! - строго произнес таможенный чиновник.
- Понимаете, это не совсем так! Мы вывезли копии золотых украшений, а теперь я
везу туда подлинники.
- Но в представленных Вами документах не было сказано, что вывозятся копии!
У меня на лбу выступил холодный пот. Мы действительно не стали тог-
да переоформлять таможенные документы, посчитав, что если нам разреши-
ли вывезти золото, то уж поменять его на суррогат заведомо не возбраняется.
И вот теперь отсутствие в наших действиях преступного умысла нужно было
еще доказать! Чувствуя, что мне самому не найти выхода из этого положения, я
обратился за помощью к директору института. Юлиан Владимирович позвонил
своему знакомому в ЦК, а знакомый, в свою очередь, - начальнику Главного та-
моженного управления. У меня отлегло от сердца. Теперь нужно получить под-
пись этого начальника, и проблема будет решена. Захватив с собой тяжеленный
чемодан, который в нарушение всех правил лежал все это время у меня под кро-
ватью, я отправился на таможенный Олимп. Но начальник был вызван куда-то
в еще более высокую инстанцию, и его пришлось долго и томительно ждать.
Я смотрел на часы - до отлета оставалось четыре часа, три, два часа сорок пять
минут… Наконец появился начальник, сразу же поставил свою подпись, и я
помчался в аэропорт в сопровождении милицейских машин с мигалками.
И тут выяснилось, что в этот день генерал Ярузельский объявил в Польше
чрезвычайное положение, и в связи с этим все рейсы в Шереметьево-2 были
отложены на неопределенное время. Теперь я стал подсчитывать, сколько часов
осталось до объявленного открытия выставки…
Наш самолет наконец взлетел, потом приземлился в Токио. Наутро состо-
ялось торжественное открытие выставки “Кочевые народы Евразии”. Когда
председатель Оргкомитета увидел среди присутствующих человека из “Тобу”,
он подошел к нему и с присущей японцам вежливостью сказал: “Вы утвер-
ждали, что мы выставляем копии. Можете присылать к нам своих экспертов.
На наших выставках мы всегда экспонируем только подлинные предметы!” Кон-
куренты были посрамлены, а советская выставка прошла с огромным успехом.
“Наша этнографическая наука нуждается в перестройке…”
Перестройку я встретил преисполненным надежд на то, что многое в нашей
стране и в нашей науке изменится. Если этнограф не хочет провести всю свою
жизнь в башне из слоновой кости, он должен быть в состоянии отвечать на
насущные вопросы общественной жизни, в чем, собственно, и заключается его
предназначение. Но на деле это отнюдь не всегда было так.
Необходимой предпосылкой успешного решения национального вопроса в
стране является, в частности, ответ на вопрос: “Какие народы проживают на ее
территории и сколько их в общей сложности?” Получить недвусмысленный от-
вет на этот вопрос нужно было хотя бы еще и потому, что начиная с 1931 г. в па-
спорте каждого советского человека была “пятая графа”, свидетельствовавшая
о его национальной принадлежности. Но этот элементарный вопрос продолжал
оставаться совершенно неясным.
Не менее серьезную проблему представлял собой другой факт: когда речь
заходила о народах Советского Союза, как правило, не делалось различия меж-
ду эндоэтнонимами, т.е. этническими самоназваниями, и экзоэтнонимами -
наименованиями, присвоенными тому или иному народу его соседями. Между
тем это совершенно разные вещи. Самоназвание народа - непосредственное
и зримое отражение его самосознания, и появление эндоэтнонима - надежное
Крюков М.В. Как хороши, как свежи были розы…
87
свидетельство того, что процесс формирования этого народа завершен. А на-
звание, данное со стороны, вообще не только ничего не отражает, но зачастую
приводит к смешению разных народов.
Эта тема отнюдь не была новой. Еще в первой половине XVIII в. выдающий-
ся “птенец гнезда Петрова” В.Н. Татищев включил в первый том своей “Исто-
рии Российской” специальную главу “Причины разности званий народов”.
В ней он (вероятно, впервые в мировой науке) ставил вопрос о важности са-
моназваний народов и подчеркивал, что факты смешения самоназваний и на-
званий со стороны “давно немалое смятение в истории и географии нанесли”.
В “Лексиконе российском” при изложении этнографического материала по от-
дельным народам он тщательно прослеживал случаи несовпадения эндо- и эк-
зоэтнонимов (напр.: “вогу личи, сами зовутся манчи”).
Когда я высказал эту мысль в дискуссии на данную тему, развернувшейся
на страницах ежегодника “Расы и народы”, мне возразил Сергей Александро-
вич Арутюнов: мол, название со стороны при определенных условиях может
превратиться в самоназвание и потому “с порога отметать экзоэтноним было
бы неверно, вначале надо выяснить, известен ли он группам, на которые он
распространяется, и как к нему относятся эти группы”. В этом, безусловно, был
свой резон. В любом научном исследовании отметать что бы то ни было вообще
целесообразно не “с порога”, а по здравому размышлению. Но в данном случае
нам было хорошо известно, что, как о том писал И.С. Гурвич, в советское время
некоторые народы стали протестовать против названий, утвердившихся для них
у соседей, настаивая на самоназваниях. По мнению Сергея Александровича,
совпадение эндоэтнонимов может еще ни о чем не говорить - «ведь нет же
никакой специфической близости между словенцами и словаками, а ведь само-
название словаков - “словены”».
Данное высказывание, с моей точки зрения, грешило излишней прямоли-
нейностью, поскольку нет серьезных оснований предполагать, что у родствен-
ных по своему происхождению народов совпадающие между собой самоназва-
ния могли возникнуть конвергентно. В этом вопросе я был склонен полагаться
на выводы известного специалиста по народам Сибири В.А. Туголукова отно-
сительно эвенов и эвенков, обычно рассматриваемых у нас как два самосто-
ятельных народа. Владилен Александрович писал: “Где бы они ни жили, они
всюду называют себя почти одинаково (эвенки, эвены) и не отделяют себя друг
от друга”. Наблюдения В.А. Туголукова еще раз подтверждали, что, хотя такой
список в те годы не был составлен (эта работа в полном объеме не выполнена и
сейчас), он абсолютно необходим для решения вопроса о том, сколько и каких
народов проживает на территории нашей страны. Практически же все было как
раз наоборот. Существовал утвержденный “наверху” список народов, в котором
самоназвания были перемешаны с названиями со стороны, и когда во время
переписи населения опрашиваемому задавали вопрос: “А какой Вы, товарищ,
национальности?” - и тот называл этноним, которого не было в списке, ему
советовали еще раз хорошо подумать.
Только этим можно было объяснить те противоречия, которые содержались
в критических замечаниях в мой адрес. Соломон Ильич Брук признал факт
отдельных неточностей при определении национального состава страны, но
утверждал, что “особых оснований для недоверия к материалам переписи быть
не должно”, хотя ясно, что не будь неточностей, не было бы и недоверия. Кроме
того, Соломон Ильич иронически заметил, что “исследователь обязан пользо-
ваться всеми имеющимися материалами, а не только опубликованными в обоб-
щенном виде”. Это было хорошо сказано, но - увы! - абсолютно невыполнимо,
потому что в те годы архивные статистические данные для этнографов были
88
Этнографическое обозрение № 5, 2023
закрыты. Это была болевая точка этнографических исследований, настоятельно
требовавшая преодоления. Поэтому я вместе с несколькими коллегами пред-
принял отчаянную акцию - опубликовал в прессе открытое письмо в Прези-
диум АН СССР с просьбой способствовать решению этой проблемы: открыть
для исследователей недоступные материалы архивов. Не знаю, из-за этого об-
ращения или же по какой-то иной неизвестной мне причине, но к моей радо-
сти, как любил говаривать Михаил Сергеевич Горбачев, “процесс пошел”, хотя,
к сожалению, и с большим скрипом.
Тем временем дискуссии в Институте этнографии продолжались. Теперь
на еще одну злободневную научную тему. Еще в 1957 г. Н.Н. Чебоксаров и
М.Г. Левин сформулировали тезис о том, что термин “этническая общность”
шире понятия “народ”, поскольку им можно назвать как группу народов, близ-
ких по языку и культуре, так и часть народа, имеющую известное языковое
и культурное своеобразие. В начале 1980-х эту точку зрения уже можно было
считать общепринятой. Споры вызывал другой вопрос: на основании каких
критериев можно отличить народ (этнос) от этнографической группы (субэт-
носа)? Многие специалисты настаивали на том, что главным критерием тако-
го рода являются данные лингвистики: язык = этнос, диалект = субэтнос. Так,
С.И. Брук утверждал в своем справочнике “Население мира”, что “лингви-
стическая группировка является тем самым и этнической классификацией”.
Но этому явно противоречил тот факт, что лингвисты насчитывают в мире до
2,5 тыс. языков, тогда как общее число народов на земном шаре обычно счита-
ется равным примерно 1 тыс.
Другие исследователи полагали, что главным критерием, позволяющим
отличить этнос от субэтноса, является этническое самосознание, внешним
признаком которого является самоназвание. Однако именно в этой сфере мы
сталкиваемся с примерами этнографического волюнтаризма, проявляющегося
в том, что названия народов изобретаются исследователями. Одним из самых
поразительных примеров подобного рода было введение в научный оборот ис-
кусственно созданного этнонима “энцы” для обозначения двух самостоятель-
ных этнических групп, фигурировавших ранее в русской литературе под на-
званием хантайских и карасинских самоедов и имевших самоназвания “маду”
и “пэбай”. Именно поэтому в статье “Этнос и субэтнос”, начавшей дискуссию
на эту тему, я высказал свое убеждение, что определение уровней этнической
иерархии следует начинать с “инвентаризации” этнических самоназваний.
Еще одним существенным признаком этнического подразделения базового
уровня являлась, с моей точки зрения, эндогамия. Устанавливая локализацию
основных эндогамных барьеров, мы тем самым получаем дополнительные ре-
зоны для отнесения отдельно взятой этнической общности к тому или иному
таксономическому уровню.
Мы отправляемся на плато Тэйнгуен
Как раз в то время, когда на страницах ежегодника “Расы и народы” раз-
горелась дискуссия по вышеупомянутым проблемам, мне предоставилась пре-
красная возможность проверить адекватность своих теоретических выкладок
в этнографическом поле: мои бывшие аспиранты Фан Суан Бьен и Фам Куанг
Хоан предложили мне принять участие в экспедиции к горным мон-кхмерам
Южного Вьетнама. По сложившейся традиции, между членами отряда суще-
ствовало разделение труда. Тоня Дементьева-Лескинен - наш единственный
этнограф-вьетнамист - должна была заниматься материальной культурой и,
в частности, проблемой “длинных домов” у горных мон-кхмеров. Владимир
Крюков М.В. Как хороши, как свежи были розы…
89
Николаевич Шинкарев - все свое внимание сосредоточил на теме, которую он
сам обозначил как “Кварц, кровь, одержимость” (речь шла о традиционных ре-
лигиозных верованиях мон-кхмеров). Я же, как уже было сказано, постарался
прояснить проблему “этнос - субэтнос” на примере этнического состава наро-
дов Южного Вьетнама.
В Ламдонге мы начали наши исследования с группы с самоназванием
“тринг”. Причем началось все с комического эпизода. Интервьюируя очередно-
го информанта, я задавал вопросы, требуя четкого ответа “да” или “нет”, а Бьен
переводил их. Но почему-то, вместо ответа по существу, информант повторял
одну и ту же фразу: “Не беспокойтесь, выпивку уже готовят!” И только через
некоторое время выяснилось, что слово niet означает в местном языке церемо-
нию винопития, и хозяин дома, услышав из моих уст многократно повторенное
“нет”, решил, что мне не терпится выпить. Этим мы и занялись, когда ответы на
все вопросы были получены.
Согласно общепринятой точке зрения, южновьетнамские провинции Лам-
донг, Сонгбэ и Даклак являются этнической территорией четырех мон-кх-
мерских народов - ма, кохо, стиенг и мнонг, причем три последних включают
многочисленные субэтнические подразделения. Этноним “кохо” - чамского про-
исхождения; он означает “горцев”, проживающих к западу от чамов. “Мнонг” -
слово из языка кхмеров с тем же значением. В составе кохо из Ламдонга есть
группа, известная под названием “тил”, но в Даклаке “тил” считаются мнон-
гами. Казалось, что на плато Тэйнгуен наблюдается картина, уже знакомая по
этнической ситуации у нас в Сибири. Но на поверку оказалось, что она гораздо
сложнее. Помимо тринг, этнографическими группами народа кохо считаются
тил, лать, ноп, гар и срэ. Но на вопрос, кохо ли они, все они решительно отри-
цали это. Типичный ответ: “Мы слышали о кохо, но они, по слухам, живут где-
то далеко от нас”. Все шесть групп соблюдают эндогамию. Прямых запретов
на браки за пределами группы у них нет, но тил предпочитает уехать в другую
деревню, чтобы жениться на тил, а не взять себе в жены соседку лать.
И еще одно - совершенно неожиданное для меня. У тринг, тил, лать, ноп и
срэ существуют и функционируют мпол (вариант произношения пул) - экзогам-
ные группы кровных родственников по материнской линии, каждая из которых
имеет свое наименование, т.е. не что иное, как матрилинейный род. В отличие
от этнической эндогамии, экзогамия мпола абсолютна и не допускает исключе-
ний из правила. По местным поверьям, нарушение экзогамии вызывает ответ-
ную реакцию природы в виде грома и молнии или даже землетрясения. Но са-
мое интересное заключается в том, что одни и те же мполы объединяют людей
из разных “подразделений кохо”. Так, мпол бон-кронг есть у гар, тил и рлам,
роонг - у гар, тил, рлам и лать, пангтьенг - у гар, тил, рлам и лать, бонгдонг -
у тил и лать и т.д.
Таким образом, если субэтносы одного этноса можно образно представить в
виде кисти винограда (каждая ягода сама по себе, но все вместе на одной ветке),
то тринг, тил, лать, ноп, гар и срэ подобны шашлыку, нанизанному на несколько
шампуров одновременно (роль последних выполняют мполы). Подобная этни-
ческая ситуация не свойственна исключительно горным мон-кхмерам Вьетнама
(нечто похожее было в начале 1950-х годов зафиксировано Э. Личем у качин
Бирмы); в отличие от привычной для нас этничности ее можно обозначить тер-
мином “этническая непрерывность”. Результаты исследований на плато Тэйн-
гуен я изложил в докладах, представленных на советско-индийском симпозиу-
ме в Ленинграде и франко-советском в Париже.
Когда позже я размышлял над понятием “этническая непрерывность”, меня
вдруг осенило: я наконец понял, почему этническая общность древних ки-
90
Этнографическое обозрение № 5, 2023
тайцев сложилась именно в VII в., а, например, не двумя столетиями раньше.
Социальное и этническое - явления разнопорядковые, однако первое оказывает
воздействие на формы проявления второго. Если в данном обществе родовая
организация уже разложилась, в нем не может сформироваться этническая не-
прерывность. В других случаях социальная организация становится этностаг-
нирующим фактором, препятствующим появлению этничности.
Именно такая ситуация возникает в том случае, если в обществе функцио-
нирует ранговая система, подобная той, которая существовала в древнем Китае
эпохи Западного Чжоу или в Полинезии начала XIX в. Различия между соци-
альными рангами проявлялись, в частности, в сфере материальной культуры - в
том, какую одежду носил человек, в каком доме он жил, чем он питался и т.д.
Нарушения этой традиции до поры до времени были невозможны. А это озна-
чает, что в ранговом обществе нет почвы для формирования единого для всех
его членов комплекса черт материальной культуры - необходимого условия ге-
незиса этнической общности. Только после того, как система социальных ран-
гов начинает деградировать, а затем вообще становится достоянием прошлого,
возникают предпосылки этногенетического процесса.
К нам едут гости из Англии
Во второй половине 1980-х годов к нам то и дело наведывались западные
ученые. Бывало такое и раньше. Но если тогда они приезжали, чтобы рассказать
о результатах своих научных изысканий, то теперь их прежде всего интересова-
ло, чтó происходило в годы перестройки в советской науке.
Началось все с визита в Москву Тамары Драгадзе. Тамара - потомок ста-
ринного грузинского рода. Еще в детстве она оказалась за границей, жила в
Марокко, Испании, Италии, затем обосновалась в Англии, где стала извест-
ным социальным антропологом и директором Центра по изучению Кавказа и
Средней Азии. Заинтересовавшись моими статьями, посвященными пробле-
мам перестройки советской этнографической науки, Тамара предложила мне
публиковать работы на эту тему в журнале Ethnic and Racial Studies и пригласила
меня в Лондон. Но случилось так, что аналогичное приглашение я вскоре полу-
чил от другого английского социолога - Эрнста Геллнера, также приехавшего в
Москву, чтобы поближе познакомиться с новыми веяниями в советских гуманитар-
ных науках. Разница была лишь в том, что Геллнер приглашал меня не в Лондон,
а в Кембридж, где он заведовал кафедрой. Отказываться от приглашений не было
никакого резона, тем более что до этого бывать в Англии мне не доводилось.
Вскоре после моего возвращения из Англии ко мне подошел Иосиф Рому-
альдович Григулевич. Григ, как у нас его называли, несомненно был одним из
самых ярких личностей в нашем институте. Он появился как-то внезапно и
вскоре стал заведовать сектором критики зарубежной науки. У него была за-
поминающаяся внешность, он умел зажигательно говорить и блестяще владел
пером. В свою бытность председателем институтского месткома мне однаж-
ды довелось знакомиться со списком сотрудников, не выполнивших годовой
производственный план. С удивлением я обнаружил в нем фамилию Грига, и
мне - хочешь не хочешь - пришлось выяснять у него причины неожиданного
срыва. Иосиф Ромуальдович посмотрел на меня этак снисходительно-ласково,
как боец с седою головой смотрит на еще не нюхавшего пороху новобранца.
“Не будьте формалистом, Михаил Васильевич! - произнес он. - Вы же сами,
наверное, знаете, что вдохновение иной раз вдруг исчезает куда-то. Но не вол-
нуйтесь, бог Вас сохрани! Через неделю-другую оно вернется! И все будет в
порядке. Согласитесь: что такое неделя по сравнению с вечностью?”
Крюков М.В. Как хороши, как свежи были розы…
91
Логика Грига била наповал, и я вычеркнул его фамилию из черного списка.
О том, кем был Иосиф Ромуальдович до начала своей научной карьеры, мы
узнали много позднее, уже после его кончины. Узнали - и вздрогнули. Как из-
вестно, тезка Грига допустил в свое время досадную ошибку, ограничившись
высылкой своего злейшего врага Троцкого за границу. Оплошность надо было
исправлять, и на лидера троцкистов было совершено подряд два покушения.
Первое было неудачным. Очередь из автомата изрешетила окна его квартиры в
Мехико-сити, но за несколько минут до этого Троцкий, вдруг почувствовав не-
доброе, вместе с женой залез под кровать, и оба остались живы. Григ был одним
из тех, кому было поручено это ответственное задание.
Лет через 15 после этого он волею судеб стал чрезвычайным и полномоч-
ным послом Коста-Рики (да, да - не СССР, а Коста-Рики!) в Ватикане, а за-
тем в Югославии. На этот раз он должен был встретиться с предателем Тито и
сделать так, чтобы тот сразу перестал дышать и двигаться. Рассказывают, что
подготовка к акции уже была завершена, когда Сталин неожиданно скончался,
и задание было отменено.
Сейчас биографы Грига разбились на два лагеря. Одни слегка критикуют
его и даже называют террористом, другие настаивают на том, что он до конца
своих дней оставался стойким борцом за революционную идею. Не считаю себя
вправе участвовать в этом споре. Могу сказать только, что приставать к “Миге-
лю” (так некогда называли Грига его товарищи по ремеслу) и требовать отчета о
каких-то там двух недописанных авторских листах текста с моей стороны было
попросту глупо.
В один из дней Григ вызвал меня в коридор и объяснил цель своего визита.
Оказывается, он решил подавать на членкора и почему-то счел, что его шан-
сы на избрание возрастут, если мы будем баллотироваться в одной упряжке.
Я в то время и не помышлял о членкорстве, памятуя, что корифеи нашей науки
Сергей Александрович Токарев и Ник-Ник ни академиками, ни членкорами не
были. Узнав о том, что мне сказал Григ, секретарь отдела Зоя Александровна
была категорична: “Миша, непременно подавай!” Поразмыслив и отдавая себе
отчет в том, что вся эта муторная процедура не потребует от меня никаких уси-
лий, я согласился на предложение Грига, хотя и предвидел, что шансов на успех
практически нет. Это подтвердил Валерий Павлович Алексеев, который, при-
гласив нас с супругой к себе в гости, по-дружески сообщил мне: “Голосовать
за тебя, Мишенька, я не могу: кандидатуры членкоров там (он поднял вверх
указательный палец) уже согласованы!” Как я и предполагал, нас с Григом на
выборах, разумеется, прокатили.
Но ведь бывают же на свете такие совпадения! Буквально через несколько
дней после этого я получил из Лондона диплом, подтверждающий, что я избран
членом Европейской академии (Academia Europaea). А затем, как из рога изо-
билия, посыпались другие награды, которые я, по моему глубокому убеждению,
вовсе не заслужил: свидетельство об избрании меня Почетным членом Британ-
ского Королевского антропологического института; медаль “За научные дости-
жения в ХХ веке”, присуждаемая Международным биографическим центром
в Кембридже; диплом “Человек года”, выданный Американским биографиче-
ским институтом; уведомление о том, что моя биография включена в издание
“500 лидеров научного мира” и прочее и прочее.
Я переживаю душевный надлом
Что ни говори, было приятно держать в руках эти свидетельства междуна-
родного признания. Но чувство удовлетворения не могло заслонить те нрав-
92
Этнографическое обозрение № 5, 2023
ственные муки, которые я переживал в это время. Страдания молодого Вертера
в сравнении с ними показались бы игрой в бирюльки.
Незадолго перед этим мои усилия добиться реабилитации Михаила Георги-
евича Попова - моего дяди Миши, расстрелянного в 1930 г. по ложному обви-
нению, увенчались успехом, и я получил из Центральной военной прокурату-
ры соответствующее уведомление. Это было радостное событие не только для
меня, но в первую очередь для моей двоюродной сестры Наташи, уже утратив-
шей надежду на то, что справедливость в отношении ее отца будет когда-нибудь
восстановлена. Но вместе с тем мне не давала покоя другая мысль. Убийство
ни в чем не повинного человека - тяжкое преступление. Если партия - это не
просто стадо баранов, которых по указке вождя гонят то в одну, то в другую
сторону, то она должна была взять на себя вину за деяния своего лидера и как
минимум попросить прощения у рядовых советских людей. Канцлер Брандт
нашел в себе мужество, встав на колени, извиниться за преступления, совер-
шенные гитлеровцами. А наша компартия, значит, на это оказалась неспособна?
Было над чем задуматься.
Наступила перестройка. Ну уж теперь все подобные гримасы нашей систе-
мы наверняка будут устранены! И в самом деле, началась эпоха гласности, и мы
ночи напролет просиживали у телевизоров, следя за дискуссиями на заседаниях
Съезда народных депутатов и за тем, как академик Сахаров спорил с Горбачевым.
Но странное дело: в самой партии, объявившей себя инициатором перестройки,
ничего не изменилось, и ее рядовые члены, как и прежде, оставались в полном не-
ведении по поводу того, как на высшем уровне принимаются партийные решения.
Обеспокоенные этим, я и еще несколько человек написали письмо в ЦК с
вопросом, когда же и в КПСС начнется перестройка. Ответа на письмо не было
ни через месяц, ни через два. А тут как раз на Новой площади было назначено
заседание, на котором нас, лекторов Всесоюзного общества “Знание”, должны
были инструктировать о содержании наших публичных лекций по текущему
моменту. Инструктировал нас заведующий Идеологическим отделом ЦК Вадим
Андреевич Медведев. Закончив свою речь, он произнес: “А теперь, товарищи,
если есть какие-нибудь вопросы, задавайте их, не стесняйтесь, вместе разбе-
ремся!” Я взял слово, поднялся на трибуну и спросил, почему ЦК не ответил на
наше письмо. Своим строгим взглядом Медведев смерил меня с ног до головы:
“Как фамилия? Из какого института?” Я назвался и услышал в ответ: “А ну-ка
сядьте на свое место, не вводите аудиторию в заблуждение и не пытайтесь бро-
сить тень на деятельность Центрального Комитета нашей партии. Мы отвечаем
на письма с мест в течение недели!” Мне многое стало ясно.
А последней каплей стал репортаж о штурме Рижского телецентра в январе
1991 г. и искаженное от боли лицо пожилой женщины, которую прикладом ав-
томата бил молодой спецназовец. На очередном партсобрании я положил на
стол президиума свой партбилет, пояснив, что не могу нести ответственность
за политические акции, возможности предварительно обсуждать которые я ли-
шен. После собрания ко мне подошел Абрам Исакович Першиц (в свое время
он вместе с Юлией Павловной Аверкиевой был в нашем институте главным
борцом за чистоту марксистско-ленинского учения): “В этом зале, Михаил
Васильевич, немало тех, кто думает так же, как Вы. Но не каждый отважится
сказать об этом вслух!”
Снова в Китай
После 25-летнего перерыва мне снова довелось побывать в Китае. В то вре-
мя там происходили серьезные события. Внезапная смерть генсека Ху Яобана,
Крюков М.В. Как хороши, как свежи были розы…
93
начавшего пересмотр результатов “культурной революции” и смещенного за
это по указке Дэн Сяопина, уже ушедшего в отставку со всех партийных постов
и подобно вдовствующей императрице Цы Си управлявшего страной “из-за за-
навески”, всколыхнула столичное студенчество, и массовые демонстрации пе-
реросли в грандиозную сидячую забастовку на главной площади Тяньаньмэнь.
Как раз в этот момент в Пекине проходил визит Горбачева. Когда его спро-
сили, чему полезному он научился за время пребывания в китайской столице,
он ответил: “Как же, как же! Вот, например, устраивать свои дела через чер-
ный ход!” Он имел в виду, что во Всекитайское собрание народных предста-
вителей ему удалось попасть лишь через служебный вход на тыльной стороне
здания… Партия приняла меры. По распоряжению Дэн Сяопина студенческое
выступление было объявлено “контрреволюционным мятежом”. Перед ворота-
ми Тяньаньмэнь появились танки, на которые сверху взирал Великий Кормчий.
Затем они проутюжили площадь, давя гусеницами все живое. Собравшиеся
на прилежащих улицах было арестованы. Командующий Пекинским военным
округом, отказавшийся стрелять в безоружную толпу, был предан суду Военно-
го трибунала, а только что назначенный новый генсек Чжао Цзыян, выступав-
ший за диалог со студентами, отправлен под домашний арест.
Я прилетел в Пекин через несколько дней после того, как Народно-
освободительная армия Китая одержала блестящую победу, штурмом овла-
дев столицей и нанеся безоружным контрреволюционным мятежникам со-
крушительное поражение. Кровь на брусчатке уже была смыта, но на стенах
близлежащих домов по-прежнему виднелись царапины от пуль, а асфальт на
улицах в центре города был испещрен следами гусениц. Хотя эта боевая опе-
рация и не вошла в официальную летопись судьбоносных свершений Народно-
освободительной армии, она тем не менее достигла основной стратегической
цели: удержать сограждан от соблазнов “буржуазной либерализации”.
Во время той памятной поездки в Китай мне довелось осуществить одну
свою заветную мечту: поработать в китайском “этнографическом поле” - побы-
вать у малых народов Юго-Запада страны. Не менее поучительным было зна-
комство с учеными, усилиями которых в свое время формировалась китайская
этнологическая школа. Оценивая пройденный ею путь, невольно поражаешься
неспособности людей извлекать уроки из чужого опыта. В определенном смыс-
ле китайские этнографы повторили фатальные заблуждения, свойственные
нашей отечественной науке. Искреннее желание большинства советских этно-
графов овладеть марксистской методологией обернулось на грани 1920-1930-х
годов массовым избиением ученых старшего поколения и привело к разрыву
исследовательской традиции. Сходный процесс китайская наука пережила в
1950-х годах, когда за действительные или мнимые ошибки пострадали масти-
тые ученые.
Достаточно вспомнить Фэй Сяотуна - ученика Широкогорова и Малинов-
ского, автора монографии, признанной в свое время образцовым произведе-
нием современной этнологии, ученого, лишенного после создания КНР права
заниматься делом всей своей жизни. Однажды мой знакомый спросил меня, не
хотел ли бы я познакомиться с профессором Фэем. Это было просто удивитель-
но - ведь как раз перед этим мой сын (он в тот раз вместе со мной приехал в
Пекин в научную командировку) перевел книгу Фэй Сяотуна, а я написал к ней
предисловие.
История этой книги была драматична и поучительна. Фэй Сяотун окончил
курс Университета Цинхуа и собирался поехать в Лондон для продолжения об-
разования, но Широкогоров посоветовал ему предварительно побывать у ма-
лых народов Южного Китая, чтобы собрать материал для будущей докторской
94
Этнографическое обозрение № 5, 2023
диссертации. Фэй Сяотун прислушался к мнению учителя и вместе со своей
молодой женой Ван Тунхуй отправился в провинцию Гуанси, где на горе Даяо-
шань жили ранее не изучавшиеся этнографами яо. Супруги расположились в
одной из деревень и начали обследование местного населения. Перемещаться
из деревни в деревню приходилось только пешком по горным дорогам. Они не
знали, что в этих местах существовал своеобразный способ охоты на тигров: на
тропинке в горах рыли глубокую яму, замаскированную ветками, оказавшийся
наверху тигр проваливался вниз и становился добычей охотников. Но на этот
раз в яму провалился Фэй Сяотун и при этом сломал себе ногу. Все попытки
выбраться из ловушки оказались тщетными, и Ван Тунхуй поспешила в дерев-
ню за помощью. Прошел день, затем второй. Помощь не приходила. Заподозрив
недоброе, Фэй Сяотун, превозмогая адскую боль, выкарабкался из ямы и ко-
е-как добрался до деревни. Но там ему сказали, что его супруга туда не прихо-
дила. Через несколько дней ее труп был найден под ближайшим обрывом. Фэй
Сяотун нашел в себе силы обработать полевые дневники Ван Тунхуй и издать
их в виде монографии, но несчастье так подействовало на него, что он зарекся
никогда больше этнографией не заниматься. Чтобы восстановить физические
и нравственные силы, он поехал на родину, где жила его сестра. Знакомство с
традиционным укладом жизни земляков заставило Фэй Сяотуна изменить свое
решение. Результатом этого явилась рукопись “Сельская жизнь в Китае”, кото-
рую он показал в Лондоне Малиновскому и удостоился исключительно высокой
оценки: его книга была сочтена “новой страницей в истории китайской науки”.
Я сказал мэтру, что мне хотелось бы продолжить начатые им исследова-
ния в Даяошань. Насколько можно было судить по монографии Ван Тунхуй, та-
мошние яо были представлены несколькими локальными группами, и это была
прекрасная возможность еще раз проверить на практике мои теоретические
выкладки на тему “этнос - субэтнос”. Фэй Сяотун одобрил этот план, преду-
предив: “Но только имейте в виду: там Вам надо быть предельно осторожным!”
В Наньнине я познакомился с известным этнографом Сюй Цзе-шунем, и
мне удалось заинтересовать его перспективой “пройти по следам Фэй Сяоту-
на”. Он взял на себя организационную сторону дела. Согласно официальной
статистике, в Даяошань проживают пять подразделений яо: I - ю мьен (пань
яо); II - кимдимун (шаньцзы яо); III - аобяо (ао яо); IV - кьоннай (хуалань яо);
V - лаккья (чашань яо). Первое, что бросилось нам в глаза, это различия в по-
вседневной одежде всех пяти групп, особенно у женщин. Не менее значитель-
ны различия в языке. Согласно официальной лингвистической классификации,
юмьен, кимдимун и аобяо говорят на диалектах, относящихся к группе языков
яо, кьоннай - на языке группы мяо, лаккья - на языке группы кам-суй.
В полном соответствии с этими различиями находится этническое самосо-
знание пяти “подразделений народа яо”. В их языке нет этнонима, который ох-
ватывал бы все пять групп. Поэтому наш информатор-лаккья утверждал, что
китайская фраза “Он - яо, и вы - тоже яо” на его родном языке может звучать
только как “Лак тук лаккья, ма тук хуай тук лаккья”. Юмьен убеждены, что все
прочие люди по отношению к ним самим - это “чужаки” (гань), причем таковы-
ми являются не только собственно китайцы, но и лаккья.
Наши исследования в горах Даяошань не оставили ни малейшего сомне-
ния в том, что “подразделения народа яо” отнюдь не являются субэтносами, а
представляют собой самостоятельные этносы. Это ставило под сомнение до-
стоверность результатов проведенной в 1950-х годах работы по определению
этнического состава населения КНР. Цифра “56 народов”, якобы проживающих
в Китае, не соответствует действительности так же, как и “100 наций и народ-
ностей” СССР!
Крюков М.В. Как хороши, как свежи были розы…
95
А у нас вскоре вслед за этим грянул ГКЧП. Моя супруга была не на шутку
перепугана: “Ты представляешь, что они могут сделать с тобой из-за этого тво-
его фортеля с партийным билетом!” Но члены ГКЧП угодили за решетку, а в
отношении меня никаких оргвыводов не последовало. Более того, в институте
я был назначен на ответственную должность - главного редактора нашего ин-
ститутского журнала. В сложившейся обстановке продолжать издавать “Совет-
скую этнографию” я счел абсолютно неприемлемым и предложил переимено-
вать журнал, возродив доброе старое “Этнографическое обозрение”, бывшее в
конце XIX в. официальным органом Этнографического отдела Императорского
Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Соответ-
ственно предполагалось существенно изменить и содержание нашего журнала,
приблизив его к требованиям момента. Все это я подробно изложил в обраще-
нии к читателю, которое было предпослано первому номеру “Этнографическо-
го обозрения” за 1992 г. Когда я писал строки этого обращения, я и помыслить
не мог, что после безвременной кончины Юлиана Владимировича Бромлея его
преемник на посту директора въедет в институт на белом коне и упразднит
понятие “этнос”. Неправда ли, неплохой сюжет для Аркадия Райкина: руко-
водитель научной мысли отрицает объективное существование предмета той
“логии”, которая фигурирует в наименовании возглавлявшегося им института!
R e s e a r c h A r t i c l e
Kryukov, M.V. How Lovely, How Fresh Were the Roses… [Kak khoroshi,
kak svezhi byli rozy…]. Etnograficheskoe obozrenie, 2023, no. 5, pp. 63-95.
© Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and Anthropology RAS
Mikhail Kryukov | 32liukefu@163.com | Academia Europaea; Royal Anthropological
Society of Great Britain and Ireland (Moscow, Russia; Beijing, China)
Keywords
history of ethnography, Institute of Ethnography, USSR Academy of Sciences,
Ancient China, kinship systems, theories of Morgan and Engels, fieldwork
Abstract
The author - doctor of historical sciences, an honorary member of Academia
Europaea and the Royal Anthropological Society of Great Britain and Ireland -
shares his autobiographical recollections about the life and career in Soviet/Russian
anthropological academia, research and fieldwork, colleagues and friends, work for
the journal “Sovetskaia etnografiia” (currently, “Etnograficheskoe obozrenie”), as
well as the vicissitudes of academic life at the Institute of Ethnography (currently,
the Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences).