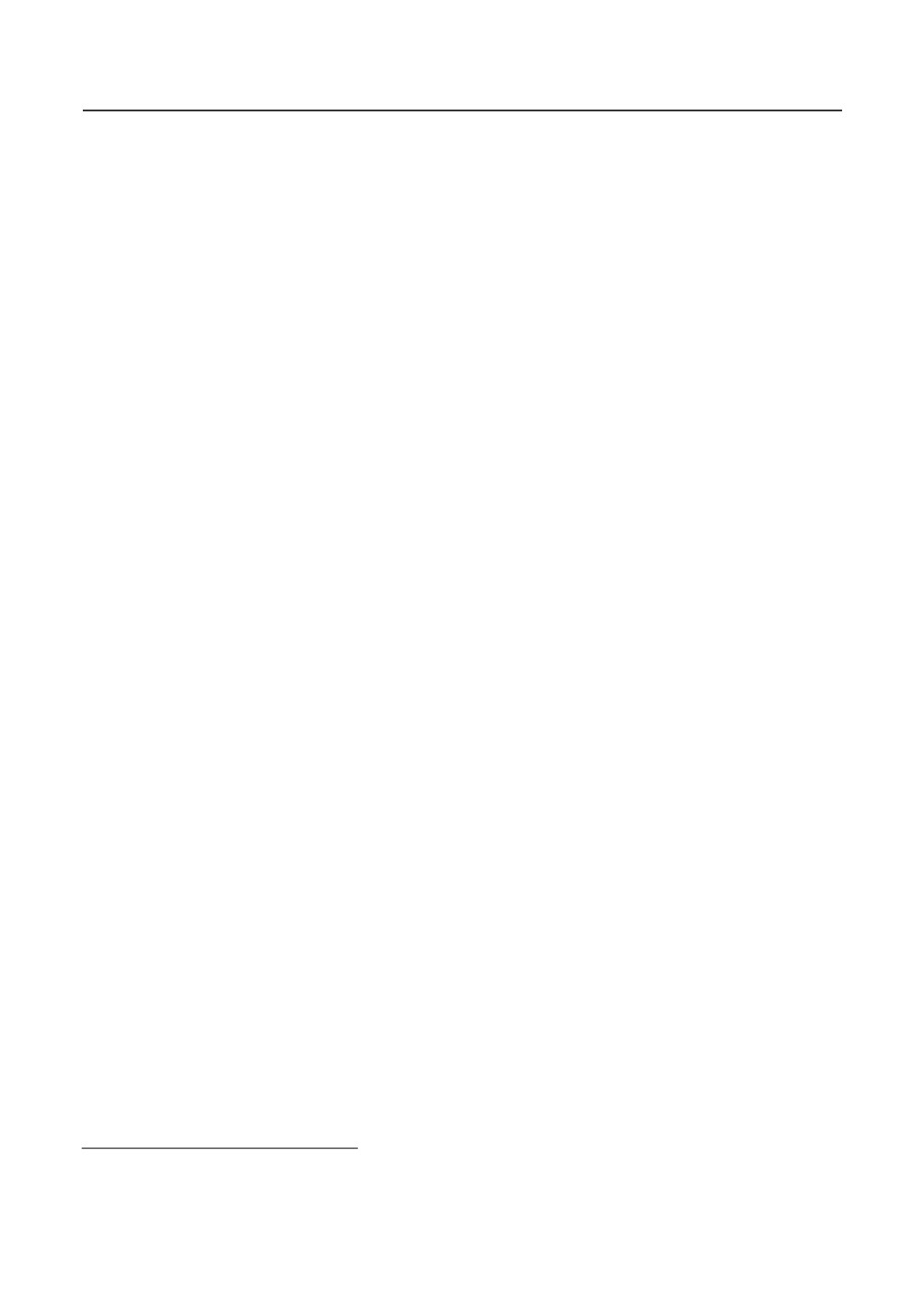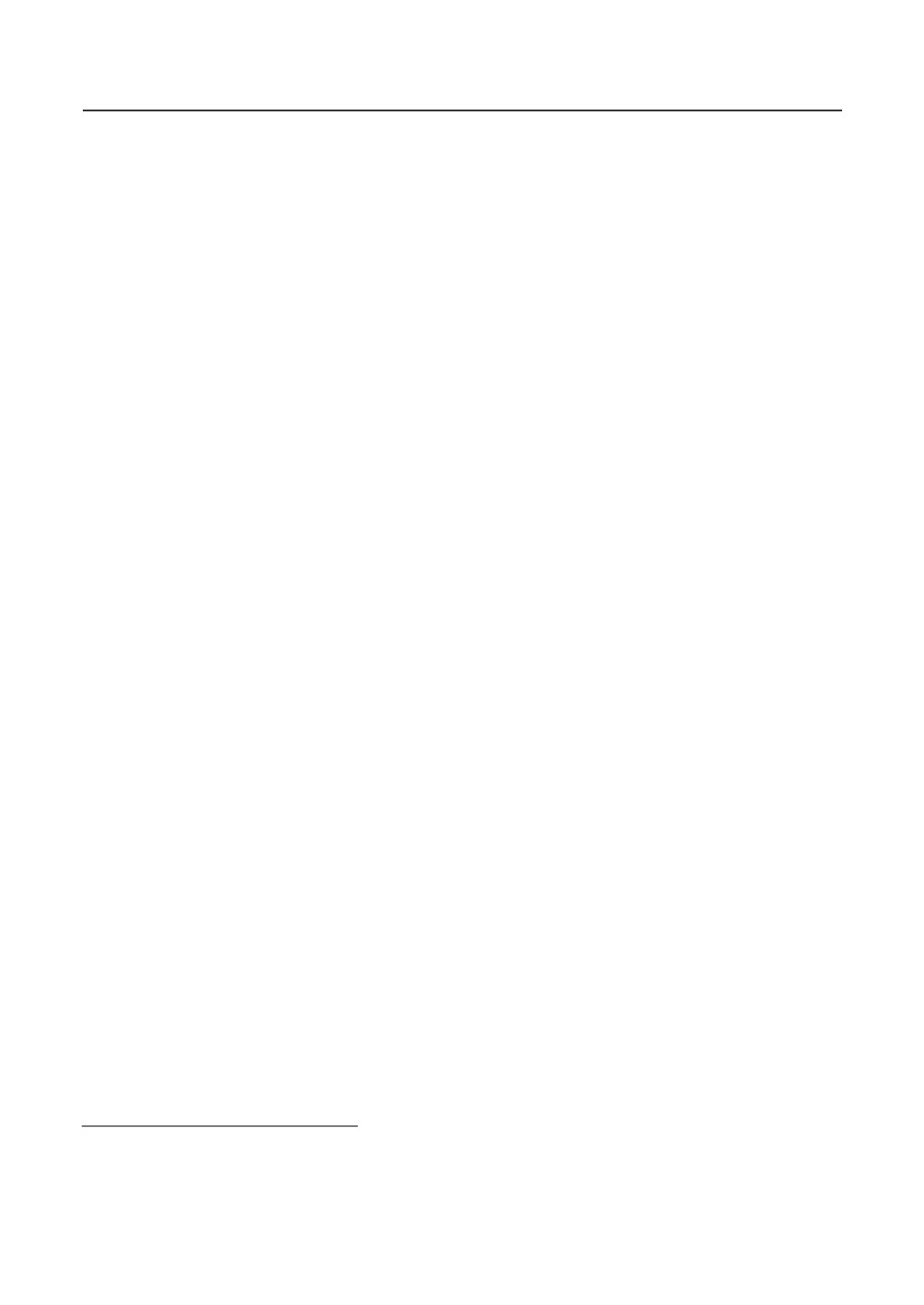Современная Европа, 2022, № 3, с. 185-198
РАЗМЫШЛЯЯ О ПРОЧИТАННОМ
_______________________________________________________________________
УДК 930.2, 93, 327
ОБЪЯСНЕНИЕ РОССИИ: ВЗГЛЯД
ИЗ НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ БУДУЩЕГО
© 2022 ОБИЧКИНА Евгения Олеговна
Доктор исторических наук
Московский государственный институт международных отношений
(университет) МИД Российской Федерации (МГИМО).
119454, Россия, Москва, проспект Вернадского, д. 76.
E-mail: obitchkina@mail.ru
Поступила в редакцию 03.10.2021
После доработки 11.01.2022
Принята к публикации 27.01.2022
Аннотация. Зарубежные публикации отечественных историков-страноведов яв-
ляются особым жанром научной деятельности. Их предназначение - дать ответ
на острые вопросы, связанные с российской темой и находящиеся в центре вни-
мания зарубежной аудитории. Изучение комплекса французских публикаций ве-
дущего отечественного франковеда и дипломата Ю. И. Рубинского, написанных
большей частью в 1997-2000-х гг. и собранных в едином издании, позволяет вы-
делить главный вопрос - о европейском будущем России. Владение универсаль-
ными методологическими приёмами историко-политического анализа позволяет
преодолеть стереотипное восприятие мотивов внешней политики России. Истоки
кризиса отношений в треугольнике Россия - Украина - Запад видятся в столкно-
вении энергетических и политических интересов, распад СССР вписан в гло-
бальный процесс распада колониальных империй, а перспективы ситуативного
сотрудничества России и США в Центральной Азии рассматриваются в логике
«большой игры». Основой, на которой построено «послание» русского европей-
ца, является видение европейской перспективы, особенно близкое французской
аудитории. Это сосуществование «европейской» (а не атлантической) Европы
(ЕС) с Россией на основе прагматичной гармонизации экономических, энергети-
ческих интересов и общего пространства безопасности. Историческая слабость
либеральной традиции в России препятствовала её ускоренной конвергенции с
Западной Европой, что не отменяло прагматичного стремления опереться на За-
пад в интересах экономического развития. Это стремление относительно, по-
скольку зависело от готовности Запада к встречному движению, а маргинализа-
ция России лишает ЕС перспективы стать самостоятельным центром силы.
186
Евгения Обичкина
Ключевые слова: Россия и Запад, концепция суверенитета, внешняя политика
России, политика России в Центральной Азии, конфликт энергетических интере-
сов России, Украины и ЕС, Россия - Турция - Европа.
DOI: 10.31857/S0201708322030147
EDN: GHAUGI
Осмыслить настоящее, основываясь на уроках прошлого и планов на будущее -
суть ремесла историка, который занимается современностью. Международный ана-
литик, интегрированный в международное (европейское) научное сообщество,
неизбежно выступает в двоякой роли: для отечественной аудитории он является
исследователем и толкователем зарубежных реалий, а для зарубежной - ретрансля-
тором и толкователем российской политики, стремящимся преодолеть «трудности
перевода», сопрягая свои суждения и аргументы с иным, но не чуждым ему нарра-
тивом. Глубокое знание другой страны неотделимо от эмпатического её восприя-
тия, которое предполагает поиски взаимопонимания как оптимального условия со-
трудничества двух социумов, от которого зависит благоприятная среда для его
профессиональной деятельности. Мало кто из специалистов-страноведов откажется
от возможности высказаться, предоставляемой публикациями в зарубежных изда-
ниях, тем более что подобное разъяснение «из первых рук» является очень востре-
бованным. Информационный повод, тема или формулировка поставленных вопро-
сов указывают на болевые точки отношений, провоцирующие обострённый интерес
зарубежных наблюдателей и заинтересованных читателей. Зарубежные публикации
отечественных экспертов-страноведов являются особым материалом для сравни-
тельного исследования историко-политических нарративов, а их сведение воедино
позволяет не только составить картину как отечественного, так и зарубежного по-
литического запроса, но и определить «нерв» взаимодействия двух социумов в ре-
шающий период становления новой России и складывания нынешней парадигмы её
отношений с Западом.
В фокусе данного исследования - вышедший во Франции сборник французских
публикаций ведущего отечественного франковеда - уникальной личности: историка,
дипломата и внешнеполитического аналитика Ю.И. Рубинского [Обичкина, 2020:
191-201]. Хотя перевод названия («Приметы времени») может звучать аналогично
русскому трёхтомнику того же автора, вышедшему в Москве в 2018 г. [Roubinski,
2020; Рубинский, 2018] и также приуроченного к 90-летию автора, два издания со-
держат совершенно разные работы, объединённые периодом их создания: 1997-2020
гг., но продиктованные различными запросами, отвечающими двум национальным
повесткам: российской и французской, а в более широком смысле - европейской. В
то же время они объединены центральным вопросом, составляющим суть «русского
вопроса» в глазах европейцев и больной вопрос российской самоидентификации -
проблему европейской принадлежности России не в географическом, а в органиче-
ском смысле этого понятия. Тексты, адресованные французскому читателю, вышли в
момент, когда высокий градус напряжённости между Россией и Евросоюзом сделал
неактуальной парадигму общего развития Европы в логике конвергенции, предло-
Современная Европа, 2022, № 3
Объяснение России: взгляд из несостоявшегося будущего
187
женную Парижской хартией СБСЕ для новой, постялтинской Европы. Между тем
большая часть вошедших в книгу публикаций была написана в 1990-2000-е гг., когда
направление движения казалось встречным, а точка невозврата (2014 г.) была ещё
впереди. Общий пафос определяется убеждением русского европейца в конечной
общности судеб России и Европы. Автор намеренно отказался редактировать текст в
соответствии с современным состоянием отношений России с Европой, и читатель
поставлен перед вопросом, дальнейший путь разрешения которого известен.
Во Франции в силу исторических и геополитических причин восприятие пост-
коммунистической России было связано с надеждой на общее развитие в общем
«европейском доме». Проект преодоления раскола Европы на путях конвергенции
применительно к России упирался в вопрос о совместимости. Прежде чем оконча-
тельно утвердиться в образе «другого», чуждого, если не враждебного Западной
Европе, Россия рассматривалась как возможное поле для этого грандиозного экспе-
римента, однако уже в 1990-е гг. его успех вызывал сильные сомнения. В ельцин-
ские годы требовалось разъяснить причины торможения либеральных реформ, а в
2000-е речь шла о самой их возможности в российской политике.
Об отказе от либеральной парадигмы в пользу
державного консерватизма
Размышления о российской идентичности неизбежно начинаются с истории, по-
стоянно прорастающей в настоящее, и это особенно заметно в переходный период.
Первая часть книги Ю.И. Рубинского названа «Россия или непрошедшее прошлое», и
франкофоны оценят точность и изящество переданной оценки (le passé présent). Од-
ним из болезненных вопросов российской политики, от которого намеренно отвора-
чивались советские историки и который не может не занимать наблюдателей совре-
менных трансформаций, является относительная слабость не только либерального,
но и близкого ему своим гуманитарным пафосом и реформизмом социал-
демократического направления мысли, недолговечность либерального реформатор-
ства и неизменное возвращение к консерватизму: монархическому, коммунистиче-
скому или иному, но неизменно объединяющему государство, элиты и общество.
Книгу открывают размышления о печальной русской судьбе масонства, с XVIII
в. объединяющего представителей европейских элит в интернациональное транс-
граничное сообщество либералов в поисках построения универсального и рацио-
нального миропорядка. Симбиоз власти и идеологии, будь то православие или ле-
нинизм, по мнению автора, делал государство и при царе, и при большевиках не-
терпимым к любым духовным поискам либеральной альтернативы, особенно если
они исходили из зарубежного источника и претендовали на универсальность. Ли-
берализм в России в неизменном столкновении с государственной идеей, как рево-
люционной, так и реакционной (консервативной), терпел поражение, поскольку
последняя в большей степени совпадала с российскими политическими традициями
[Roubinski, 2020: 17].
Зеркальным отражением судьбы либералов является судьба их антиподов -
коммунистов, которым в новой России была уготована активная «жизнь после
Современная Европа, 2022, № 3
188
Евгения Обичкина
смерти». Название соответствующей главы отражает один из парадоксов, на кото-
ром строилась современная политическая система России. Издержки «шоковой те-
рапии» могли бы обеспечить им широкий протестный электорат, однако руководи-
тели партий отказались от активной оппозиционной борьбы, предпочитая участие
во власти. Таким образом, отказ нового правящего класса России от конвергенции в
смысле встраивания в ансамбль западных демократий носил системный характер.
Российское великодержавие могло бы найти понимание во Франции, которая, не-
взирая на снижение потенциала, сама следовала «политике престижа», но европо-
центризм мешал сочувствовать подобному самоутверждению. Идеологическое
противостояние с Западом ушло в прошлое, но природа новых расхождений по-
рождала вопросы у тех, кто задумывался о формуле отношений между двумя око-
нечностями Европы.
Поискам русского ответа на эти вопросы была посвящена работа, вышедшая
(судя по контексту) в середине 2000-х, когда можно было подвести итоги 15-летней
истории нового государства и первого срока правления В.В. Путина. Преемствен-
ность цели от Ельцина к его преемнику состояла в обеспечении статуса великой
державы и свободы манёвра на международной арене. «Русская исключительность»
навсегда ушла в прошлое» [Roubinski, 2020: 75] - утверждал автор в том смысле,
что разрыв с советским прошлым знаменовался отказом от какого-либо идеологи-
ческого лидерства, от неоимперской политики в пользу Reаlpolitik, преследующей
национальные интересы, но исходящей из трезвой оценки сокращения экономиче-
ского, демографического и военного потенциала. Первоначальная ориентация ис-
ключительно на Запад привела к глубокому разочарованию, поскольку тот не со-
гласен был щедро оплачивать саморазрушение «Империи зла».
Тяжёлый итог ельцинского периода заставил В.В. Путина, несмотря на его пер-
воначальное «западничество», открыть новую главу в истории России. Впечатляю-
щее восстановление экономики облегчило укрепление «вертикали власти», что
неотделимо от восстановления международного веса страны. На этой основе Путин
стремился примирить кооперативный дух начала 1990 гг. и строгость в отстаивании
российских интересов. На первый план среди приоритетов вышло постсоветское
пространство, а к его удачам на западном направлении автор относит активную
поддержку США в борьбе против талибов, подключение к G7, возобновление со-
трудничества с НАТО в новом формате (20 вместо 19+1), принятие плана строи-
тельства четырех общих пространств с ЕС. Последующее охлаждение автор объяс-
няет реакцией на политику Запада, затрагивающего чувствительные интересы
Москвы: выход США из Договора по ПРО и движение НАТО на восток. Вместе с
тем, как отмечает автор, Москва избегала прямого разрыва с Вашингтоном. Напри-
мер, её позиция в иракском кризисе 2003 г. совпадала с мнением Парижа и Берли-
на: осуждая военную интервенцию, никто из них не желал поражения США.
Характерно, что несмотря на то что в период с 2001 по 2003-2004 гг. во внешней
политике Москвы постфактум можно разглядеть явную тенденцию нарастающего
противодействия Pax Americana, текст Рубинского сконцентрирован на преемствен-
ности от первоначальной идеи солидарности с Западом, скорректированной прагма-
тичным стремлением отстаивать во всех комбинациях собственные интересы и соб-
Современная Европа, 2022, № 3
Объяснение России: взгляд из несостоявшегося будущего
189
ственные пути развития. Явный отказ от прозападной парадигмы был впереди, но
остаётся вопрос о его причинах. Касаясь перспектив продолжения курса Путина в его
втором президентском сроке, Ю. И. Рубинский указал, что «ответ зависит не только
от президента, даже не от его страны, но от их партнёров», поскольку попытки ре-
шать международные проблемы, затрагивающие интересы России, «без неё или про-
тив неё» возродят атмосферу взаимного недоверия и системной конфронтации, кото-
рыми прежде были отмечены отношения России и Запада» [Roubinski, 2020: 93].
Четыре года спустя, в начале президентского цикла Д.А. Медведева и после
знаменитой Мюнхенской речи В.В. Путина, автор возвращается к теме внешнепо-
литического выбора. Европейцев волновал вопрос о преемственности политики при
новом президенте. Прогноз Ю.И. Рубинского оказался абсолютно точным. Для него
преемственность внешней политики при смене президента определялась отсутстви-
ем реальной альтернативы избранному курсу, поскольку абсолютными приорите-
тами оставались суверенитет и безопасность [Roubinski, 2020: 72]. Начавшийся ми-
ровой финансовый кризис вывел на первый план продвижение национальных инте-
ресов в сфере экономики. Ограниченность ресурсов определяла самоограничение в
амбициях: защиту национальных интересов без конфронтации, отказ от бесполез-
ных попыток сравняться с США, быть противовесом США или Запада, соразмер-
ность расходов на модернизацию армии экономическим возможностям, разумную
достаточность ядерного арсенала сдерживания. Однако самоограничение оказалось
преходящим и соответствовало времени приобщения к глобальному рынку, где
правила поведения диктовали те, кто стоял у его истоков.
Экономика, как правило, не является сильной стороной политических аналити-
ков, несмотря на доказанность определяющей роли экономических факторов в
формировании политического курса и дипломатических приоритетов современного
государства. Между тем в книге Рубинского экономическому фактору, как важ-
нейшему ресурсу российской власти и одновременно как источнику проблем, отве-
дено значимое место, поскольку первым и главным козырем и одновременно кам-
нем преткновения в отношениях России с Европой было превращение в «энергети-
ческую гипердержаву». К середине 2000 гг. в прямой связи с «оранжевой револю-
цией» на Украине и парламентскими и президентскими выборами в России энерге-
тические интересы России и ЕС стояли в центре обсуждения, поскольку в этой
сфере были сосредоточены основные финансовые и политические рычаги россий-
ской власти. В то же время роль нефтяной ренты в российском обществе вызывала
опасения относительно превращения страны в сырьевой придаток развитых стран.
Европейцы в свойственной им манере построения энергетических партнёрств счи-
тали естественным полным контроль надо всей энергетической цепочкой - от раз-
ведки и производства до распределения конечному потребителю. Российская сто-
рона стремилась вернуть себе контроль не только над добычей, но и над трубопро-
водными сетями, обеспечить участие в прибылях западных распределительных
компаний.
Рост энергетической взаимозависимости между Россией и ЕС был не только
благом, но и источником напряжённости. Не менее сложным было сотрудничество-
соперничество в энергетических проектах, связывавших Россию и США. Высшая
Современная Европа, 2022, № 3
190
Евгения Обичкина
точка их развития приходится на первые годы правления Дж. Буша-мл., и автор
прямо указывает на роль в этом усиленного российско-американского партнёрства
против исламского терроризма в период острого кризиса американо-арабских отно-
шений. Каждое из трёх главных направлений энергетической политики России, ука-
занных Рубинским (усиление госконтроля над отраслью, привлечение иностранных
инвестиций для строительства трубопроводов как на западе, так и на востоке, про-
никновение русских капиталов в энергетический сектор постсоветских государств)
вызывало негативную реакцию партнёров [Roubinski, 2020: 101]. Российским экспер-
там постоянно приходилось защищаться от упрёков европейских коллег в использо-
вании «энергетического оружия» для давления на импортёров и транзитные государ-
ства Восточной Европы. В то же время развёрнутость российских трубопроводов ис-
ключительно на запад создавала обязывающую зависимость от энергетической поли-
тики потребителей, которые не скрывали стремления диверсифицировать поставщи-
ков и пути доставки в обход России. Отвечая этим претензиям, следовало показать,
что неуступчивость России исходит не из политических, а экономических оснований,
поскольку она имеет в сравнении с ближневосточными поставщиками более высокие
издержки на добычу и доставку энергоносителей, что требует колоссальных инве-
стиций для их разработки. К этому добавляется высокая доля внутреннего энергопо-
требления. Таким образом, Россия не может обойтись без постоянного наращивания
производства и продажи энергоносителей, а её экономический рост напрямую связан
с неподконтрольным ей мировым рынком.
Почему Россия не может отказаться от имперской политики?
Львиная доля книги посвящена судьбе имперского наследия России, её поли-
тике в «ближнем зарубежье» - на огромном пространстве, первоначально объ-
единённом в СНГ. Поведение России здесь вызывало два главных вопроса. На
начальном этапе её развития в качестве постсоветского государства, разделивше-
го судьбу бывших республик распавшегося СССР, это был вопрос её способности
вписаться в новую, европейскую геополитическую комбинацию. Интегрировать
Россию - огромную и веками чуждую сущность на основе конвергенции с Западом
можно было только, опираясь на «нормы», т.е. на её отказ от великодержавных ам-
биций, что казалось разумным из-за качественного снижения экономического, воен-
ного и технологического потенциала, гибели большевизма с его универсальной ком-
мунистической миссией. Понятие «нормы», отражаясь эхом от этого запроса, неод-
нократно всплывает в работах французских аналитиков, посвящённых российской
внешней политике от Ельцина к Путину [Обичкина, 2021: 180-191]. Для европейцев
было очевидным, что страна, обладавшая в конце 1990-х гг. ВВП, равным показате-
лям Нидерландов, должна была смириться с положением заурядного игрока, направ-
ляемого солидарным Западом. Другой вопрос, также поставленный в рамках за-
падной парадигмы - о способности России расстаться с имперской политикой в
ближайшем окружении. Он касается не только экзистенциального выбора России,
но затрагивает интересы её западных партнёров, оспаривающих влияние на пост-
советском пространстве.
Современная Европа, 2022, № 3
Объяснение России: взгляд из несостоявшегося будущего
191
Отталкиваясь от понятной любому французскому гуманитарию формулы Ж.-
Б. Дюрозеля «каждая империя погибнет»1, российский историк в подробном ана-
лизе распада СССР добавляет в духе Толстого: «но каждая погибает по-своему».
Разъяснение особенностей российской политики сопровождения этого процесса
призвано преодолеть её упрощённое восприятие на Западе. Комплексное изуче-
ние его истории, в силу её крайней политизированности, в отечественной исто-
риографии долгое время было отложено на будущее, отдано на откуп политикам
и политологам. Тем ценнее предпринятый Ю.И. Рубинским исторический труд по
осмыслению недавнего прошлого, построенный на универсальных методологиче-
ских принципах исторической науки, благодаря которым распад СССР органично
вписан в глобальную историю - во всемирный процесс деколонизации, что идёт
вразрез с мнением о решающей роли в нём националистически настроенных элит
бывших союзных республик. Исходный посыл Ю.И. Рубинского состоит в том,
что главным фактором распада СССР был крах самой советской системы, слабая
экономическая эффективность которой не позволила режиму справиться с грузом
внутренних проблем и множащихся международных обязательств, ответить на
военно-технологический вызов Запада. Я бы ещё добавила к этому, что советская
«империя» держалась на уникальной модели «государства-партии», и одряхлев-
ший идеологический скелет, на протяжение 70 лет цементировавший многонаци-
ональное единство, рассыпавшись, вызвал смерть всего организма.
В то же время крайне важна мысль автора об органичных истоках и вызре-
вавших длительное время предпосылках националистического взрыва в союзных
республиках в конце 1980-х гг. Он указывает, что движение за национальное само-
определение колониально зависимых народов, с начала 1950-х гг. активно поддер-
жанное и использованное Москвой для ослабления мирового капитализма, «не могло
остановиться на границах СССР» [Roubinski, 2020: 128], отчего в момент крушения
советского режима партийной номенклатуре в национальных республиках потребо-
валось срочно «переодеться в национальные одежды», чтобы остаться у власти. С
политической точки зрения сравнительно безболезненную смену власти обеспечивал
союз реформаторов из советской номенклатуры и российских либералов с умерен-
ными националистами на местах. На начальном этапе (в начале 1990-х гг.) второй за
ХХ в. распад империи в России не повторил кровавой истории первого, в первую
очередь, потому что его главной движущей силой стала сама метрополия. Создание
СНГ помогло избежать хаоса и войн, подобных тем, которые сопровождали гибель
великих империй прошлого, в том числе французской. Эти обстоятельства определи-
ли характер «развода»: добровольного со стороны России, поскольку либеральные
реформаторы первой волны в своём стремлении на Запад видели в бывших азиатских
окраинах, менее развитых и склонявшихся к авторитарному правлению, главное пре-
пятствие на пути рыночных реформ и демократии в России. Убеждение, что путь
совместного развития потребовал бы отвлечения огромных средств, необходимых
для модернизации самой России, на поддержание бывших окраин, дополнялось уве-
1 Отсылка к классической книге Ж.-Б. Дюрозеля (Duroselle J.-B. Tout Empire périra. Théorie
des relations internationales / J.-B. Duroselle. Paris : Armand Collin, 1992. 346 p.).
Современная Европа, 2022, № 3
192
Евгения Обичкина
ренностью в безальтернативности сохранения их связи с Москвой. Эти расчёты в
краткосрочной перспективе оказались верными, главным образом, из-за первона-
чально слабой заинтересованности внешних игроков в проблемных экономиках
бывших союзных республик Азии и Кавказа.
В среднесрочной перспективе центробежные процессы, сопровождавшие ста-
новление новых независимых государств, ускорились: поиск ими собственной
идентичности, источников развития и внешних партнёров, и, как одно из след-
ствий, - дискриминация на местах и массовый исход русского населения. История
взаимоотношений между новыми независимыми государствами в рамках СНГ и
вне их, также как их отношений с Россией освещена в книге во всех подробностях.
Этим сюжетам посвящена львиная доля текста, центральная часть, озаглавленная
«После СССР». Здесь хотелось бы остановиться на двух главных вопросах, связан-
ных с политикой России на постсоветском пространстве и определивших характер
её нынешних отношений с Западом: сохранение её «имперских» амбиций в ближ-
нем зарубежье; поиск формулы отношений с Западом в обеспечении российских
интересов в условиях постсоветской реорганизации региона.
Ю.И. Рубинский показывает, что выдвижение СНГ на первое место среди
внешнеполитических приоритетов Москвы имело глубокие причины, органичные
новой российской геополитике, учитывающей изменения международного контек-
ста, прежде всего, в области безопасности. Победитель выборов 2000 г. В.В. Путин
видел в СНГ, прежде всего, расширенное пространство безопасности: на востоке -
перед лицом сильного Китая, на юге - из-за роста исламистской угрозы, а на западе -
из-за расширения НАТО. Не менее важным, как отметил автор, являлся рост встреч-
ного интереса к усиленному сотрудничеству с Россией со стороны ряда стран СНГ,
наиболее зависимых от неё в финансовой, энергетической и военной областях. В то
же время разновекторность интересов участников СНГ, асимметрия их отношений с
бывшей метрополией при недостатке экономического потенциала самой России пре-
пятствовали становлению СНГ в качестве жизнеспособной интеграционной матри-
цы, способной умножить потенциал его членов. Возможные финансовые и техноло-
гические «спонсоры» их модернизации находились за его пределами. От этого более
узкие форматы сотрудничества, а в ещё большей степени - двусторонние договоры,
направленные на поддержание прежних связей и реализацию взаимных интересов,
были предпочтительнее объединения двенадцати стран СНГ.
Российские интересы в Центральной Азии: возможность
игры с положительной суммой
Заслуживает особого внимания также диверсификация методологических под-
ходов в анализе различных географических направлений политики России на раз-
нородном постсоветском пространстве, в первую очередь, два самых острых досье,
посвящённых отношениям с Украиной и политике в Центральной Азии. Речь идет о
защите интересов России в начале 2000-х гг. в регионе, который стал центром
«большой игры» планетарного масштаба. Помимо России, в ней участвовали Китай
и США, в геополитике которых он фигурирует под названием «Большой Ближний
Современная Европа, 2022, № 3
Объяснение России: взгляд из несостоявшегося будущего
193
Восток». Нестабильность, изменчивость соотношения сил в регионе не допускают
статичного подхода в затверделых категориях «вечных» интересов и «историче-
ских прав», отчего автор берёт на вооружение методы анализа и прогнозирования,
соответствующие динамике игры. Им предложен горизонтальный срез, с деталь-
ным анализом интересов и политических комбинаций с участием России и США в
тот момент, когда отношения между ними подошли к развилке, от которой отходи-
ли два пути: кооперативный и конфронтационный. Первый был продиктован здра-
вой оценкой соотношения сил. По мнению Ю.И. Рубинского, «Россия отдаёт себе
отчёт в ограниченности своих возможностей, которые уже не те, что были при
СССР. Поэтому она предпочитает компромисс бесплодному и разорительному про-
тивоборству, допуская, что может делить влияние в своей “заповедной зоне”»
[Roubinski, 2020: 410]. Читателю предоставлена возможность посмотреть началь-
ную партию игры, заранее зная результат. Но тем интереснее заглянуть в расчёты
игроков. Пользуясь этой метафорой, Ю.И. Рубинский предлагает выйти за рамки
анализа в привычной логике игры с нулевой суммой, в которой выигрыш одного
означает проигрыш другого. Автор видит иные комбинации в соответствии с пер-
спективами, которыми открылись вследствие окончания холодной войны и теракта
11 сентября. Это было время, когда на Западе ожидали конфликта интересов Рос-
сии и Китая, а главным политическим игроком считали США. В Москве тогда не
определились с приоритетным стратегическим партнёром, но желали, чтобы им
был Запад при условии, что партнёрство будет равноправным.
В Кремле рассчитывали, что нарастание противоречий с Китаем и «малыми»
игроками в регионе прижимает Запад к тесному партнёрству с Россией. Несмотря
на возражения в связи с расширением НАТО на восток, абсолютным приоритетом
безопасности была борьба с международным терроризмом. России западные силы
отводили второстепенную роль в «большой игре» в Центральной Азии, поскольку
зеркально полагали, что потенциальный конфликт интересов с Китаем на Дальнем
Востоке и в Центральной Азии ослабляет её позиции, что снижало мотивацию к
компромиссам, к соблюдению российских интересов. Между тем, итог «большой
игры» мог быть сведён с положительной суммой [Roubinski, 2020: 404]. Новые не-
зависимые государства, граничащие с Афганистаном, не могли самостоятельно от-
разить вооружённое наступление исламских экстремистов, а сами Соединённые
штаты не хотели отвлекать ресурсы от приоритетного - ближневосточного направ-
ления. В тех условиях полное вытеснение России из Центральной Азии не входило
в планы США, которые предпочитали найти там способ сосуществования с Росси-
ей. В свою очередь, Москва стремилась продемонстрировать незыблемость своих
интересов активизацией усилий по военной (ОДКБ) и экономической (Евразийское
экономическое сообщество) интеграции, приуроченных, как отмечает автор, к офи-
циальному визиту Дж. Буша-мл. в Москву в мае 2002 г. Имплицитное «послание»
Москвы в итоге определило дальнейшее развитие игры. Подобное сопоставление,
казалось бы, разнородных событий является «фирменной» чертой Ю.И. Рубинского
- аналитика, поскольку позволяет из частностей создать целостную картину, не
всегда очевидную для наблюдателя с более узким горизонтом. С одной стороны,
отношения России и США в регионе не сводились к простому балансу «выиграв-
Современная Европа, 2022, № 3
194
Евгения Обичкина
ший - проигравший». С другой стороны, Россия превратилась в ключевого игрока в
деле безопасности региона, а географические границы, в которых она обеспечивает
свою безопасность на южном фланге, существенно шире, чем постсоветское про-
странство. Таким образом, «большая игра» отошла от первоначальных правил, как
предсказано в одном из сценариев, рассмотренных Ю.И. Рубинским. В то же время
продолжение сотрудничества вокруг Афганистана не отменило главного, расходя-
щегося вектора отношений России с Западом, которые на прочих направлениях всё
более тяготели к игре с нулевой суммой. В те годы она уже была обозначена актив-
ным военным сотрудничеством США с Грузией, и усилившаяся борьба за постсо-
ветское пространство определялась не столько соотношением сил между Москвой
и солидарным Западом, сколько, совместимостью перспектив развития новых неза-
висимых государств с выбором самой России.
Геополитика на службе геоэкономики: «трубопроводная война»
как источник развода с Украиной
Острейший кризис европейской безопасности 2021-2022 гг., эпицентром кото-
рого стали российско-украинские противоречия, заставляет задуматься о его исто-
ках, потому что упрощением было бы сводить его к расходящимся векторам пост-
советского развития двух стран или к более конкретной причине - воссоединению
Крыма с Россией в 2014 г. С политической точки зрения его зарождение вписыва-
ется в столкновение двух расходящихся геополитик: российской, заинтересованной
в совместном развитии и усилении интеграции, и украинской, выбравшей западный
путь развития, - выбор, психологически неприемлемый для российской элиты. Од-
нако это объяснение не может быть исчерпывающим, так же как не объясняет оно и
крайнюю степень вовлечённости Запада в это досье. Ключ к разгадке Ю.И. Рубин-
ский видит в геоэкономике1. Он исследует энергетические интересы, лежавшие в
основе российско-украинских трений в связи с первым конфликтом вокруг цены на
газ между «Газпромом» и «Нафтогазом» в январе 2006 г. через отношения в «тре-
угольнике», третьей вершиной которого является ЕС. Несмотря на быстрое разре-
шение на путях компромисса тот конфликт был воспринят в Брюсселе очень остро,
поскольку затрагивал энергетическую безопасность ЕС, и экономические трения в
газовой области стали постоянным раздражителем в отношениях России как с
Украиной, так и с другими транзитными странами и одновременно потребителями
из Восточной Европы, а также источником тревоги в странах ЕС, треть газовых по-
требностей которого обеспечивается Россией. Мотивы ужесточения ценовой поли-
тики «Газпрома» автор видит в экономике. Это потребность в модернизации изно-
шенной трубопроводной системы «Газпрома» - главной артерии, питавшей рос-
сийский бюджет, что требовало инвестиций, в разы превосходивших возможности
страны. Ю.И. Рубинский приводит астрономическую сумму, равную трём ВВП
1 Под геоэкономикой понимается экономическая стратегия государства, поставленная на
службу геополитическим интересам (Luttwak E. From Geopolitics to Geoeconomics. Logics
of Conflict, Grammar of Commerce. The National Interest, summer 1990).
Современная Европа, 2022, № 3
Объяснение России: взгляд из несостоявшегося будущего
195
России [Roubinski, 2020: 341], которая не могла позволить себе льготные цены на
газ для восточноевропейских транзитёров.
Главной в этой цепи была Украина, которой был предложен выбор: согласиться
с рыночной ценой на газ, отказавшись от прежних привилегий, или подчинить
национальные газораспределительные сети
«Газпрому», а также вступить в
Евразийский экономический союз. Поскольку укрепление суверенитета в глазах
Киева исключало энергетическую интеграцию с Россией, особенно после «оранже-
вой революции», команда Ющенко перевела газовый вопрос в стратегическую
плоскость, причём, в самой чувствительной точке, связав рост цены на российский
газ с ценой аренды Севастополя. Для ЕС заинтересованность в собственной энерге-
тической безопасности одновременно и повышала стремление к созданию общего
энергетического пространства с Россией, и требовала сдерживания давления «Газ-
прома» на транзитёров. Частный вопрос о цене газовых поставок, таким образом,
вышел за рамки двусторонних экономических разногласий и грозил отравить общий
климат отношений России, стран общего соседства и ЕС.
Выход на путях гармонизации энергетических интересов в то время виделся ав-
тору в духе исторической формулы Эдгара Фора «независимость во взаимозависимо-
сти», что позволило бы избежать повторения газовых кризисов. Поскольку этот сце-
нарий не удался, кризисы эти неоднократно повторялись. То, что газовый кран в раз-
гар зимы перекрывала Россия, порождало у европейцев представление об использо-
вании энергетического шантажа и привело к ускорению сближения Украины с ЕС и
НАТО, прочертив «красную линию» между Россией и Западом. Украина не станет
«мостом между Россией и Западом», а, как предсказал автор, «к своему несчастью,
превратится в поле столкновения между ними» [Roubinski, 2020: 381]. Написанное
сразу после прихода к власти Ющенко в 2004 г., сбылось в 2013 г. Украинский во-
прос стал показателем общего ухудшения отношений России с Западом и параллель-
ной смены геополитических ориентиров самой России. Её причинам и содержанию в
книге Ю.И. Рубинского посвящена отдельная часть: «Двуглавый орёл».
Геополитический разлом в новой парадигме
международного развития
Два практически одновременных события весной-летом 1997 г. - подписание
Основополагающего акта отношений между Россией и НАТО и решение Атланти-
ческого совета о приглашении в НАТО трёх первых кандидатов из Восточной Ев-
ропы стали поводом для размышлений о будущем европейской безопасности. Ю.И.
Рубинский отметил, что ими открыт новый этап в создании системы коллективной
безопасности в Европе, требующей от руководителей США, России и европейских
стран «ответственности, мудрости и воображения» [Roubinski, 2020: 436]. Возника-
ет вопрос о причине столь болезненной реакции России на расширение. Камнем
преткновения Ю.И. Рубинский считает отказ России от предложенного Западом
ограничения государственного суверенитета. Добровольно согласившись делегиро-
вать его атрибуты Брюсселю, члены ЕС и НАТО закрепили за собой право на «гу-
Современная Европа, 2022, № 3
196
Евгения Обичкина
манитарное вмешательство» в третьих странах в случае, если там грубо нарушают-
ся права человека. На фоне начала военной операции в Чечне приближение Альян-
са к границам России развязало самый серьёзный кризис доверия между Россией и
НАТО, тем более острый, что Москва не имела средств ему сопротивляться. Автор
предсказывал, что это сделало неотвратимым начало новой холодной войны. Сни-
зить издержки от расширения для России мог статус «привилегированного партнё-
ра» НАТО, который бы обеспечил тесное сотрудничество и прозрачность в сфере
безопасности. Параллельно Россия стремилась усилить роль ОБСЕ и была заинте-
ресована в усилении европейской оборонной идентичности в опоре на Западноев-
ропейский союз, вне американской опеки. Огромный дипломатический опыт автора
не позволял ему увлечься мечтами, что не мешало адресовать европейским читате-
лям предупреждение об опасности строить отношения с Россией как с побеждён-
ной в холодной войне державой, поскольку «победители и побеждённые могут, как
это неоднократно было в ХХ в., поменяться местами» [Roubinski, 2020: 457].
Неудача «разделённой мечты» в треугольнике
Россия - Турция - ЕС
В становлении новой мировой иерархии особое значение приобретают различ-
ные комбинации центров силы. Мне уже приходилось говорить о методологиче-
ском вкладе Ю. И. Рубинского в изучение франко-российских отношений в исто-
рическом европейском треугольнике Париж - Берлин (Бонн) - Москва [Обичкина,
2020: 191-201]. Наряду с этим, в книге подробно рассмотрена многовековая исто-
рия большого евро-азиатского «треугольника» Россия - Турция - Западная Европа.
Россию и Турцию роднит пограничное положение между Европой и Азией, так же
как острота вопроса о выборе идентичности между вестернизацией и автохтонным
развитием и, следовательно, нерешённый вопрос о принадлежности европейской
семье. В обеих странах источник модернизации видели, прежде всего, на Западе, и
«разделённая мечта» сблизиться с европейским полюсом развития стала стержнем
эссе. Поводом для его написания стало включение Турции в лист ожидания на
вступление в ЕС в декабре 1999 г.
В этой связи автора интересует вопрос о том, где кончаются границы Европы?
Он волновал как «западников» в России, так и европейцев - противников приёма
Турции, прежде всего, во Франции. Сразу же возникал вопрос о том, почему в ка-
честве кандидатов рассматривалась не Россия или Украина, а мусульманская Тур-
ция. Автор скептически относился к возможности интеграции в ЕС Турции, так же
как России или Украины при жизни этого поколения, но считал, что Россия и Тур-
ция могли бы, каждая по-своему, стать мостиками между Европой и регионами
Азии через Ближний Восток, Центральную Азию и Кавказ, если отношения на этих
пространствах будут развиваться в логике сотрудничества, а не соперничества.
Вместе с тем, он указал на вероятность, что диалог Запада с Россией с позиции си-
лы может, как это неоднократно бывало в истории, вернуть Турции былое значение
в антироссийском фронте. Последующий опыт показал, что отношения с ЕС у Тур-
ции и России развивались в иной логике, в намеченной, но не утвердившейся ещё
Современная Европа, 2022, № 3
Объяснение России: взгляд из несостоявшегося будущего
197
парадигме расходящегося геополитического, если не цивилизационного, развития.
Двойной отказ от «европейской мечты» двух евро-азиатских держав стёр инклю-
зивные силовые линии в «треугольнике». Последствия были предсказаны Ю.И. Ру-
бинским около двадцати лет назад: «всякое решение, оставляющее одну или дру-
гую страну в роли маргинала или выталкивающее их из Европы, будет означать
конец амбициозным стремлениям европейцев превратить когда-нибудь свой Союз
в настоящий центр силы» [Roubinski, 2020: 634].
Каждая книга после публикации из высказывания превращается в предмет изу-
чения. На первый взгляд, в этом издании читателю не хватает датировки вошедших
в неё публикаций, но, видимо, это не упущение, а замысел. Высказывание в реаль-
ном времени теряет преходящий характер и, лишённое налёта злободневности, вы-
водится на более высокий уровень актуальности. Умение историка устанавливать
причинно-следственные связи в двух перспективах - горизонтальной, в которой
можно понять, почему события, происходящие в одной части мира, отзываются в
других, и ретроспективной, позволяющей рассмотреть процесс в динамике, дает
возможность выстроить сценарии последующего развития в новой системе коорди-
нат, намеченной в книге пунктиром. Резкое обострение дискуссии России и Запада
по вопросам европейской безопасности в связи с украинской проблемой с осени
2021 г., как и общий тренд расходящегося движения России и стран НАТО диссо-
нируют с общей идеей европейской общности, отстаиваемой Ю.И. Рубинским. Од-
нако то, что послание современникам и будущим поколениям не воспринято в тот
момент, когда у автора возникла потребность его сформулировать, не означает
тщетности усилия.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Рубинский Ю.И. (2018) Приметы времени. B 3-х т. Институт Европы РАН, Москва.
Обичкина Е.О. (2021) Россия и мир в зеркале французских исследований: наблюде-
ние за наблюдателями. Е.О. Обичкина. Текст: непосредственный. Полис, № 2. С.
180-191.
Duroselle J.-B. (1992) Tout Empire périra. Théorie des relations internationales / J.-B.
Duroselle. Paris : Armand Collin, 346 p.
Luttwak E. (1990) From Geopolitics to Geoeconomics. Logics of Conflict, Grammar of
Commerce. The National Interest, summer 1990.
Roubinski Yu.I. (2020) Les signes du temps. Pour le compte du Globe, Paris. 781 р.
How to Understand Russia: a View from the Failed Future
E.O. Obichkina
Doctor of Science (History)
Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) of the Ministry of Foreign
Affairs of Russia. 76, Vernadskogo prospect, Moscow, Russia, 119454.
E-mail: obitchkina@mail.ru
Современная Европа, 2022, № 3
198
Евгения Обичкина
Abstract. Foreign publications of Russian historians-specialists in country studies
are a special genre of scientific research. They are designed to address pressing is-
sues that are in the focus of attention of foreign audience and connected to Russia.
The collection of publications on France by one of the best Russian specialists of
French history Yu. Rubinsky, written mostly in 1997-2000s, is devoted to the topic
of European future of Russia. The author employs a wide array of history-political
analysis methods in order to overcome prejudice and stereotypical understanding
of Russian foreign policy interests. He believes that the roots of the crisis in the tri-
lateral relationship of Russia - Ukraine - West lie within clashing political and en-
ergy interests. The fall of USSR is positioned as part of the global dissolution of
colonial empires. Possible cooperation of Russia and USA in Central Asia is con-
sidered in the context of the Big game. Ideas of Yu. Rubinsky are based on his un-
derstanding of European perspective, which is not very different from the views of
French scholars. The core of them is coexistence of European union (unlike North
Atlantic Alliance) and Russia in accordance with the pragmatic harmonization of
economical, energy interests and common security space.
Keywords: “Russian question”, the foreign policy of Russia, the concept of sover-
eignty, Russia and the West, Russia's policy in Central Asia, conflict of energy in-
terests of Russia-Ukraine-EU, Russia-Turkey-Europe.
DOI: 10.31857/S0201708322030147
EDN: GHAUGI
REFERENCES
Duroselle J.-B. (1992) Tout Empire périra. Théorie des relations internationales / J.-B.
Duroselle. Paris : Armand Collin, 346 p.
Luttwak E. (1990) From Geopolitics to Geoeconomics. Logics of Conflict, Grammar of
Commerce. The National Interest, summer 1990.
Obichkina E.O. (2020) Cvyaz' vremyon cherez “primety vremeni”: o metodologii is-
toricheskogo analiza nastoyashchego [The connection of times through “signs of time": on the
methodology of the historical analysis of the present]. Sovremennaya Evropa, No 1, pp.
191-201. (in Russian).
Obichkina E.O. (2021) Rossiya i mir v zerkale francuzskih issledovanij: nablyu-denie za
nablyudatelyami [Russia and the World in the Mirror of French Studies: observation of ob-
servers]. E.O. Obichkina. Tekst: neposredstvennyj. Polis, No 2, pp. 180-191. (in Russian).
Rubinski, Yu.I. (2018) Primety vremeni [Sings of times], Institute of Europe RAN, Mos-
cow, Russia. (in Russian).
Roubinski Yu.I. (2020) Les signes du temps [Sings of times]. Pour le compte du Globe,
Paris. 781 р.
_____________________________________
Современная Европа, 2022, № 3