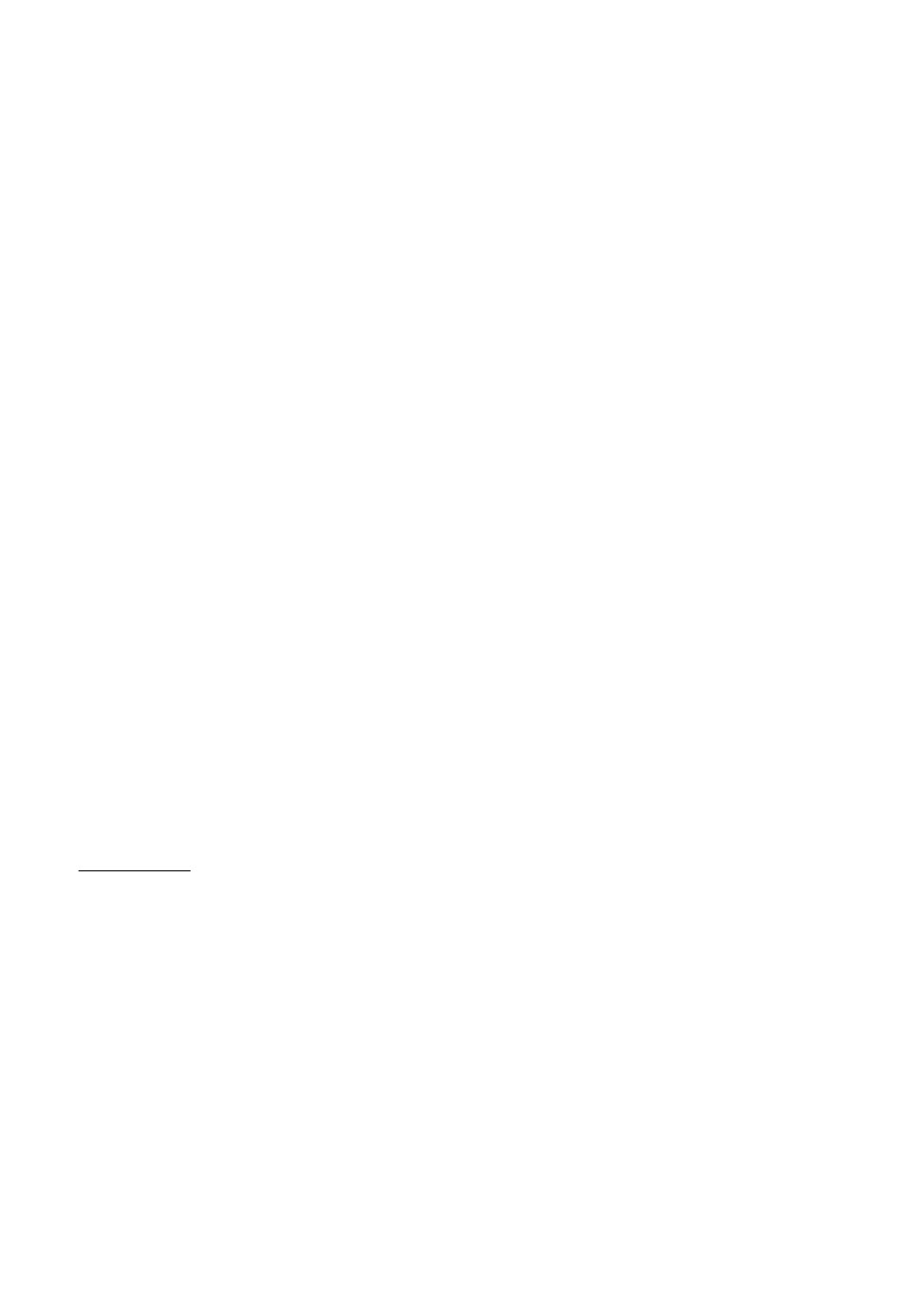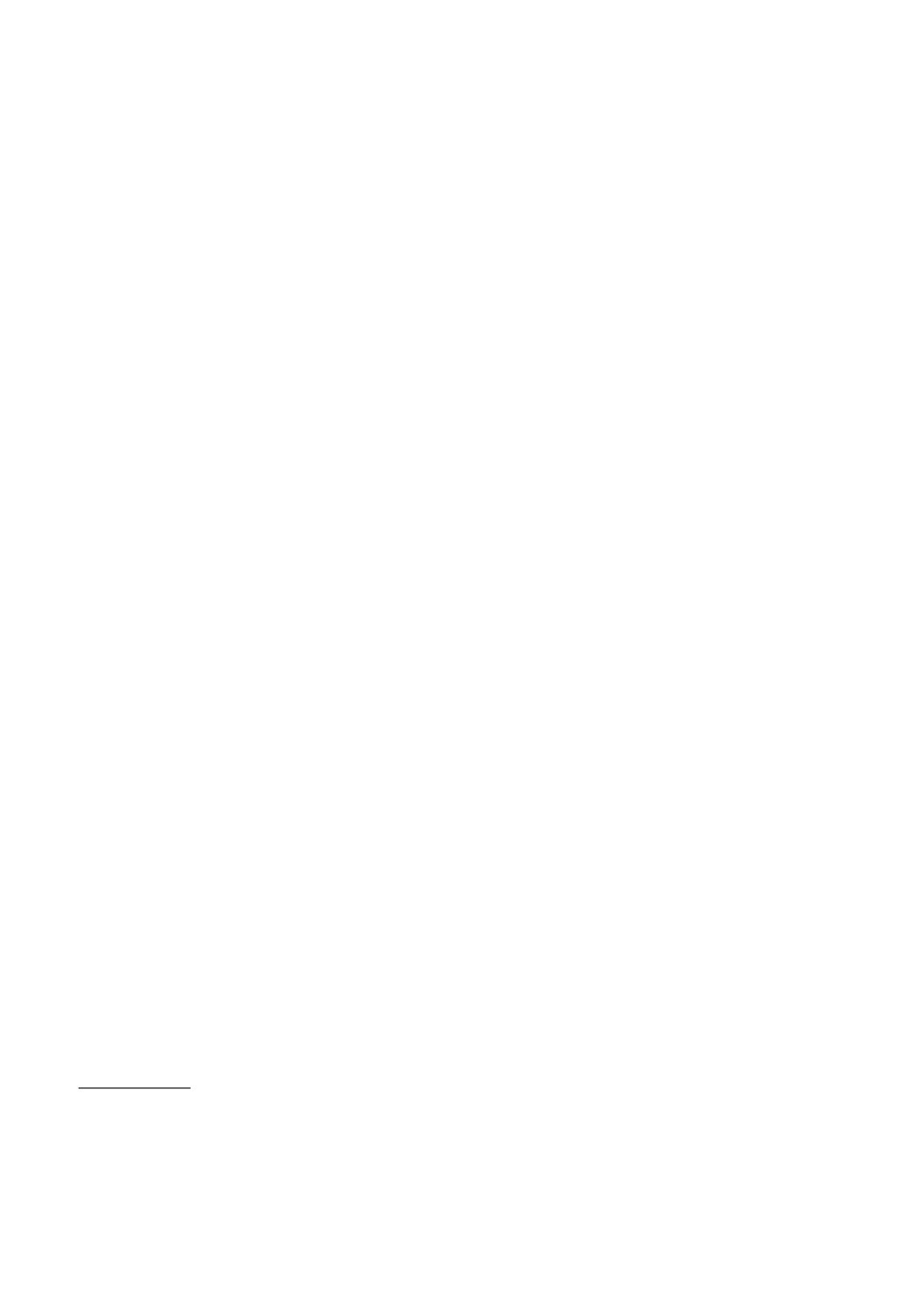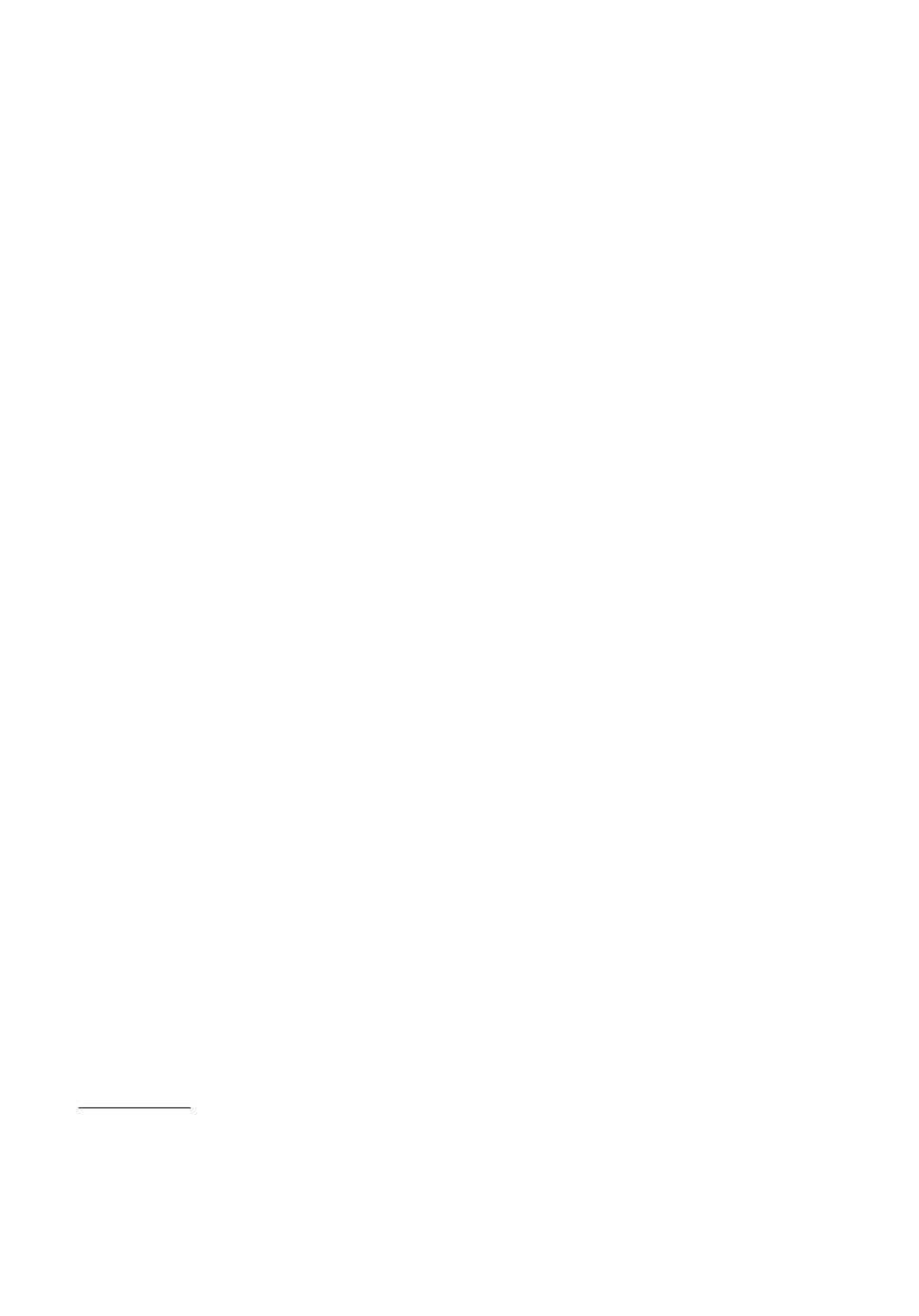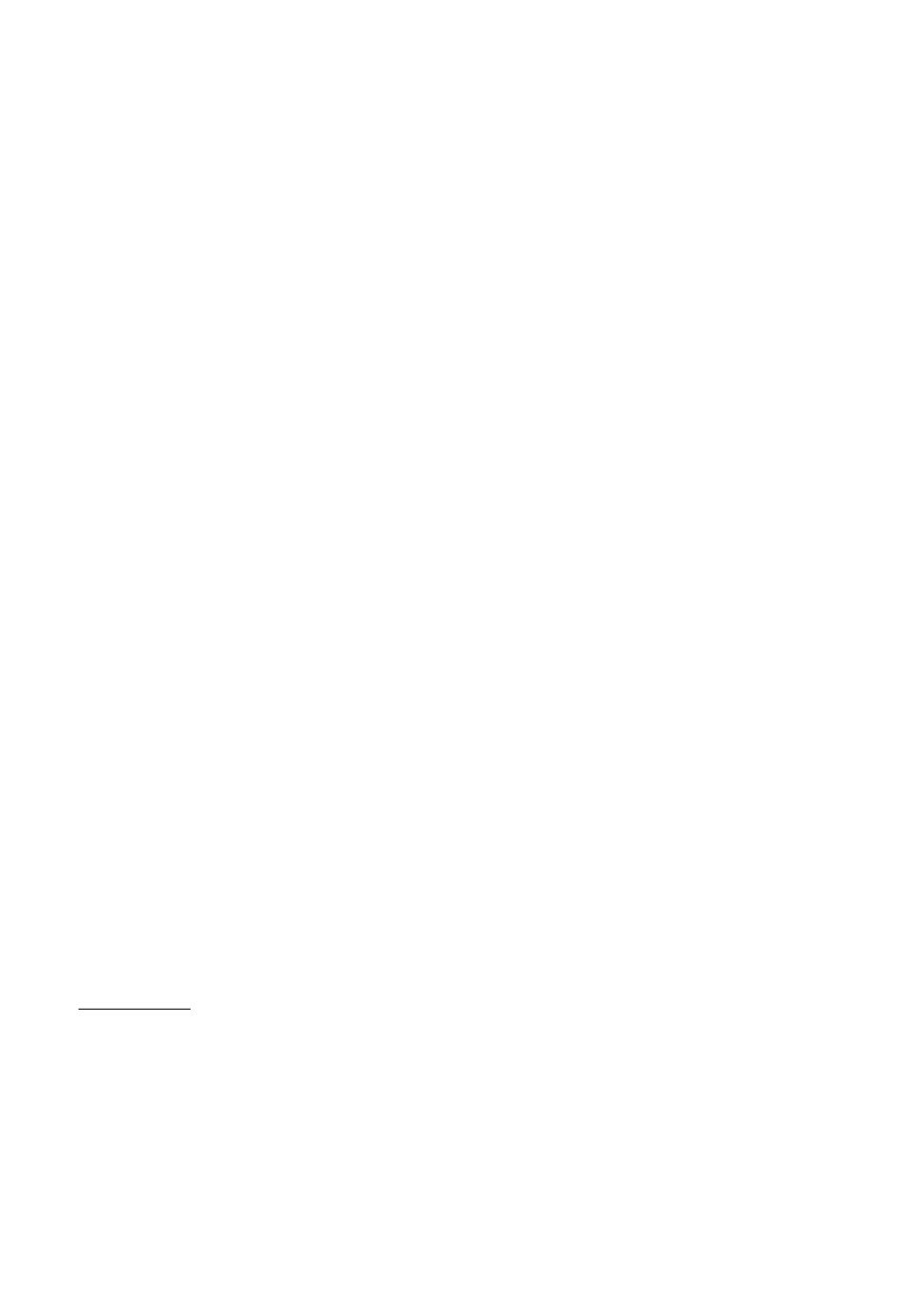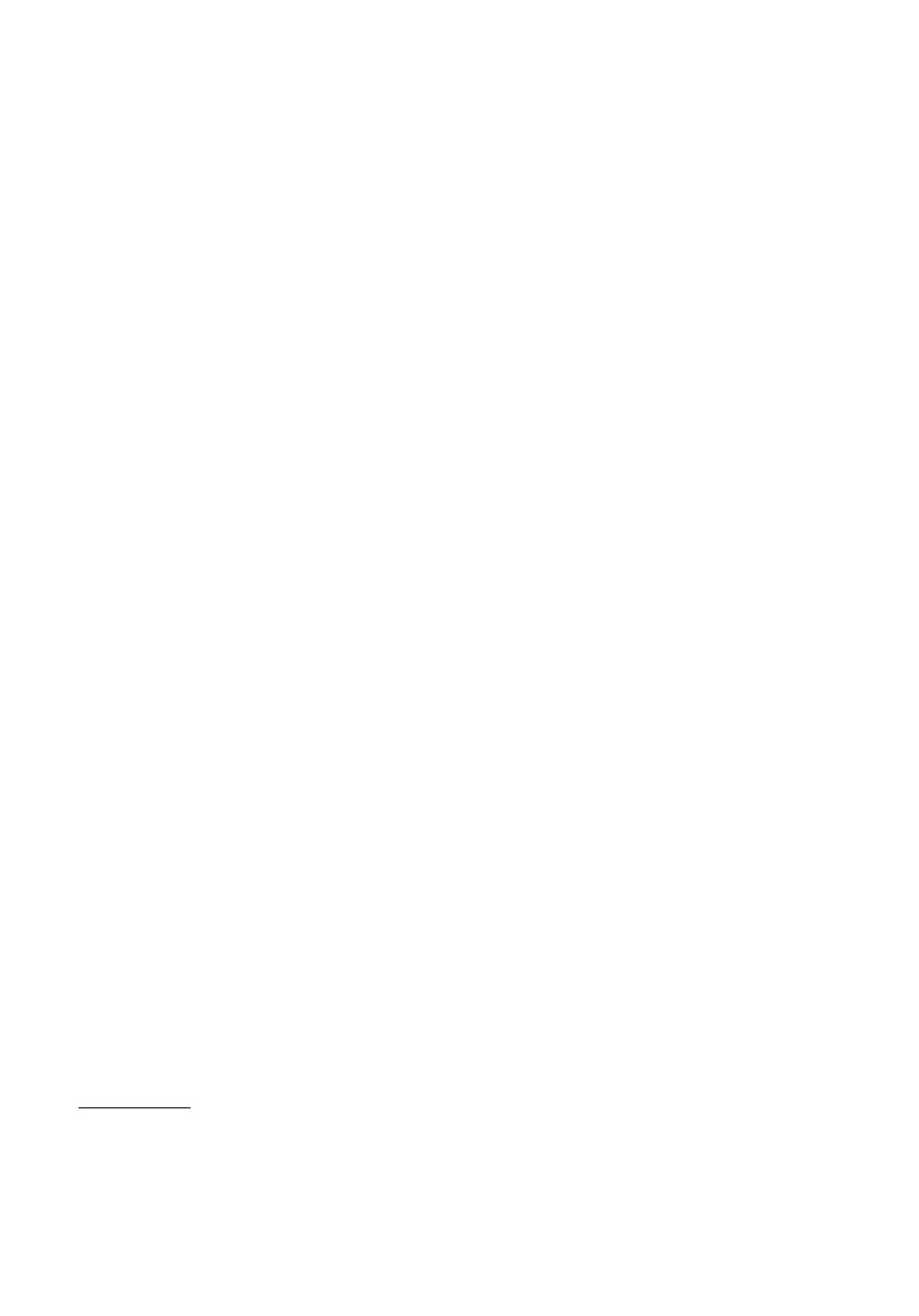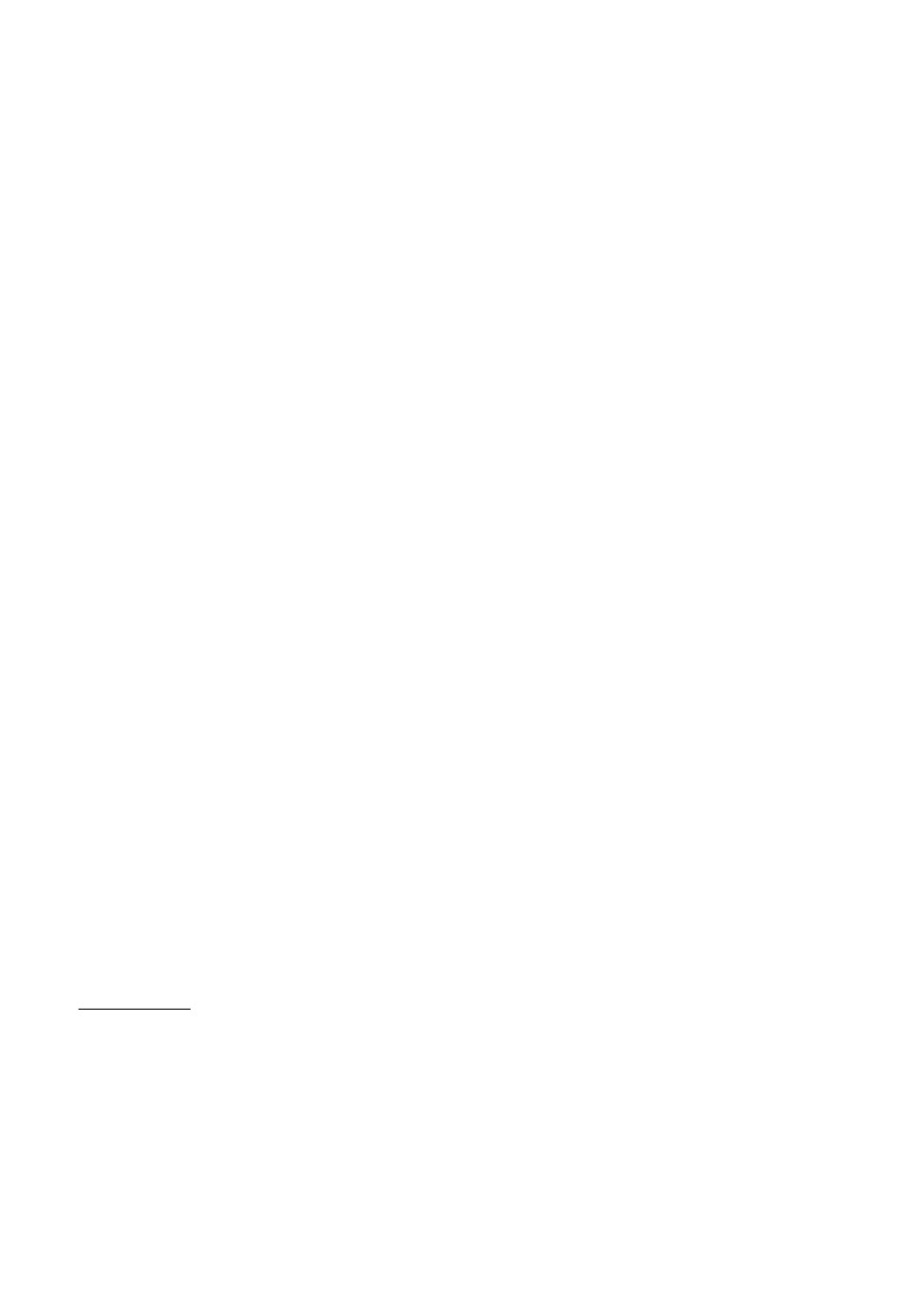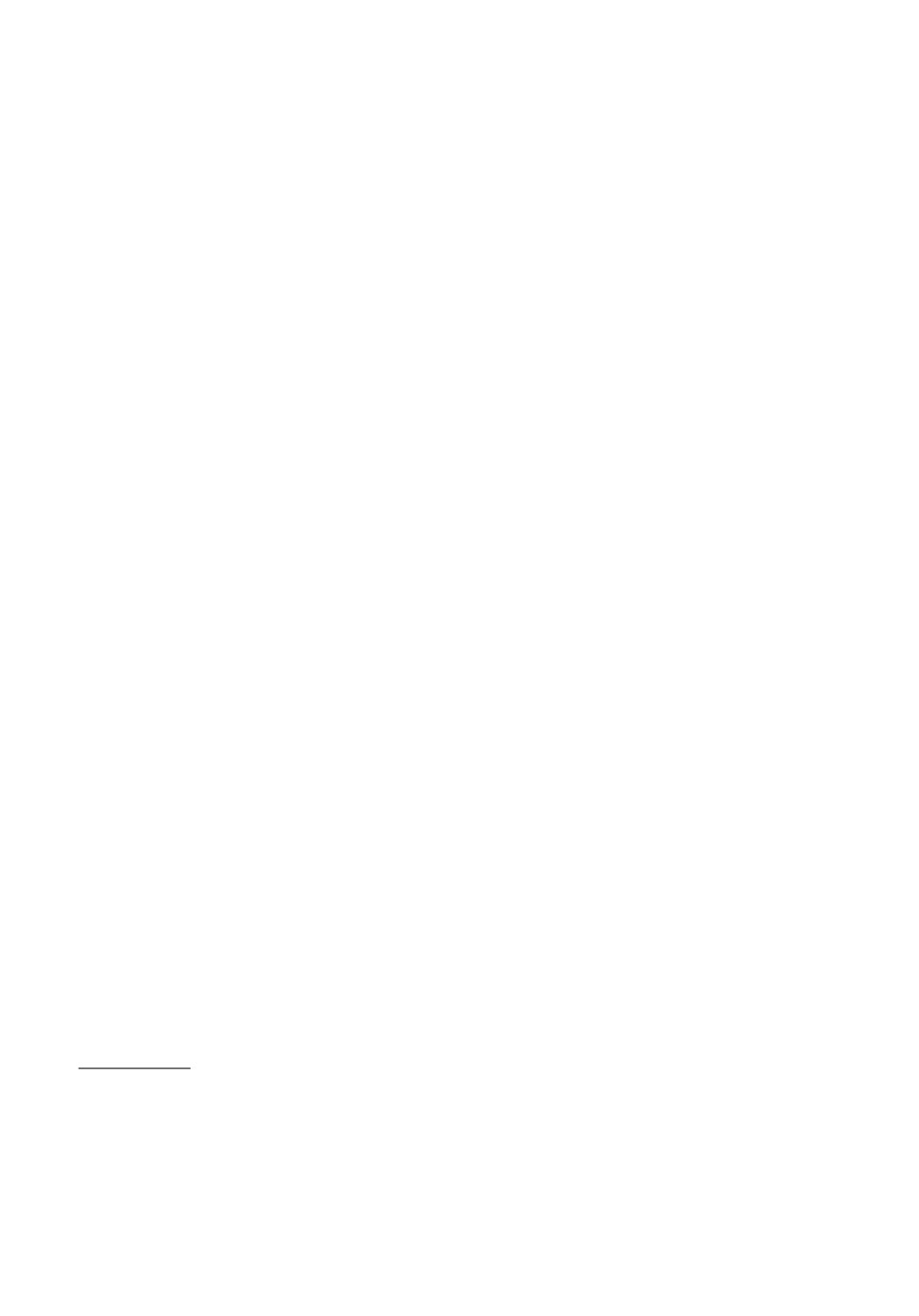Трансформация социально-экономических норм
в обществе Западной Белоруссии, 1939-1941 гг.:
попытка институционального анализа
Янина Карпенкина
The transformation of socio-economic rules in the society of Western
Belorussia, 1939-1941: an attempt of the institutional analysis
Yanina Karpenkina
(HSE University, Moscow, Russia)
DOI: 10.31857/S0869568722010101
Присоединение восточных польских воеводств (Западных Белоруссии и Укра-
ины) к СССР в сентябре 1939 г. до сих пор остаётся предметом острых дискус-
сий1. Основное внимание обращается на следующие сюжеты: административно--
территориальное деление новых территорий БССР и УССР, национальная
политика, создание плановой экономики, органов местного управления, образо-
вания и идеологического воспитания. Рассматривая преимущественно меры со-
ветской власти, исследователи оперируют такими понятиями как «репрессии»,
«индоктринация», «идеология», «пропаганда», «национализация». Между тем важ-
ную и недооценённую роль в советизации2 присоединённого региона играли не-
формальные социальные практики, которые не регламентировались нормативно--
правовыми актами. Цель настоящего исследования - анализ экономических
и властных отношений, сложившихся в Западной Белоруссии в 1939-1941 гг.
Как пишет Д. Норт, «социальные институты - это созданные человеком
ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людь-
ми»3. Основным аспектом в институциональном анализе выступает совокуп-
ность и взаимовлияние индивидуальных акторов и институциональной среды,
создающей неформальные правила - неписанные и «социально санкциониро-
ванные» кодексы поведения человека4. Наравне с формальным, неформальное
© 2022 г. Я.В. Карпенкина
Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
1
См.: Репрессии против поляков и польских граждан / Сост. А.Э. Гурьянов. М., 1997;
Sleszyński W. Okupacja sowiecka na Białostocczyznie: Propaganda i indoktrynacja. Białystok, 2001;
Jasiewicz K. Pierwsi po diable. Elity sowieckie w okupowanej Polsce 1939-1941 (Bialostocczyzna,
Nowogródczyzna, Poliesie, Wileńszczyzna). Warszawa, 2001; Gross J.T. Revolution from abroad: The Soviet
Conquest of Poland’s Western Ukraine and Western Belorussia. Princeton, 2002; Sowietyzacja i rusyfikacja
północno-wschodnih ziem II Rzeczypospolitej, 1939-1941 / Red. M. Gnatowski, D. Bockowski. Białystok,
2003; Strzembosz T., Wnuk R. Czerwone bagno: konspiracja i partyzantka antysowiecka w Augustowskiem,
wrzesień 1939 - czerwiec 1941. Gdańsk: Muzeum II Wojny Światowej. Warszawa, 2009; Восень 1939 года
ў гістарычнай традыцыі і вуснай гісторыі / Рэд. А. Смалянчук. Мінск, 2015.
2
Под советизацией я понимаю мероприятия, направленные на создание государственных
и административных структур, конструирование нового образа жизни для граждан присоединён-
ного региона по укоренившимся в СССР образцам.
3
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.,
1997. С. 28.
4
Там же. С. 60. См. также: Остром Э. Управляя общим: эволюция институтов коллективной
деятельности. М., 2010.
118
также является обязательным для человека стандартом поведения5. Применяя
этот методологический фокус, я рассматриваю экономические и некоторые
социальные изменения в обществе западных областей, привнесённые полити-
кой советизации и, в частности, командированными советскими служащими
(«восточниками», как их тогда называли). В качестве примера приведён случай,
произошедший в 1940-1941 гг. в районном финансовом отделении (райфо)
г. Поставы Вилейской обл.6 На удивление целостно сохранившееся партий-
ное расследование повествует о служебных злоупотреблениях «номенклату-
ры», проливает свет на экономические и управленческие практики, расширяет
представление о повседневной жизни в Западной Белоруссии накануне Вели-
кой Отечественной войны7.
10 мая 1940 г. торговец мануфактурой Гуревич, проживавший в Поставах,
получил налоговый счёт на сумму 3 330 руб.8 12 ноября 1940 г. во время обыска
в его квартире сотрудники НКВД изъяли мужские костюмы, пальто, головные
уборы и другие вещи якобы в счёт погашения неуплаченного налога9. Финансо-
вому инспектору Сергею Диковичу дали поручение принести конфискованные
вещи в райфо10, где он стал свидетелем их нелегального распределения между
заведующим Нестеровым, его женой и заместителем заведующего Вилейского
областного финотдела (облфо) Кресиным11. Пользуясь случаем, фининспектор
попросил у Нестерова разрешение приобрести за 180 руб. (весьма скромная по
тем временам цена) мужской шерстяной костюм и фуражку12. Свои приобрете-
ния Дикович показал местному торговцу Александру Теляку, у которого сни-
мал комнату. Тот оценил костюм в 1 тыс. руб., и Дикович предложил продать
его на «чёрном рынке» за 800 руб., из которых 200 обещал отдать за посредни-
чество. Однако Теляк отказался помочь в этом деликатном вопросе, после чего
в отношениях соседей наметился разрыв, а через два месяца Дикович съехал со
съёмной квартиры.
Теляк вместе с тремя компаньонами занимался торговлей мясом согласно
патенту, полученному в марте 1941 г. Однако начисленный спустя месяц налог
торговец смог уплатить лишь наполовину. В ответ райфо подало на него в суд,
было возбуждено уголовное дело. Дикович имел представление о реальной
платёжеспособности Теляка и заявлял, что на самом деле тот живёт «роскош-
но» и «систематически пьянствует»13. Являлось ли это стремлением выслужить-
5
В то же время индивиды сами влияют на социальную среду, поддерживая или изменяя те
или иные институализированные практики.
6
Вилейская обл. была создана в Западной Белоруссии в сентябре 1939 г. и просуществовала
до 1944 г.
7
Государственный областной архив Минской области (далее - ГА МО), ф. 653П, оп. 1, д. 50.
8
Согласно справке районного финотдела, размер налога определялся исходя из финансовых
возможностей Гуревича. См.: Там же, л. 64.
9
При этом Гуревич спустя шесть дней после начисления налога был освобождён от его упла-
ты по причине неплатёжеспособности.
10
По закону, конфискованные в счёт неуплаты налога товары становились частью государ-
ственного товарного фонда и подлежали реализации через государственную торговую сеть. Для
этого конфискат сначала оценивали в райфо, а потом отправляли в райторг для последующей
продажи населению.
11
Примечательно, что Кресин был направлен в район с целью курирования процесса под-
готовки местной парторганизации к выборам в местные Советы депутатов трудящихся. Однако
вопрос конфискованных костюмов его занимал явно больше.
12
ГА МО, ф. 653П, оп. 1, д. 50, л. 49.
13
Там же, л. 43.
119
ся или желанием отомстить, но показания инспектора склонили решение суда
не в пользу торговца.
Теляк решил расквитаться с бывшим соседом, сообщив в прокуратуру По-
ставского района о незаконной покупке Диковичем костюма и о попытках его
незаконной продажи. В своём доносе торговец писал: «[Дикович] сказал, что
если я продам этот костюм, то он принесёт другой, но я ему ответил, что этим
делом заниматься не хочу потому, что не есть я шпикулянтом14… За последнее
время он не стал платить за квартиру, и [я] должен был ему отказать [в арен-
де]. С тех пор дружеские отношения кончились, и тогда он стал наводить на
меня ложные показания»15. Прокурор переслал эти свидетельства Нестерову.
Этим бы, скорее всего, дело и закончилось, однако второй экземпляр своего
доноса Теляк направил в Наркомат финансов БССР. В конце апреля 1941 г.
финотдел Вилейской обл. получил распоряжение провести по делу «глубокую
проверку» и «привлечь виновных к ответственности»16. Руководитель област-
ного финотдела Горфункель, тоже получивший один из конфискованных ко-
стюмов Гуревича, поручил одному из своих доверенных подчинённых, финин-
спектору Луконину, составить отчётные материалы по якобы проведённому
расследованию.
Разумеется, в подготовленном отчёте не упоминалось множество фактов
незаконного распределения товаров. Так, Луконин писал о том, что со склада
райфо было продано всего пять костюмов, хотя на самом деле - как минимум
в три раза больше. Но самое важное - в материалах проверки говорилось,
что, поскольку Дикович отрицает факт его предложения перепродать костюм,
а свидетелей беседы нет, то «в этой части заявление Теляка является клевет-
ническим»17. Акценты в отчёте были смещены с практики незаконного при-
своения товаров со склада на безответственное поведение Диковича. Однако
и в таком виде материалы расследования Луконина показались руководству об-
лфо достаточно рискованными. Поэтому, когда в начале мая 1941 г. в Вилейку
прибыла проверка из Наркомфина БССР и потребовала показать отчёт, Гор-
функель ответил, что он хранится у Кресина, который якобы в командировке.
После отъезда проверяющих он велел в срочном порядке уволить Диковича.
В составленной Нестеровым служебной записке были приведены следующие
факты недобросовестного поведения: снизил сумму некоторых налоговых на-
числений на 50%; проявлял грубость к людям, «ранее угнетённым польскими
властями»; опоздал на работу на 6 минут; в день католической Пасхи напился
до того, что «потерял облик советского служащего» и залез на чердак конторы
райфо, откуда пришлось его вытаскивать18. Отсутствие в характеристике упо-
минаний о тяжких нарушениях фининспектором своих должностных обяза-
тельств указывает на то, что, видимо, Дикович являлся неплохим работником.
Он был не лучше и не хуже большинства своих коллег: так же вёл разгульный
образ жизни, так же пренебрежительно относился к местному населению, так
же по примеру руководства злоупотреблял служебным положением.
14
Грамматический полонизм, имевший хождение в этом регионе.
15
ГА МО, ф. 653П, оп. 1, д. 50, л. 47. Орфография и пунктуация сохранены.
16
Там же.
17
При этом, согласно устным показаниям Диковича, при разговоре о продаже костюма при-
сутствовала жена Теляка (Там же, л. 42, 50).
18
Там же, л. 42. См. также: Карпенкина Я.В. Советские граждане в Западной Белоруссии,
1939-1941 гг. // Вопросы истории. 2018. № 6. С. 48-56.
120
По иронии судьбы, Дикович сам передал на подпись Горфункелю запеча-
танный в конверт приказ о своём увольнении. Заведующий облфо, как и Не-
стеров, ничего инспектору не сказал. 10 мая 1941 г. Горфункель отчитался
о результатах расследования, сообщив, что «изложенные факты в заявлении
Теляка в основном правильные»19, поэтому Дикович снят с работы. Это вполне
удовлетворило Наркомфин БССР. Материалы по расследованию этого про-
исшествия были рассредоточены по архивным делам областного финотдела,
а бóльшую часть переписки по этому делу Кресин хранил в своём столе.
Но и на этом история не закончилась. В начале июня 1941 г. из Вилей-
ки в Поставы с рабочим визитом приехал один из фининспекторов. Зайдя
в контору райфо, он с удивлением увидел Диковича и рассказал, что, согласно
документам, того уже несколько недель как уволили. Позже Дикович вспоми-
нал: «Зав. облфо Горфункель сговорившись с зав. Поставским райфо чтобы
меня снять с работы, а сами оправдываются… и [Горфункель] меня не спросил
[о причинах увольнения], так как я также в докладной записке упомянул бы
остальных»20. Вероятно, Дикович решил расквитаться с обидчиками и проин-
формировал вышестоящие инстанции (предположительно, Наркомфин БССР)
об участии своего бывшего руководства в распределении конфискованных
костюмов.
В том же месяце прокуратура Вилейской обл. начала проверку деятельно-
сти Кресина и Горфункеля, выявив их многочисленные злоупотребления. Кро-
ме того, стало известно, что вместе с одеждой у Гуревича конфисковали ряд
других ценных по тем временам вещей: ящик мелкого электрооборудования,
отрезы кожи, кусок резины и 252 польских злотых серебром21. В отчёте Луко-
нина отмечалось, что костюмов было 18, хотя на самом деле 26, не считая ещё
брюк, головных уборов, мужских и женских пальто22. Систематически занижа-
лась и стоимость вещей. Так, костюмы были оценены в 180 руб. (фактическая
стоимость - 700-800 руб.), пальто - в 175 при реальной цене 400-500 руб.
и т.д. Получив такую «скидку» на товар, руководящие работники распределили
между собой «абсолютное его большинство»23. К примеру, Кресин со склада
райфо «взял» брюки, шляпу и три костюма. Достались вещи также редактору
районной газеты, заведующим Сберкассой, районо и райторгом, старшему на-
логовому и бюджетному инспекторам24.
Только в мае 1941 г., когда шло расследование по доносу Теляка, и Дико-
вич уже был уволен, райфо постфактум документально оформило начисление
налога на торговца Гуревича. Лишь тогда, спустя полгода после изъятия костю-
мов, поставскому городскому потребительскому обществу (горпо) пришлось
перечислить в государственный фонд вырученные за продажу этого конфи-
ската деньги. Но из причитавшихся 7 350 руб. в счёт погашения недоимки по
налогам Гуревича было передано только 3 896. Куда подевались неучтённые
3 454 руб. - неизвестно.
В следственных документах приведены некоторые личностные и професси-
ональные характеристики основных обвиняемых. Отмечалось, что Горфункель
19
ГА МО, ф. 653П, оп. 1, д. 50, л. 45.
20
Там же, л. 56.
21
Там же, л. 64.
22
Там же, л. 42, 65.
23
Там же, л. 64.
24
Там же, л. 64-65.
121
совершал многочисленные нарушения прав подчинённых, например - уволь-
нял «по сокращению штата» или понижал в должности наиболее своевольных
и активных специалистов25. Его заместитель Кресин во время одной из поез-
док в Поставы в «пьяном угаре организовал свадьбу» местных учителя и акти-
вистки, а утром «расстроил» этот «брак»26. На следующий день свидетельство
о браке было аннулировано, а прокурор Поставского района возбудил уголов-
ное дело, вскоре прекращённое, так как бывшая невеста отказалась от своих
претензий к Кресину27.
За злоупотребления служебным положением и «несоциалистическое по-
ведение» Кресин и Горфункель в июне 1941 г. были уволены, исключены из
партии и подлежали суду. Предположительно, такая же участь ожидала заведу-
ющего райфо Нестерова и руководство горпо. Но 6 июля Поставы оккупиро-
вала германская армия, разбирательства по этим делам были прерваны и уже
не возобновились.
«Восточники» и теневая экономика в Западной Белоруссии. Одной из основ-
ных мер советизации новых областей в 1939-1941 гг. стало командирование
туда «восточников» - советских военных и гражданских служащих, из кото-
рых должен был сложиться административно-управленческий костяк. К началу
1941 г. все ключевые позиции в Западной Белоруссии оказались заполнены
«надёжными» кадрами. Куда более серьёзные трудности возникли с созданием
позитивного образа СССР. Встреча двух «миров» (западного и советского)
в 1939 г. вызывала у их представителей обоюдный культурный шок. «Восточни-
ки» застали на «освобождаемой» территории невиданное ими изобилие товаров.
Местное население с удивлением наблюдало, как советские граждане скупали
всё, что лежало на полках магазинов. Особенно активными покупателями ста-
ли руководящие работники из других областей страны, нередко оформлявшие
в этих целях командировки28. Один из красноармейцев не мог понять, «в чём
заключается освобождение Польши», если там «живут лучше, чем у нас». Дру-
гой в разговоре также отмечал, что «население Западной Белоруссии живёт
лучше, чем население Советского Союза. Когда проезжал по деревням в празд-
ник, то видел, что все хорошо одеты, многие имеют велосипеды»29.
В 1939-1940 г. ситуация с продовольственным снабжением в Советском
Союзе значительно ухудшилась. Быстро росли цены на ткани, головные убо-
ры, бельё, трикотаж, стеклянную посуду, в ряде регионов из продажи исчезли
хлеб и мука, вводились продовольственные карточки. Из-за дороговизны ки-
лограммы и литры, как меры веса, исчезли из употребления, продукты поку-
пали стаканами (молоко), поштучно (картофель), и даже блюдечками (муку)30.
25
Там же, л. 60-63.
26
Так в тексте.
27
Там же, л. 65.
28
В данном случае ситуации в Западной Белоруссии и Западной Украине были идентичны.
Так, в сводке управления НКВД УССР за январь 1940 г. сообщалось, что выездные бригады Нар-
комтекстиля и Наркомлегпрома «бóльшую часть времени посвятили личным закупкам и не при-
везли данных о промышленности, что было основной задачей их поездки» (Баран В.К. Экономи-
ческие преобразования в Западной Украине в 1939-1941 годах // Западная Белоруссия и Западная
Украина в 1939-1941 гг.: люди, события, документы. СПб., 2011. С. 172).
29
НКВД в Западной Белоруссии: сентябрь-декабрь 1939 г.: документы и материалы / Сост.
В.Д. Селеменев, А.Р. Дюков. Минск; М., 2019. С. 62, 70.
30
Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия». Распределение и рынок в снабжении
населения в годы индустриализации 1927-1941. М., 2008. С. 207-219.
122
Перебои со снабжением наблюдались в армии и на военно-промышленных
объектах. Наиболее тяжёлое положение сложилось зимой-весной 1940 г.31
и совпало с направлением «восточников» в новые территории Белоруссии.
Сентябрьская военная кампания нанесла существенный материальный
урон и разрушила прежние торговые связи в западных областях. Уже в октябре
1939 г. в Минск и Москву шли многочисленные доклады о перебоях в за-
возе продовольствия и опустении магазинов32. Советское руководство в 1939-
1941 гг. стремилось решить эту проблему - продовольственные и сырьевые
поставки в западные области БССР превышали объём обеспечения восточных
областей республики; нормы продажи товаров в одни руки были больше, чем
в остальных регионах страны. Но этого оказалось недостаточно, острый дефи-
цит сохранялся33. Так, поставки в Белостокскую обл. в III квартале 1940 г. не
превышали 20-30% от запланированной нормы, некоторая продукция (напри-
мер, валяная обувь) не поступала вовсе34. Приобретя территории с населением
более 12 млн человек, Советский Союз оказался не в состоянии должным об-
разом обеспечить их даже основными товарами.
Серьёзно усугубляли продовольственный кризис меры новой власти по
борьбе с частным рынком. Главным инструментом стали налоги, уже в ноябре
1939 г. повышенные на 50% для владельцев торгово-промышленных предпри-
ятий и прочих лиц с «нетрудовыми доходами» (например, землевладельцев)35.
Работы лишились торговцы десятков тысяч разорившихся лавок, до войны
бывших основой торговой инфраструктуры в Восточной Польше. Не имея
иных возможностей заработать, большинство из них продолжили свою дея-
тельность подпольно. В нелегальных сделках купли-продажи участвовали даже
юридические лица: предприятия приобретали на «чёрном» рынке необходимое
оборудование, а рестораны - продукты питания36.
Несмотря на суровое наказание (лишение свободы на 5-10 лет без пра-
ва применения амнистии37) в Советском Союзе спекуляция стала распростра-
нённым и прибыльным занятием38. Дж. Хесслер отметила, что колоссальные
31
Там же.
32
НКВД в Западной Беларуси… С. 28, 75.
33
Национальный архив Республики Беларусь (далее - НА РБ), ф. 4П, оп. 1, д. 14536, л. 9.
34
Yad Vashem Archive. Спецсообщения и докладные работников НКВД, суда и прокуратуры
об антисоветской деятельности контрреволюционных и враждебных элементов (RG-M.41*3097.
Item ID: 6195191, л. 5-6).
35
НА РБ, ф. 4П, оп. 1, д. 14728, л. 55-57.
36
В довоенной Польше также имела место «теневая» экономика. Но в отличие от «советского
варианта», на польском «чёрном» рынке торговали не продуктами первой необходимости, а валю-
той и предметами роскоши, добытыми с помощью контрабанды и грабежа (Дюллен С. Уплотнение
границ: к истокам советской политики. 1920-1940-е. М., 2019. С. 131-148; Полуян И. Западная Бе-
лоруссия в период экономического кризиса (1929-1933 гг.). Минск, 1991; Ляхоўскі У., Нашчынец К.
Кантрабанда ў БССР у 1920-1930-х гг.: сацыяльна-эканамічнае вымярэнне // Arche Пачатак. 2015.
№ 11. С. 295-323). Соответственно, в межвоенные годы участие местных жителей в работе «чёр-
ного» рынка не было всеобщим.
37
Уголовный кодекс РСФСР. М., 1937. С. 166-168.
38
О роли спекуляции в советской плановой экономике см. подробнее: Nove A. An economic
history of the USSR 1917-1991. L., 1992; Ledeneva A.V. Russia’s economy of favours: Blat, networking
and informal exchange. Cambridge, 1998; Hessler J. A Social history of Soviet trade. Trade policy, retail
practices, and consumption, 1917-1953. Princeton; Oxford, 2004; Heinzen J. The art of the bribe: corruption
under Stalin, 1943-1953. New Haven; L., 2016; Хлевнюк О.В. «Толкачи». Параллельные стимулы
в сталинской экономической системе. 1930-е - 1950-е годы // Cahiers du Monde Russe. 2018. Т. 59.
№ 2-3. С. 233-254; The soviet economy and the approach of war, 1937-1939 / Ed. by R.W. Davies,
123
масштабы и разнообразные формы частной торговли в СССР позволяют го-
ворить о формировании в сталинском обществе особой «культуры дефицита».
Для неё характерна ситуация, при которой каждый может одновременно быть
и продавцом, и покупателем. Дж. Хейнцен предлагает рассматривать корруп-
цию в СССР как разновидность «искусства», «практику, которую мы можем
понимать как тип переговоров, формируемых культурными контекстами и от-
ношениями, а не просто как социально опасное преступление или моральное
зло»39. На примере Магнитогорска С. Коткин показал, что ввиду почти полно-
го отсутствия государственной торговой инфраструктуры и товаров народного
потребления, потребительский спрос насыщался почти исключительно за счёт
нелегальной рыночной активности общества. Такая модель способствовала
стабилизации сталинского режима, но в то же время размывала понятия за-
конности и преступности40.
Поскольку в западных областях БССР процесс налаживания советской тор-
говой сети проходил не слишком успешно, в начале 1940 г. республиканское
правительство пошло на временное сохранение предпринимательства, выдавая
патенты на занятия кустарным ремеслом, мелкой торговлей. Однако из-за вы-
соких налогов многие торговцы и кустари массово сдавали патенты уже через
несколько месяцев после получения. Популярной стала практика, при которой
за одним патентом скрывались нелегальные предприятия и группировки (ве-
роятно, такой формат работы давал больше возможности уплатить требуемый
налог).
В Западной Белоруссии на первое место по доходности вышла спекуля-
ция мясными продуктами. Не желая вступать в колхозы и обобществлять своё
имущество, крестьяне массово продавали свой скот нелегальным скупщикам41.
Так, в декабре 1940 г. в Белостоке были задержаны пять человек, которые
занимались перепродажей мяса, имея лишь один патент. Кроме скота и боль-
шого количества овчин, у них при аресте обнаружили 131 тыс. руб.(!)42. В связи
с этим можно предположить, что материальный достаток поставского торговца
мясом Теляка действительно мог быть сравнительно высоким. Характерно так-
же, что он держал предприятие, в котором кроме него работали ещё по крайней
мере три человека, не имевших патента.
Советская экономическая модель, со свойственным ей балансом офици-
ального и «теневого», в считанные месяцы была экстраполирована на новое
пограничье. Во многом этому поспособствовали «восточники», учившие новых
сограждан «искусству» жить по-советски43. Одной из привнесённых практик
«культуры дефицита» стало давно известное в СССР закрытое распределение
товаров44. Популярным был вариант продажи по «магазинным спискам»45,
в которые включались, как правило, привилегированные местные чиновники.
M. Harrison, O. Khlevniuk, S.G. Wheatcroft. L., 2018; Khlevniuk O. The Pavlenko construction enterprise.
Large-scale private entrepreneurialism in Stalin’s USSR // Europe-Asia Studies. 2019. Vol. 71. № 6.
P. 892-906.
39
Heinzen J. The art of the bribe… Р. 95.
40
Kotkin S. Magnetic mountain. Stalinism as a Civilization. Berkeley, 1995. P. 279.
41
НА РБ, ф. 4П, оп. 1, д. 16867, л. 3.
42
Там же, д. 16848, л. 228.
43
Pinchuk B.-C. Shtetl Jews under Soviet Rule: Eastern Poland on the eve of the Holocaust. Oxford,
1990. P. 63.
44
РГАСПИ, ф. 17, оп. 22, д. 220, л. 54-55.
45
Там же, д. 225, л. 55.
124
Дефицит нередко доставляли на дом. Мойше Канторович, житель местечка
Шершев (недалеко от Бреста), в 1939 г. работал курьером в местном отделении
райпотребсоюза. Свои должностные обязанности он вспоминал так: «Товары
всегда доставляли в небольшом количестве, и население… даже не знало об их
поступлении. В мои задачи входило тайно разносить эти товары по домам вос-
точников… Причём я должен был вручать дефицитные товары именно жёнам
восточников. Это делалось на случай обнародования этих махинаций, чтобы
восточники могли сделать вид, что сами лично не были осведомлены о данной
схеме и не участвовали в ней»46.
Для того чтобы разобраться в сути поведения «восточников», необходимо
обратиться к истории неформальных связей в среде сталинской бюрократии.
Как известно, номенклатура важнейших должностей, подлежащих утвержде-
нию в Москве, была принята в 1926 г. с целью введения повсеместного пар-
тийного контроля. Однако эта мера так и не привела к жёсткой централизации.
Сложная система подчинения включала разнообразные и многочисленные не-
легальные каналы и связи47. Важной частью социальной иерархии на всех уров-
нях стал клиентелизм. Лояльность и личное продвижение шли рука об руку,
а «отношения покровительства пронизывали всё советское общество»48.
На пленуме ЦК ВКП(б) в 1937 г. И.В. Сталин говорил в том, что нередко
местные руководители подбирают себе подчинённых не по мотивам и ком-
петенциям, а по знакомству или землячеству49. Действительно, все более или
менее влиятельные советские чиновники разных ведомств и учреждений стре-
мились к тому, чтобы с ними работали «свои» люди. Это давало возможность
контролировать поток информации, идущий к высшему начальству, а также
по-своему понимать директивы и указания, спущенные «сверху». Такие патрон--
клиентские отношения (в документах тех лет - «семейственность») предостав-
ляли региональным и отраслевым ведомствам относительную независимость.
Порицаемая на официальном уровне, эта социальная модель фактиче-
ски являлась общепринятой. Преданность окружения была исключительно
важна для сохранения влияния и власти50. Как пишет О.В. Хлевнюк, для
краевых и областных руководителей «моральная чистота… не входила в число
первостепенных критериев оценки работника, по крайней мере, до тех пор,
пока “морально-бытовое разложение” не выходило за определённые рамки
и не становилось предметом громкого скандала, который не удавалось замять
(курсив мой. - Я.К.)»51. Эта специфика зафиксирована и в деле поставского
райфо. Горфункель стремился держать рядом только лояльных подчинённых,
а Нестеров до последнего не решался отправить в отставку провинившегося
Диковича.
46
Kantorowitz M. My mother’s bequest: from Shershev to Auschwitz to Newfoundland [Canada],
2004. Р. 186.
47
См.: Хлевнюк О.В. Система центр-регионы в 1930-1950-е годы. Предпосылки полити-
зации «номенклатуры» // Cahiers du Monde Russe. 2003. Т. 44. № 2-3. С. 253-268. См. также:
Gregory P.R. The political economy of Stalinism. Cambridge, 2004. P. 110-242.
48
Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы:
город. М., 2008. С. 134.
49
Там же. С. 44.
50
Хлевнюк О.В. Центр-региональные отношения в 1930-е годы. Лоббирование и клиентелизм
в сталинской системе управления // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление (го-
сударство и общество). 2004. № 3. С. 5.
51
Там же. С. 14.
125
В советской властной системе довоенных лет прослеживалось весьма
терпимое отношение к «морально-бытовому разложению». В архивных до-
кументах западных областей БССР часто упоминаются банкеты (нередко за
счёт госсредств) и «хулиганские» происшествия во время них, свидетельства
многочисленных злоупотреблений служебным положением
«восточников»,
их связей с «сомнительными женщинами» и с «чуждым спекулятивным эле-
ментом»52. Важнейшим способом формирования
«круговой поруки» были
коллективные нарушения «партийной морали». Хлевнюк объясняет этот фе-
номен тем, что «в сталинской системе руководители нередко предпочитали
иметь дело со скомпрометированными подчинёнными, которые нуждались
в защите, а следовательно, зависели от своего патрона»53. Так создавались
«административные клики», состоящие из начальников местных учреждений
и партийной «номенклатуры». Неслучайно в распределении конфискованных
у Гуревича костюмов участвовали только ключевые поставские чиновники (ре-
дактор районной газеты, заведующие районо, Сберкассой, райторга и «д[ругие]
р[уководители]»54).
Власть, с присущими ей «византийскими» нравами, направляла на места
не директивы с чёткими инструкциями, а «сигналы» о проблеме, которую
необходимо как-то решать. Как пишет Ш. Фицпатрик, иногда это приводи-
ло «к самым нелепым результатам, когда, например, определённые катего-
рии должностных лиц не ставились в известность об инструкциях, имевших
к ним непосредственное отношение, потому что инструкции были секретны-
ми»55. Эта социальная практика сильно напоминает процедуру увольнения
Диковича.
В Западной Белоруссии советская социальная иерархия и поддерживаю-
щие её нормы приобрели свою специфику. В 1939-1941 гг. местному обществу
была присуща ярко выраженная дихотомия «свой-чужой», а на взаимоотно-
шения между социальными группами влияли межкультурные противоречия.
«Восточники» ощущали себя в регионе хозяевами, относились к населению
снисходительно, нередко - пренебрежительно. По свидетельству современни-
цы, они «были нашими господами и имели право на всё»56. Такое положение
способствовало нарастанию социальной напряжённости. Белостокский школь-
ный учитель в ноябре 1940 г. жаловался, что коммунисты «только издеваются
над народом… Я поссорился с заведующим отделом народного образования
Горошко из-за того, что он называет меня товарищем; сыт[ый] голодному не
товарищ. Они приехали из восточных областей, получают большую зарплату,
а нас морят голодом, называя товарищами»57. Характерная для взаимоотноше-
ний «западников» и «восточников» мнительность частично объясняет взаимное
недоверие Теляка и Диковича, а также неготовность торговца помочь финин-
спектору с продажей костюма.
Патрон-клиентские связи возникали и в отношениях между приезжими
и местными, чему сильно способствовала жилищная политика советской вла-
сти. В 1940 г. всё частное жильё, превышавшее определённую «жилищную
52
См.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 22, д. 218-240.
53
Хлевнюк О.В. Центр-региональные отношения… С. 14-15.
54
ГА МО, ф. 653П, оп. 1, д. 50, л. 64-65.
55
Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм… С. 37-38.
56
Ватова О. Всё самое важное. М., 2014. С. 47.
57
НА РБ, ф. 4П, оп. 1, д. 15345, л. 21.
126
норму»58, было муниципализировано или национализировано. Как правило,
эти помещения превращались в коммуналки, а бывшим хозяевам приходилось
на равных условиях делить место с новыми жильцами59. Некоторые «запад-
ники» стремились поселить у себя приезжих советских чиновников. Хозяева
предлагали им лучшие комнаты и всячески старались поддерживать добросо-
седские отношения, добиваясь таким путём расположения и защиты. К при-
меру, в Белостоке в январе 1940 г. «восточник» Лебедев, руководитель област-
ной конторы Заготльна, вселился на квартиру к бывшему владельцу фабрики,
а через неделю принял его на работу и защитил от окончательного выселения,
подключив свои связи в Горжилуправлении60. Аналогичный случай зафикси-
рован в воспоминаниях М. Канторовича. В 1940 г. его дядя, бывший крупный
торговец, «взял» к себе на квартиру «восточника», благодаря чему не только
избежал национализации своего жилья, но получил для себя и для ряда сво-
их родственников «хлебные» должности в райпотребсоюзе61. Схожую картину
можно увидеть и в поставской истории. Вероятно, Теляк пригласил к себе Ди-
ковича в качестве жильца с определённым умыслом, ведь его соседом стано-
вился фининспектор - важнейшая для торговца фигура.
Впрочем, сталинская административно-управленческая система не отли-
чалась стабильностью, и выбросить чиновника «с положенной ему орбиты
казённого кружения»62 мог любой, даже самый незначительный случай. При
определённом стечении обстоятельств на свет извлекались скрытые в обыч-
ное время подробности «номенклатурной» жизни. Зачастую поводом служила
личная обида одного из членов «бюрократического семейства», что и про-
изошло в поставском райфо. При этом наказание «маленького человека»,
винтика большой коррумпированной системы, было весьма в духе сталин-
ской властной иерархии. Советский политический режим имел обыкновение
отрекаться от своих слуг, наказывая их за свои же грехи. Ровно это и про-
изошло с Диковичем, а позже и с его коллегами Кресиным и Горфункелем
в 1940-1941 гг.
* * *
Советизацию бывших польских территорий прервало нападение Германии
на СССР. Столь непродолжительное, но весьма тесное соседство советских
граждан с местным населением способствовало их постепенному сближению.
Тем не менее новоприобретённое в 1939 г. западное пограничье по культуре
и уровню жизни отличалось от СССР. Попав в этот инокультурный регион,
«восточники» в определённой степени переживали десоветизацию. Некоторые
из них возвращались к религии63, многие пересматривали свои политические
убеждения и абсолютно все увлечённо занимались самообеспечением.
58
Норма «жилплощади» разнилась. Например, в Белостоке в апреле 1940 г. она составляла
4,2 кв. м на человека (РГАСПИ, ф. 17, оп. 22, д. 228, л. 41; д. 220, л. 129).
59
Реже в таких помещениях открывались конторы многочисленных советских «учреждений»
(См.: Карпенкина Я.В. «Квартирный вопрос» в Западной Белоруссии и еврейское население, 1939-
1940 гг. // The Soviet and Post-Soviet Review. Vol. 45. 2018. № 1. P. 73-98).
60
НА РБ, ф. 4, оп. 1, д. 15268, л. 2.
61
Kantorowitz M. My mother’s Bequest… Р. 190-191.
62
Лейбович О. Маленький человек сталинской эпохи: попытка институционального анали-
за // История сталинизма: итоги и проблемы изучения. Материалы международной научной кон-
ференции, Москва, 5-7 декабря 2008 г. М., 2011. С. 171.
63
ГА МО, ф. 614, оп. 1, д. 31, л. 8.
127
Если рассматривать процесс советизации западных областей в широком
контексте, то в 1939-1941 гг. этот регион предстаёт в виде своего рода «со-
ветского социума в миниатюре». Случай в Поставах наглядно демонстрирует,
как порождённый планово-распределительной экономикой дефицит формиро-
вал специфическую норму социальных отношений и своеобразные этические
представления. По образному выражению С. Коткина, советская система пред-
ставляла собой «сплав» законного и «теневого», при этом неформальные и не-
легальные подсистемы способствовали стабилизации политического режима64.
Я.Т. Гросс назвал политику советизации западных областей БССР и УССР
«революцией из-за границы»65. Этот концепт нуждается в некотором уточне-
нии, но в 1939-1941 гг. действительно наблюдался весьма интенсивный «экс-
порт» советских институтов, привнесение формальных и неформальных прак-
тик социальной коммуникации (в данном случае, секретного распределения,
лоббизма, клиентелизма, системы «сигналов из центра»). Ценности и образ
мыслей «восточников» также ощутимо влияли на социальную среду в новом
пограничье. К 1941 г. нормой экономического поведения в западных областях
стало распределение нелегально конфискованных товаров, которые были спря-
таны для продажи на нелегальном рынке.
История, произошедшая в Поставах в 1940-1941 гг., могла в то время про-
изойти практически в любом уголке СССР. К июню 1941 г. создание совет-
ской институциональной среды в новом пограничье было в целом завершено,
чего нельзя сказать о «ментальной» советизации. Местные жители, тем не ме-
нее, успели ощутить все «прелести» советской повседневности. В июле 1945 г.,
согласно советско-польским соглашениям о репатриации, часть выходцев из
Западных Белоруссии и Украины вновь получила статус польских граждан66.
К августу 1946 г. из Советского Союза в Польшу возвратились 228 814 бывших
польских граждан. Массовая волна послевоенной репатриации среди прочего
указывает на отношение «западников» к советской социальной среде, которая
была сформирована в эпоху сталинизма.
64
Kotkin S. Magnetic mountain… P. 536.
65
Gross J.T. Revolution from abroad…
66
В документах шла речь о поляках и евреях, которые до 17 сентября 1939 г. состояли в поль-
ском гражданстве (ГА РФ, ф. 9415, оп. 3, д. 1400). Основанием для репатриации мог быть совет-
ский паспорт с соответствующей отметкой о принадлежности заявителя к польскому гражданству,
а также военный билет, свидетельство о рождении, диплом и т.п. (Пискунов С.А. Возвращение на
Родину: Участие переселенческих органов РСФСР в репатриации польских и советских граждан
в 1945-1946 гг. // Социум и власть. 2012. № 5(37). С. 111, 112).
128