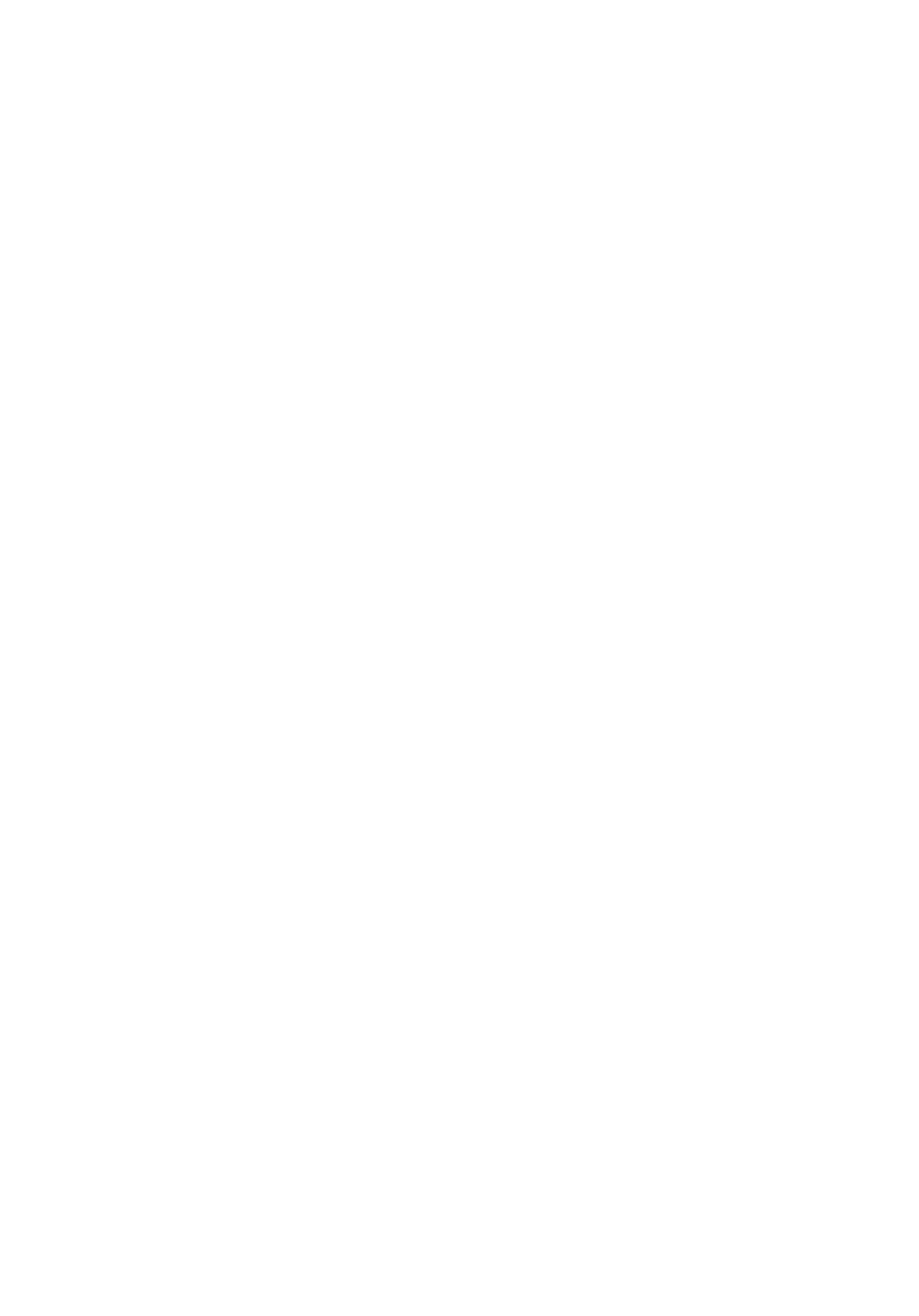Дмитрий Олейников: Антигерой как герой, или Опыт биографии
проходимца
Dmitry Oleynikov (The Museum of chess, Chess Federation of Russia,
Moscow): An antihero as a hero, or An attempt of a scoundrel’s biography
DOI: 10.31857/S0869568722010150
В ñâîåé êíèãå ïðîфåññîð В.В. Зâåðåâ ïîïыòàëñÿ ðàзðåшèòü íåïðîñòóю зà-
äà÷ó ñî÷åòàíèÿ íàó÷íîñòè è óâëåêàòåëüíîñòè. Аâòîðà ÿâíî íå óñòðàèâàåò «êîñ-
íîÿзы÷íàÿ ïðîзà íàó÷íîãî àíàëèзà», ÷òåíèå êîòîðîé, ïî åãî ìíåíèю, ñхîæå
ïî óäîâîëüñòâèю ñ зàó÷èâàíèåì òàáëèцы óìíîæåíèÿ (ñ. 412). Íî äëÿ íåãî íå-
ïðèåìëåì è ñîáëàзíÿющèé ïîïóëÿðèзàòîðîâ íàóêè «òåàòðàëüíî-íåðâåííыé
íàäðыâ ñ ãîëîñîâыì ïîäâыâîì» (ñ. 38). Хî÷åòñÿ ïðîéòè ïî ãðàíè, óäåðæàòüñÿ,
íî ïðè эòîì îòêàзàòüñÿ îò ïðîñòåéшèх ðåцåïòîâ: íå èñïðàâëÿòü îáыäåííîñòü
ïðîшëîãî â ñòîðîíó эêñòðàîðäèíàðíîñòè (ñ. 413), íå ïèñàòü ñ ðåфðåíîì «âñё
áыëî ñîâñåì íå òàê», íå íàêëàäыâàòü íà èññëåäóåìóю òåìó ãîëëèâóäñêîå ëåêàëî
«áîðüáà хîðîшåãî ïàðíÿ ñ ïëîхèìè». Иñòîðèê ñåòóåò: «Пî-ñòàðîìó íå хî÷åòñÿ,
à ïî-íîâîìó ïîëó÷àåòñÿ хëèïêî» (ñ. 38). В ðåзóëüòàòå, íàìåðåííî èëè íåò, íî íà
ïåðâыé ïëàí â ìîíîãðàфèè âыхîäèò ïðîáëåìà: «Кàê ñîåäèíèòü îáðàз è фàêò?
Лёãêîñòü, ïðîñòîòó, äîñòóïíîñòü èзëîæåíèÿ ñ óáåäèòåëüíîñòüю è äîêàзàòåëü-
íîñòüю?» (ñ. 37). Вñïîìèíàÿ óñïåшíыé ïðîåêò С.С. Сåêèðèíñêîãî «Иñòîðèê
è хóäîæíèê», Зâåðåâ ñïðàшèâàåò: «А ïî÷åìó íå ïîïðîáîâàòü? Пî÷åìó íàäî
ñòàâèòü ìåæäó хóäîæíèêîì è èñòîðèêîì ïðåñëîâóòыé ñîюз “èëè”. Ìîæåò, ïðà-
âîìåðíåå - äåфèñ?» (ñ. 37).
В áèîãðàфèè, ãäå ïðèхîäèòñÿ ðåшàòü èзâå÷íóю ïðîáëåìó
-
«ïîêàзыâàòü ÷åëîâåêà ÷åðåз эïîхó èëè эïîхó ÷åðåз ÷åëîâåêà», àâòîð ñòðåìèòñÿ
îòêàзàòüñÿ îò ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ è äîñòè÷ü ñèíòåзà (ñ.
426),
÷òîáы
ðàзîáðàòüñÿ â ïðè÷èíàх, âåêòîðå è ñòåïåíè èзìåíåíèé ëè÷íîñòè ãåðîÿ.
Г.П. Сàзîíîâ íà÷èíàë ñ âîзâышåííîãî íàìåðåíèÿ «îòäàòü ñåáÿ ñëóæåíèю
íàðîäó, ïîñâÿòèòü ñâîè ñèëы áëàãó ëюäåé òðóäà», æåëàíèÿ «èññëåäîâàòü è ïî-
íÿòü îáщèå íàïðàâëåíèÿ хîзÿéñòâåííîãî ðàзâèòèÿ ñòðàíы». А ïîòîì… Аâòîð
íåäîóìåâàåò: «êóäà æå âñё óшëî?», «÷òî îñòàëîñü?», êàê è êîãäà ïîÿâèëîñü
«ñòðåìëåíèå ïðèñïîñîáèòüñÿ, ïðèñòðîèòüñÿ ê âëàñòè, íàéòè íàäёæíîãî ïîêðî-
168
вителя, который и защитой обеспечит, и… безбедное существование гаранти-
рует» (с. 371)? Ответить на такой вопрос не позволят ни дальнозоркий взгляд
«со спутника», ни близорукий - «со дна окопа» (с которого хорошо видно
только дно окопа). Зверев в поисках ответа отправляет читателя вслед за Сазо-
новым в своего рода «средний путь» по истории и по стране.
Читатель видит географически и исторически разную Россию с 1870-х до
середины 1920-х гг., причём такой, какой её запомнил конкретный историче-
ский деятель, с его собственными комментариями и с пояснениями историка,
применяющего метод «недоверчивого чтения». В какой-то момент возникает
догадка, за кем именно следует автор. Она ещё больше укрепляется, когда на
страницах книги появляются Манилов и Ноздрёв (с. 59), затем - Чичиков
и «мёртвые души» (с. 214). И вот новый проходимец несётся во времени и про-
странстве империи - только уже не в бричке, а в железнодорожном вагоне. По
эпохе, где, с одной стороны, «Наш паровоз, вперёд лети!», а с другой - «А по
бокам-то всё косточки русские…».
Исключённый из гимназии за «дерзкий проступок против шедшей по ули-
це жены жандармского полковника», Сазонов предпринимает своё «хождение
в народ» - в трактир, где под пиво и водку рассказывает местным сапожникам,
как хорошо собраться в одну «осецыацею», чтобы «жить по-барски». Слушате-
ли внимают, едят, пьют и ждут: поскорей бы он уехал. Через десять лет Сазо-
нов признает: «Плачевно закончился этот опыт… Разочарование было полное
и безусловное» (с. 81-83). И движется дальше - по времени и по России: от
изучения артелей на деньги А.И. Кошелёва (с. 105-106, 144) и тщетных по-
пыток защитить крестьян в качестве поверенного (с. 125) к покровительству
А.Д. Пазухина и К.П. Победоносцева, к монаршему благоволению Алексан-
дра III. Собственноручное царское «благодарить» на докладе «О неотчуждаемо-
сти крестьянских земель» 1893 г. долго служило Сазонову охранной грамотой
и рекомендательным письмом (с. 191-192).
Не может не быть интересен читателям и исследователям «смежных» тем
человек, который являлся редактором, опубликовавшим памфлет А.В. Амфи-
театрова «Господа Обмановы», стоял 9 января 1905 г. в рядах демонстрантов
на углу Невского и Адмиралтейской (с. 266-267), а позже «входил в круг до-
веренных лиц Распутина, даже считался некоторое время его другом» (с. 321),
мечтал о подобии Госплана (с. 350-351). В ноябре 1918 г. Сазонов побывал
у В.И. Ульянова (Ленина), который, по словам самого Георгия Петровича,
продержал его четыре часа и принял «братски родственно» (с. 414). С М.И. Ка-
лининым Сазонов общался как делегат Общества учёных (с. 417), а редактор
«Известий» Ю.М. Стеклов привечал его как любимого автора (с. 418) и в 1923 г.
печатал сочинявшиеся бывшим монархистом проекты преобразования произ-
водительных сил страны…
В 1932 г. 80-летний Сазонов боролся за обеспеченную старость. Он писал
«Автобиографию», пытаясь показать себя последовательным борцом с цар-
ским режимом. Проделанный в монографии мастерский анализ этих воспо-
минаний можно считать своего рода практическим приложением к неодно-
кратно выпускавшейся Зверевым «Методике научной работы». Например, для
понимания мировоззрения героя автор старается «присмотреться к его кругу
чтения, за которым маячат более осязаемые контуры теоретических пристра-
стий и попытки конкретной деятельности» (с. 73). Зверев сталкивает, крити-
чески сопоставляет мемуарный текст и строки полицейских дел (которые сам
169
и отыскал в архиве), показывает, как по России словно бы путешествовали
два Сазонова: тот, что «был на самом деле» (с. 192-193), и тот, каким он себя
описывал. При этом «все персонажи его воспоминаний - массовка, а на сце-
не господствует он один». Иной раз «пингвином выступает он среди толпы
почитателей» (с. 366). В итоге исследователь приходит к выводу, что Сазонов--
мемуарист - обманщик, да ещё редкой породы (с. 371). Проследив жизнен-
ный путь Сазонова, Зверев уверенно раскрывает главную его поведенческую
мотивацию. При «гипертрофированном самомнении, пламенном желании
играть значимую роль в жизни России (неважно, при каких обстоятельствах
и условиях)», он «мечтал занять подобающее место в ряду властителей дум»
(с. 245). Для достижения данной цели у него сложилась весьма эластичная
философия. Сазонов - «консервативный народник», сторонник полновла-
стия одного лица при законосовещательном Земском соборе (с. 283-284),
в кризисном ноябре 1916 г. он выступал за наделение И.Г. Щегловитова дик-
таторскими полномочиями (с. 338). В таком народничестве Георгий Петро-
вич не видел ничего противогосударственного (с. 272), утверждал, что это
учение вытекает «из кристаллически чистых родников славянофильства».
Он также полагал, что «русский народ, проникнутый началами общинности,
артельности, обычного права, создавший колоссальную кустарную промыш-
ленность, владеющий огромною площадью надельных земель, при распро-
странении натурального хозяйства должен развиваться не по европейским те-
ориям и кабинетным шаблонам, а самобытно, на исторических устоях, путём
национального прогресса, поэтому путь капиталистического развития к нам
неприменим» (с. 272). Неудивительно, что Сазонову казалась неприемлемой
политика П.А. Столыпина, разрушавшая русскую общину с её духом вза-
имопомощи и будто бы навязывавшая крестьянам «этику зверей» социал--
дарвинизма, в которой «сильный поедает слабого» (с. 303). С опаской при-
сматривался он и к марксизму, предсказывая: «Потрясающими катастрофами
грозит эта новая вера при свойствах увлекающейся русской натуры» (с. 274).
Но воплощением всех худших качеств политика Сазонов считал С.Ю. Витте:
космополит, фанатичный апостол разрушения, поклонник «бога злата», бес-
принципный железнодорожный делец, не подготовленный к высоким госу-
дарственным постам, чуждый народу и его нуждам (с. 284), даже марксист,
приближающий торжество капитализма (с. 275). Впрочем, и Витте, диктуя
воспоминания, изображал Сазонова «в самом неприглядном виде - мораль-
но нечистоплотным субъектом, черносотенцем, мастером закулисных ин-
триг, шантажистом, взяточником» (с. 365, 419). Вообще, как отмечает Зверев,
в проштудированных им мемуарах и дневниках никто не отзывался о Георгии
Петровиче хорошо (с. 422).
Сазонов больше похож не на учёного, а на изображающего мыслителя эру-
дированного и эмоционального журналиста, «завсегдатая политического за-
кулисья» (с. 345) с хорошим чутьём на актуальное. Иногда проблемы, то ли
прочувствованные им, то ли где-то подхваченные, действительно интересны:
он «видит», как в обводнённой Москве пароходы разгрузят трамвайное движе-
ние (с. 43), как из Куры и Аракса проляжет водный путь через Тигр и Евфрат
в Персидский залив (с. 42), как дамба через Керченский пролив поднимет
уровень Азовского моря (с. 44), как хлеб и сахар из древесины победят голод
(с. 46). Ради исполнения своей мечты об обводнении миллиона десятин Зака-
спийской области (с. 286-288) Сазонов готов использовать чудодейственное
170
влияние хоть Распутина (с. 331, 342-343), хоть Калинина (с. 417). Но, умея вы-
являть и красиво формулировать проблемы (с. 350), он, увы, не мог их решать,
его «пророчества и прогнозы отнюдь не всегда сопровождались объективной
оценкой предлагаемых правительством мер» (с. 304). Как тут не вспомнить
герценовское «мы не врачи, мы боль»?
Пытаясь сделать исследование более личным, Зверев не скрывает от чи-
тателя своих неудач: не нашёл ни одного портрета Сазонова, не установил
дату его смерти (с. 424) и т.п. «Потому-то нас мало и читают, что за сухой
научностью исчезает история поиска и находок, открытий и разочарований,
которые могут быть не менее интересны, чем сами результаты работы» (с. 37).
Но важно, чтобы здание монографии не выглядело уж совсем как центр Жоржа
Помпиду - всеми коммуникациями и арматурой наружу, по принципу «когда
надо писать, а не о чем, пиши о том, как трудно писать» (с. 410).
Автор часто приглашает читателей к размышлениям и диалогу: о революции
и реформе (с. 307-310), о том, насколько правомерно желание историка «хули-
ганить в отношении стиля», «идти по узкому стилистическому буму» (с. 411),
о разнице между литературой и историей (с. 412). И с ним хочется поспорить.
В частности, действительно ли главное отличие между писателем и историком
состоит в тех «кирпичиках», которые они используют: образ или факт (с. 412)?
Ведь и романисты вовсю оперировали фактами - достаточно вспомнить хотя
бы «Войну и мир» или «Красное колесо», а исследователи с удовольствием
пользуются образами и метафорами, будь то «Осень средневековья» или «Сыр
и черви». И разница скорее в цели воздействия, в том, что является главной
(и даже священной) задачей: установление «исторической истины» или погру-
жение читателя в бурное море эмоций.
Вместе с тем осуществлённый автором книги синтез жанров суммирует не
только их достоинства, но и недостатки. Так, некоторые речевые обороты мо-
нографии кажутся слишком разговорными для письменного текста («странная
всё-таки штука - жизнь», «Мало ли в России Сазоновых? Почти как в Брази-
лии дон Педров» (с. 9), «слёзокаписто-слюнявый сериал» (с. 322), повторяюще-
еся «и к попу не ходи» и т.п.). Иногда проскальзывают неточности в передаче
известных выражений («уж сколько раз твердили свету» (с. 18), «проверим ал-
гебру геометрией» (с. 185)). Поиски эффектного заголовка приводят к заим-
ствованию названия подзабытого телеромана И. Ольшанского «Такая короткая
долгая жизнь».
Остаются в тексте и черты критикуемых «строго научных» монографий.
Прежде всего - громоздкость конструкции, возникающая из-за больших отсту-
плений от основной темы. Стоило ли повторять уже известные сведения про
Г.П. Судейкина и дегаевщину (с. 103), про А.В. Амфитеатрова (с. 219-220) или
заметки К.Ф. Головина (с. 254-256)? Великоваты по объёму цитаты из памфле-
та Илиодора (Труфанова) о Распутине (с. 324-326), рассказ о Г.А. Лопатине
(с. 345), реконструкция взглядов П.П. Мигулина по материалам диссертации
Е.В. Балахоновой (с. 352-359).
Порою Зверев неоправданно забывает про Сазонова ради других героев, но
утяжеляют чтение и те страницы, на которых Георгий Петрович забывает про
автора, например, утопая в многостраничном отчёте попечителя Петропавлов-
ской больницы и городских родильных приютов (с. 375-388). После 13 стра-
ниц разных подробностей историк и сам признаёт: «Утомил своим отчётом
Сазонов» (с. 388). И сразу же обстоятельно излагает «Объяснения на отчёт»
171
(ñ. 389-395), ïåðåхîäÿ ê äåòàëüíîìó ðàññêàзó î зàñåäàíèè ñàíèòàðíîé ïîäêî-
ìèññèè (ñ. 396-405).
Òàê èëè èíà÷å, â èñòîðè÷åñêîå ïîëîòíî âîзâðàщåíà äîâîëüíî зàìåòíàÿ фè-
ãóðà. Пðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî íàïðàñíî В.В. Зâåðåâ áåñïîêîèòñÿ î òîì, «êîìó âñё
íàïèñàííîå áóäåò èíòåðåñíî, è áóäåò ëè?» (ñ. 426). Зàäóìàííîå èì â цåëîì
óäàëîñü, è ïóñòü íå ìàññîâыé, íî ïðîñâåщёííыé ÷èòàòåëü ñêàæåò: «Íàó÷íàÿ
ìîíîãðàфèÿ, à ÷èòàòü èíòåðåñíî. И ïîëåзíî».
172