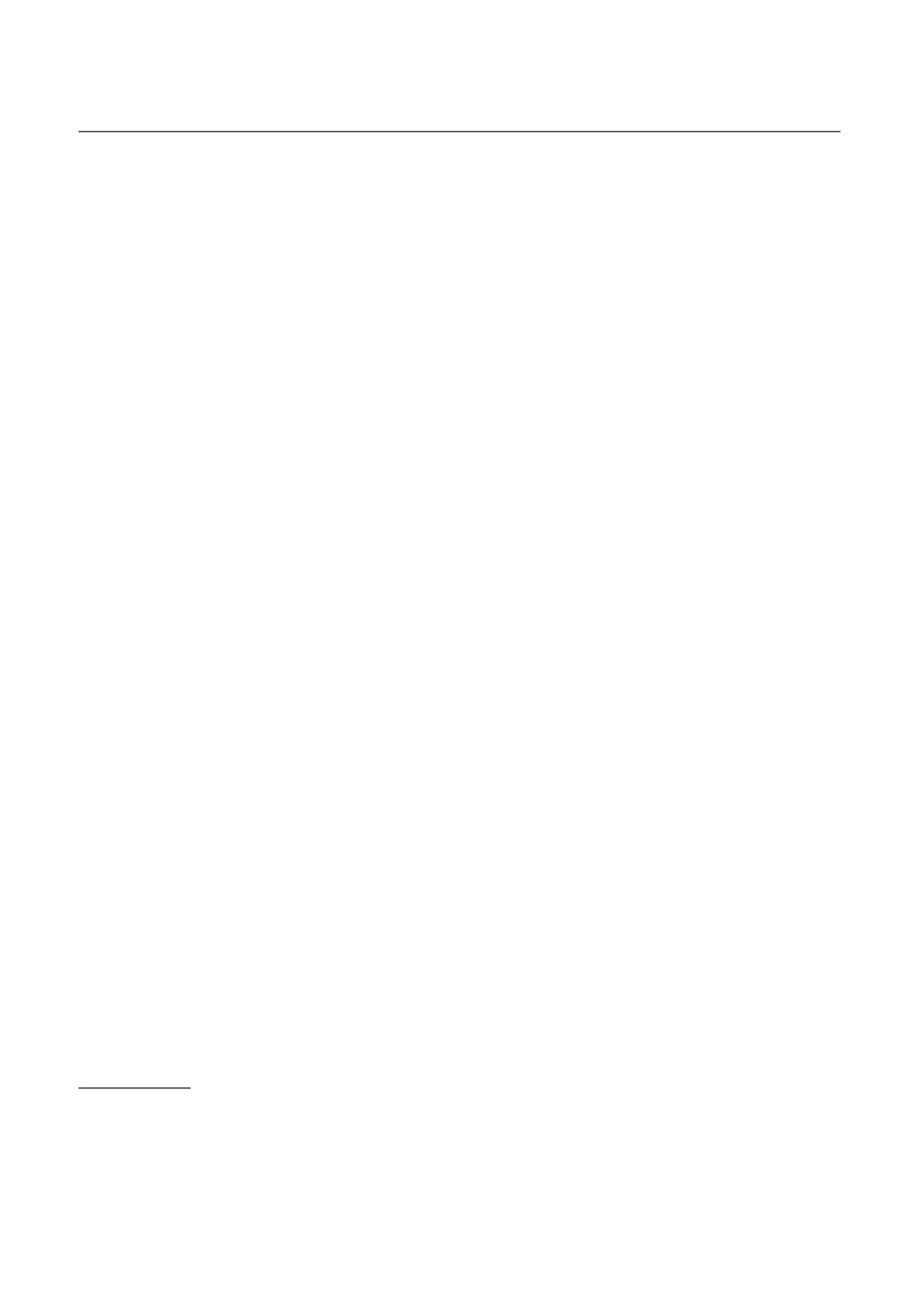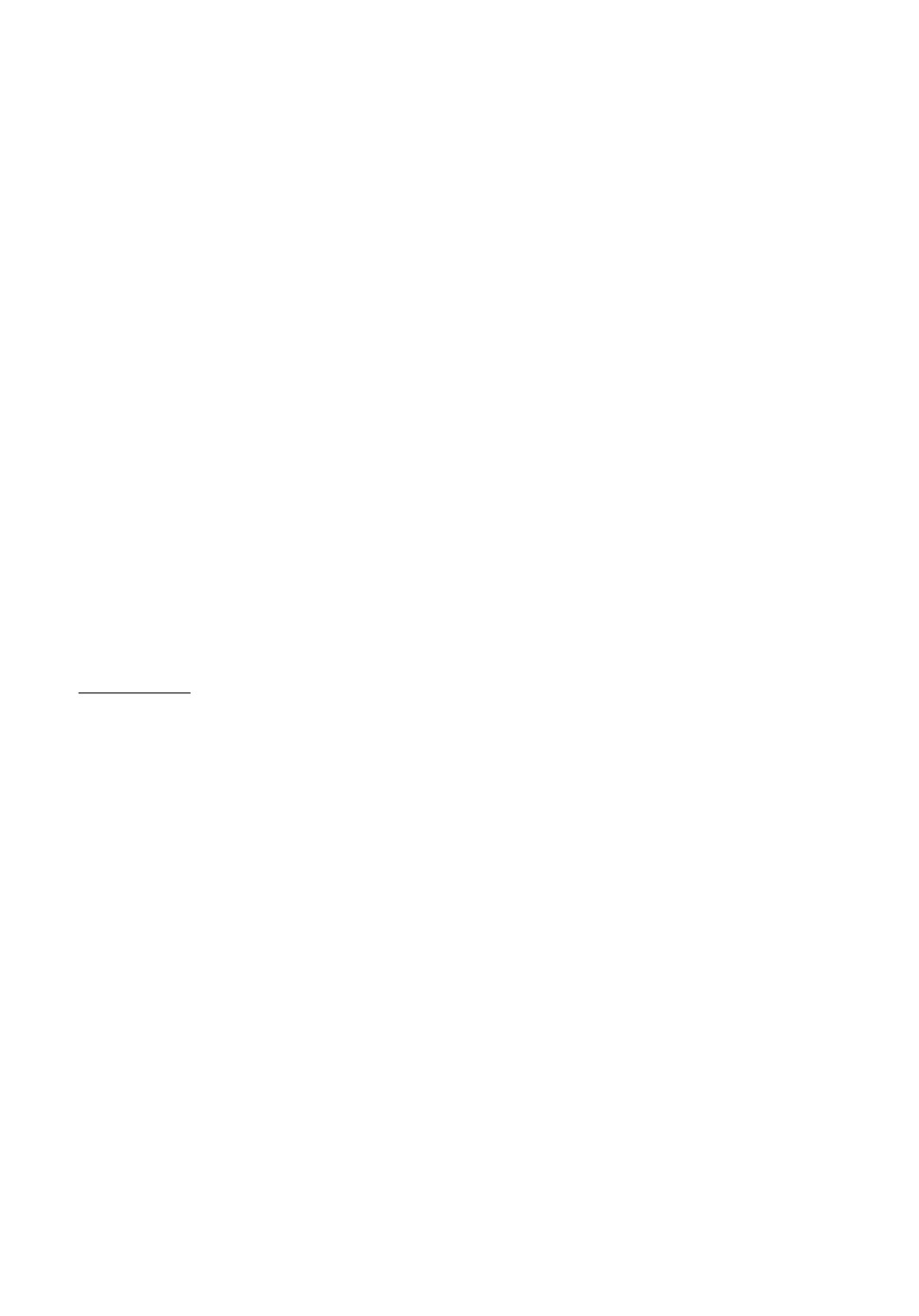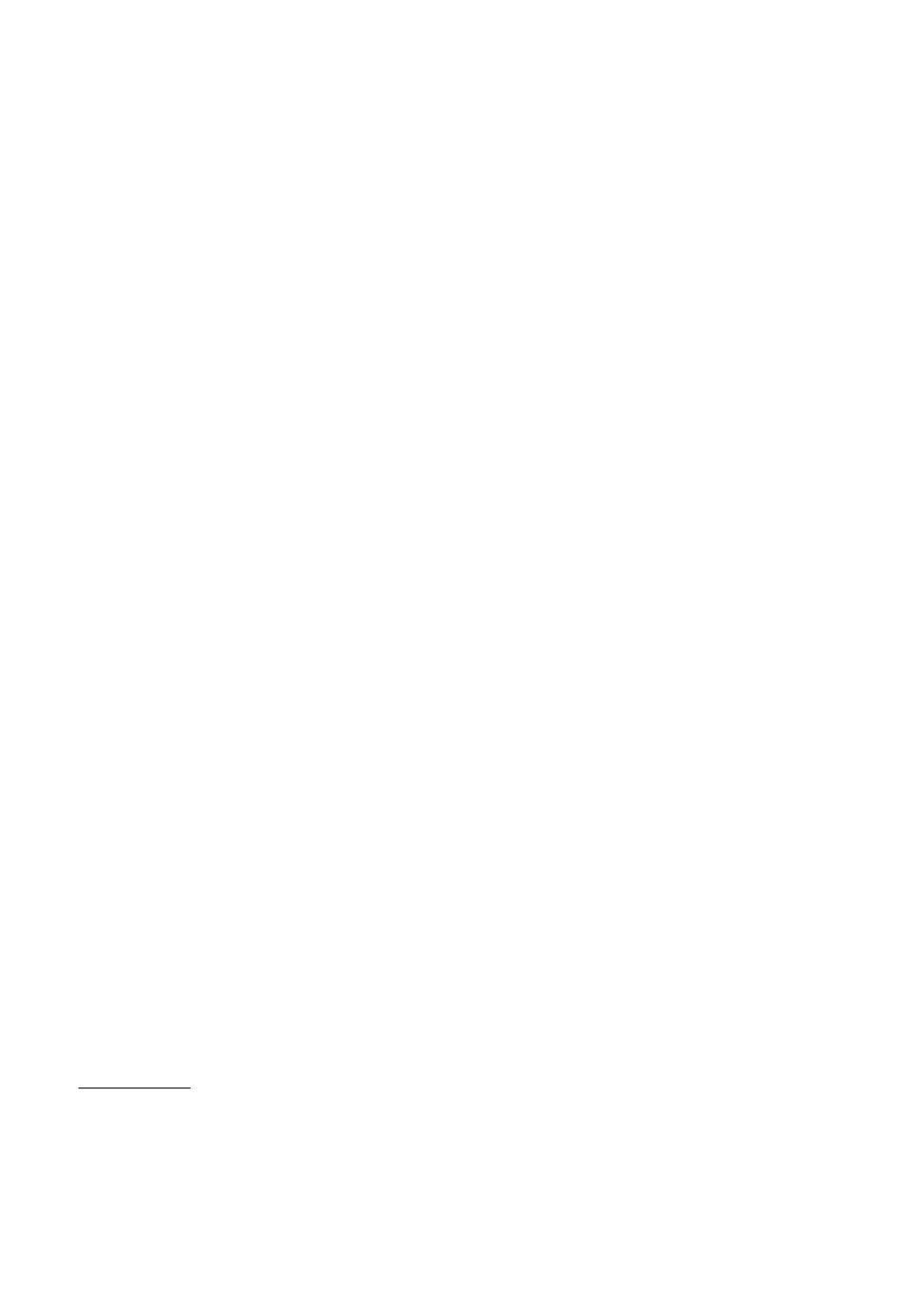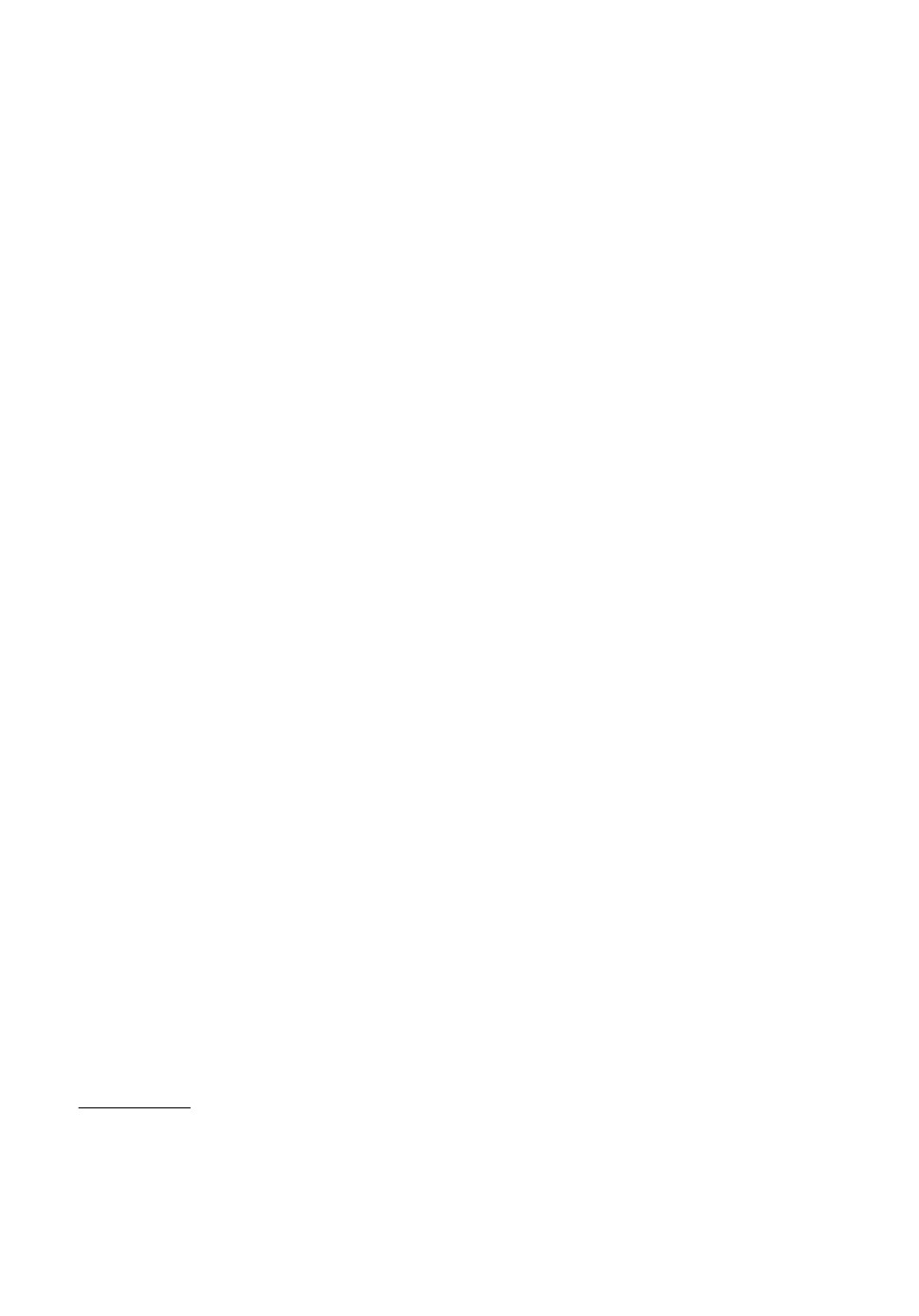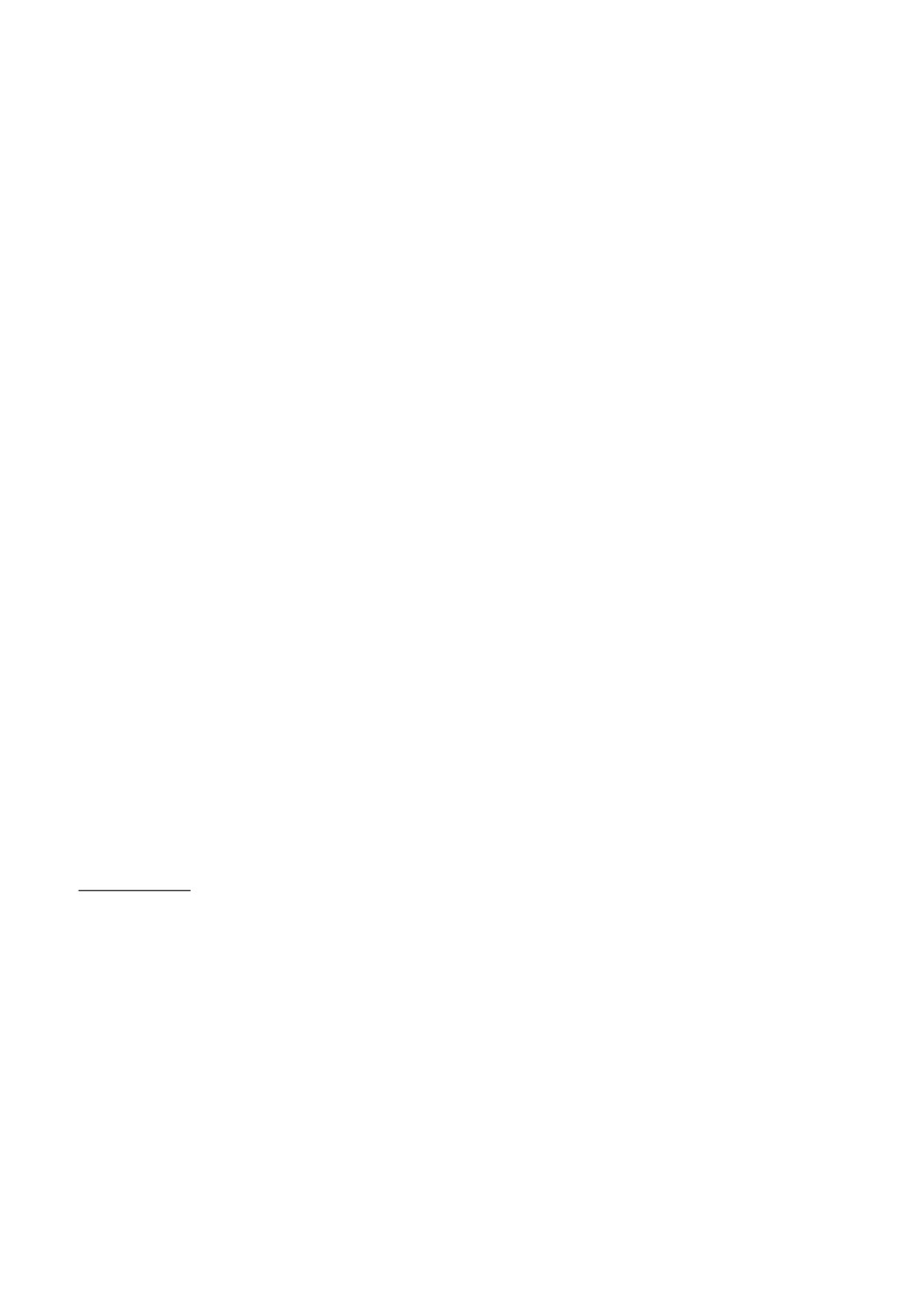Институты и общности
Устраивали ли «триумфы» русские князья
домонгольского времени?
Алексей Лаушкин
Did the Russian princes of the pre-Mongol time arrange «triumphs»?
Aleksey Laushkin
(Lomonosov Moscow State University, Russia;
Saint Tikhon’s Orthodox University, Moscow, Russia)
DOI: 10.31857/S0869568722030013, EDN: FWFHRI
Источники домонгольского времени не позволяют ответить на вопрос, сло-
жился ли на Руси устойчивый церемониал возвращения князей-победителей
с войны. Сохранившиеся скудные данные имеют преимущественно летопис-
ное происхождение и указывают лишь на отдельные элементы таких событий:
торжественные въезды в города, демонстрацию пленённых неприятелей и до-
бычи, благодарственные богослужения в храмах. Остаётся неясным, исчерпы-
вался ли этими действиями список «ритуалов победы» и насколько каждый из
них оказывался обязателен в конкретных обстоятельствах. В настоящей статье
обобщены сохранившиеся сведения о практике «възвращения с побѣдою» в до-
монгольское время и поднят вопрос о её возможных истоках.
По предположению П.С. Стефановича, «торжественная и многолюдная
встреча» победителей или сопровождение их почётным эскортом «с оказа-
нием внешних знаков почёта» обобщённо обозначались летописцами с по-
мощью универсальных формул: «с честью (и с славою) великою», «с славою
и честью», «с победою»1. Конкретные детали таких встреч в летописях обна-
руживаются крайне редко, если не принимать в расчёт сообщений о типо-
логически отличных ситуациях, когда после победы князь возвращался не
«во свояси», а входил в не принадлежащий ему город с целью его удержания
или вокняжения в нём2.
Самый ранний «чистый» случай описания въезда победителей в свой город
находится в Ипатьевской летописи (Ипат.) под 6659 (1151) г. в известии о бит-
ве на р. Руте между киевскими князьями Вячеславом Владимировичем и Изяс-
лавом Мстиславичем с одной стороны и суздальским князем Юрием Долгору-
ким - с другой. Победив, киевские князья «похваляче Бога, и Его Пречистую
Матерь, и силу Животворящаго Креста съ честью и похвалою великою поидоша
къ Киеву; и тако поидоша (в Хлебниковском списке: изыдоша. - А.Л.) противу
© 2022 г. А.В. Лаушкин
1
Стефанович П.С. Древнерусское понятие чести по памятникам литературы домонгольской
Руси // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2004. № 2(16). С. 76-77, 82.
2
Древнерусские церемониалы возвращения с войны и княжеских интронизаций имели чер-
ты сходства. К ним относятся торжественная встреча нового правителя горожанами и посещение
городского собора (Гвозденко К.С. Церемония княжеской интронизации на Руси в домонгольское
время // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2009. № 1(35). С. 21-27, 35).
3
имъ святители съ хресты: митрополитъ Климъ и игумени честьнии, и попове,
и многое множьство святитель, и с великою честью въѣхаша въ Киевъ»3.
Под 6685 (1177) г. Ипат. сообщает, как встречали Всеволода Большое Гнез-
до после победоносного похода против рязанского князя Глеба Ростиславича
жители его столичного города Владимира: «Людье же Володимерьстии оустрѣто-
ша съ кресты князя своего, идоуща с побѣдою»4. В Лаврентьевской (Лавр.) и род-
ственных ей летописях под 6707 (1199) г. читается краткое, без подробностей,
сообщение о возвращении того же князя после успешной войны с половцами,
а на миниатюре Радзивиловской летописи, иллюстрирующей это сообщение (и в
какой-то мере, по-видимому, отражающей оригинал XIII в.), изображены жи-
тели Владимира, включая епископа (Иоанна), выходящие из города навстречу
победоносной Всеволодовой дружине; дружина во главе с князем скачет под
развевающимся стягом, с городской стены её приветствует трубач5.
По мнению Д.С. Лихачёва, торжественная встреча князя и его воинов со-
провождалась пением «славы» в честь победителей6. Вполне определённо о та-
кой «славе», совершаемой во время публичной встречи князя вне стен города,
сообщает «Повесть о житии и о храбрости» князя Александра Невского (воз-
никшая, вероятно, вскоре после смерти князя)7. Победив немцев на Чудском
озере, Александр отправился во Псков, «и яко же приближися князь къ граду
Пскову, игумени же, и попове, и весь народ срѣтоша и пред градомъ съ кресты,
подающе хвалу Богови и славу господину князю Александру, поюще пѣснь:
“Пособивый, Господи, кроткому Давыду побѣдити иноплеменьникы и вѣрно-
му князю нашему оружиемь крестным и свободи градъ Псков от иноязычникъ
рукою Александровою”»8. Разумеется, торжественная процессия с участием ду-
ховенства, с крестами, воздвигнутыми над толпой, должна была сопровождать-
ся не только пением «славы» князю, но и обращёнными к Богу молитвами,
упомянутыми в приведённой цитате, где ясно угадывается отсылка к одной из
стихир Кресту Господню с призыванием победы царю или князю9. В этой связи
3
ПСРЛ. Т. 2. М., 1962. Стб. 441.
4
Там же. Стб. 605. В Лаврентьевской и родственной ей летописях этой подробности нет (Там
же. Т. 1. М., 1962. Стб. 385; Т. 38. Л., 1989. С. 145; Т. 41. М., 1995. С. 108).
5
Там же. Т. 1. Стб. 415; Т. 38. С. 159; Т. 41. С. 123; Радзивиловская, или Кёнигсбергская ле-
топись. Т. 1: Фотомеханическое воспроизведение рукописи. СПб., 1902. Л. 243. Такого же трубача
видим и под 6685 (1177) г. на миниатюре к известию о походе Всеволода Большое Гнездо против
рязанского князя, где другие встречающие не показаны (Там же. Л. 225 об.). По мнению А.Ю. Кар-
пова, поход Всеволода 1199 г. хотя и привёл к бегству половцев, не был слишком результативен
в плане добычи (Карпов А.Ю. Всеволод Большое Гнездо. М., 2019. С. 254-255), что не помешало
летописцу помянуть «радость велику в градѣ Володимери» по поводу возвращения князя, а мини-
атюристу - изобразить описанную церемонию встречи.
6
Лихачёв Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1985. С. 57, 78, 119, 211;
Келдыш Ю.В. История русской музыки. Т. 1. Древняя Русь. XI-XVII века. М., 1983. С. 59-60.
7
Кучкин В.А. Монголо-татарское иго в освещении древнерусских книжников (XIII - первая
четверть XIV в.) // Русская культура в условиях иноземных нашествий и войн. X - начало XX в.
Сборник научных трудов. Ч. 1. М., 1990. С. 37-39. Обзор точек зрения на время возникновения
памятника см.: Галко В.И. «Повесть о житии и храбрости» князя Александра Невского // Письмен-
ные памятники истории Древней Руси. М., 2003. С. 193-194.
8
Житие Александра Невского // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 5. СПб., 1997. С. 364.
9
«Пособивыи, Господи, кроткому Давиду побѣдити иноплеменникы, и вѣрным князем нашим
способи и оружием крестным низложи враги наша. Покажи, Благосерде, в нас древняя Твоя мило-
сти, да разумѣют во истину, яко Ты еси Богъ; на Тя оуповающе, побѣждаем, молящеся прилѣжно
Пречистѣи Ти Матѣри даровати нам миръ и велью милость» (ОР РГБ, ф. 304. I, № 25 (Триодь
постная, XIV в.), л. 121). В.Й. Мансикка увидел здесь только отсылку к 1 Цар. 18:6 (Мансикка В.Й.
4
не исключено, что частые замечания летописцев о том, что князь-победитель
возвращается, «хваля и славя Бога», «хваляще/хваляче/похваляче Бога», «сла-
вяще Бога» (Пресвятую Богородицу, силу Креста Господня, заступничество
святых)10, представляют собой не только проявления литературной топики, но
и отсылки к реальной церемониальной практике своего времени.
Захваченные в плен неприятели являлись не только частью добычи, но
и одним из зримых символов победы. Самый известный древний русский
текст, упоминающий участие пленников в «ритуалах победы», читается в «По-
вести о житии» Александра Невского. Двигаясь ко Пскову после Ледового
побоища, князь вёл «безбожных немець» босыми: «бяше множество полоненых
в полку его, и ведяхут босы подле коний, иже именують себе Божии ритори»11.
Автор «Повести» наполнил фразу очевидной иронией, да и в самом разувании
и спешивании рыцарей трудно не увидеть их публичного унижения. Каким
именно образом пленников вели «подле коний», не уточняется (как и то, чьи
это были кони - их собственные или же победителей). Но в другом месте па-
мятника, где речь идёт об удачном походе русских против литвы, сказано, что
«слугы» Александра привязывали пленных литовских князей к хвостам своих
коней: «Ругающеся, вязахуть их къ хвостомъ коней своихъ»12. Тот же смысл,
согласно Повести временных лет, аналогичное действие имело на Руси ещё во
времена Владимира, повелевшего «привязати коневи кь хвосту» идола Перуна
«и влещи с горы… на поруганье бѣсу»13. Даже если с немцами люди Александра
обращались иначе, нежели с литвой, обе описанные ситуации середины XIII в.
роднит мотив унижения (поругания) поверженного неприятеля.
Свидетельства о демонстрации «полона» можно отыскать и в летописании
домонгольского времени. Не исключено, что намёк на это содержит уже По-
Житие Александра Невского: Разбор редакций и текст. СПб., 1913. С. 19, 46). В.В. Василик на том
основании, что стихира входит и в службу св. равноап. царю Константину, утверждает, что автором
«Повести» тем самым «подразумевается апостольский характер того, что совершил св. Александр,
и одновременно его незримая связь с наследием христианской империи» (Василик В.В. Личность
св. Александра Невского в контексте цивилизационного противостояния Руси и Запада: Опыт про-
чтения жития // Александр Невский и Ледовое побоище. Материалы научной конференции, по-
свящённой 770-летию Ледового побоища (Санкт-Петербург, 7 апреля 2012 г.). С. 33). Столь смелое
прочтение фрагмента, на мой взгляд, не имеет достаточных оснований. О связи почитания Креста
с молитвами за царя см.: Асмус В., прот. Всемирное Воздвижение Честнаго и Животворящаго Креста:
Эортологический этюд // Имперское возрождение. Вып. 1. М., 2004. С. 51-60.
10
ПСРЛ. Т. 1. Стб. 296, 339, 363, 364, 382, 396, 434, 449; Т. 2. Стб. 441, 460, 540, 563, 566, 636.
11
Житие Александра Невского. С. 364.
12
Там же. С. 366. Известен способ смертной казни через волочение человека, привязан-
ного к конскому хвосту (Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. Тула, 2000. С. 239,
250). В ранних русских источниках он упомянут у новгородского архиепископа Антония (Добрыни
Ядрейковича), описавшего мученическую кончину св. Зотика Сиропитателя (Савваитов П.И. Пу-
тешествие новгородского архиепископа Антония в Царьград в конце 12-го столетия. СПб., 1872.
С. 163). Однако «Повесть о житии» ничего не говорит ни о волочении пленных литовцев, ни об их
смерти в результате действий княжеских слуг. Напротив, подвергнутые унижению литовские кня-
зья противопоставлены тем их собратьям, которые во время сражения были «избиты», т.е. погиб-
ли. Вероятнее всего, речь идёт о методе конвоирования, когда пленники, привязанные верёвкой
к лошади, были вынуждены идти или бежать следом за ней. Именно так понял автора «Повести
о житии» один из его редакторов (цитирую по Симеоновской летописи): «Вяжуще конемъ къ хво-
сту, и тако ведяху съ собою безбожную литву» (ПСРЛ. Т. 18. СПб., 1913. С. 65).
13
ПСРЛ. Т. 1. Стб. 116. Волочение лошадьми как форма поругания относится к числу арха-
ичных практик и упоминается ещё Гомером (Гомер. Илиада. СПб., 2008. С. 318). О волочении как
акте публичного унижения на Руси см.: Лукин П.В. Новгородское вече. М., 2014. С. 422-423.
5
весть временных лет. Под 6611 (1103) г. в сообщении о возвращении киевского
князя Святополка Изяславича и его союзника Владимира Мономаха из успеш-
ного похода против половцев летописец показательно соединяет в рамках од-
ной фразы «полон» со «славою» и «побѣдою»: «И придоша в Русь с полоном
великым, и с славою, и с побѣдою великою»14. Это событие проиллюстриро-
вано в Радзивиловской летописи: конница под началом князя и с подъятыми
мечами движется к городу, а перед ней шагают связанные пленники15.
Лавр. и Ипат. под 6684 (1176) г., рассказывая о победе князя Михалки
Юрьевича над его племянниками Ростиславичами, также свидетельствуют,
что взятых в плен демонстративно вели перед князем: «Поѣха въ Володимерь
с честью и с славою великою, дружинѣ его и володимерцемъ, ведущим пред
нимъ колодникы»16 (правда, данный случай осложнён тем, что Михалко шёл во
Владимир, чтобы по приглашению горожан занять там стол). Под следующим
годом Лавр. сообщает о победе Всеволода Большое Гнездо (уже принявшего
после смерти Михалки власть во Владимире) над Мстиславом Ростиславичем
и вновь упоминает колодников, хотя и без уточнения их места в процессии
победителей: «Князь жь Всеволодъ, побѣдивъ полкъ, възвратися Володимерю
с честью великою, а володимерци и дружина поведоша колодникы и скотъ, по-
гнаша и кони, славяще Бога и Святую Богородицю, и крестную силу»17. В при-
ведённой цитате обращает на себя внимание упоминание рядом с колодниками
неодушевлённой добычи - коней и других животных.
В той же погодной статье Лавр. описывает возвращение Всеволода из по-
хода против рязанского князя Глеба Ростиславича (последний попал в плен
с сыном Романом, союзником Мстиславом Романовичем, боярами и воинами).
Всех их Всеволод «приведше в градъ Володимерь»18. Ипат. излагает эту сцену
несколько иначе и отмечает, что вышедшие с крестами навстречу Всеволоду
владимирцы «воздрадовашася, видѣвше хрестианы отполонены от поганыхъ
(на стороне рязанского князя тогда действовали половцы. - А.Л.), а ворози
в роуках приведше в град Володимерь: князя Глѣба съ сыномъ своимъ Рома-
номъ и с шюриномъ своимъ Мьстиславом изыманыхъ, дроужина изоимана,
и всѣ вѣлможи ихъ»19. Иными словами, Глеб Рязанский и другие пленники
были невольными участниками церемонии, и горожане могли лицезреть их.
Как можно думать, торжественное шествие победителей и встречавших их
горожан завершалось в одном из главных храмов стольного города. Именно так
Ипат. под 6659 (1151) г. изображает финал церемонии после битвы на р. Руте.
Въехав в Киев, Вячеслав Владимирович и Изяслав Мстиславич молились даже
не в одном, а по очереди в двух городских соборах (у гробов Владимира Свято-
го и Ярослава Мудрого): «С великою честью въѣхаша въ Киевъ и ту поклонив-
шеся святѣи Софьѣ и святѣи Богородици Десятиньнѣи»20.
Ещё в двух случаях летописцы свидетельствуют о таком же посещении
князем-победителем храма в своём городе, не упоминая о шествии. Повесть
временных лет под 6615 (1107) г. говорит о визите киевского князя Святополка
14
ПСРЛ. Т. 1. Стб. 279; Т. 2. Стб. 255.
15
Там же. Т. 38. С. 101; Радзивиловская, или Кёнигсбергская летопись. Л. 151 об.
16
ПСРЛ. Т. 1. Стб. 376-377; Т. 2. Стб. 601-602; Т. 38. С. 142; Т. 41. С. 104.
17
Там же. Т. 1. Стб. 382; Т. 38. С. 144; Т. 41. С. 107.
18
Там же. Т. 1. Стб. 385; Т. 38. С. 145-146; Т. 41. С. 108.
19
Там же. Т. 2. Стб. 605.
20
Там же. Стб. 441.
6
Изяславича в Киево-Печерский монастырь сразу после победоносного похода
на половцев, увенчавшегося битвой на р. Суле. В обители князь молился на
заутрене, «и братья цѣловаша и с радостью великою, яко врази наша побѣже-
ни быша молитвами святыя Богородица и святаго отца нашего Феодосья»21.
Аналогичную ситуацию описывает, по-видимому, и Лавр. под 6672 (1164) г.,
рассказывая, как Андрей Боголюбский после булгарской войны торжествен-
но водворил сопровождавшую его в походе Владимирскую икону в соборный
храм своей столицы: «Принесъ ю с славою и постави ю въ святѣи Богородицѣ
Володимери в Золотоверсѣи, идѣже стоить и до сего дьне»22. Приведу ещё одно
летописное свидетельство того же рода, несколько выходящее за хронологиче-
ские рамки настоящей работы, но всё же относящее к князю, чьё становление
произошло ещё до нашествия Батыя. Даниил Галицкий после чешского похода
1253 г. благодарил Бога за военную удачу в соборе своей новой столицы -
Холма: «Приде во град Холмь сь честью и со славою в домъ Пречистоѣ, падъ,
поклонися и прослави Бога о бывшем»23.
Если перед нами фрагменты рассыпавшейся мозаики, то древнерусский це-
ремониал «възвращения с побѣдою» может быть описан следующим образом.
Заранее предупреждённые о приближении князя и дружины жители его стольно-
го города, возглавляемые духовенством, выходили с крестами за крепостные во-
рота навстречу победителям. Встреча имела торжественный характер и сопрово-
ждалась пением благодарственных молитв и победных гимнов («славы») князю,
а также показом пленников и добычи. Приветствуемый горожанами, правитель
входил в город, после чего праздничная процессия (по сути - крестный ход)
двигалась к соборному храму, где князь, его соратники и все собравшиеся вновь
благодарили Господа за дарованную победу и молились о победителях - как жи-
вых, так и павших24. Яркая презентация княжеской власти переплеталась во всех
этих ритуалах с хвалой Всевышнему, подавшему князю «на враги одолѣние».
Дополнительную информацию для изучения темы может принести ана-
лиз дат, на которые приходились въезды князей-победителей в свои города.
В источниках домонгольского времени сохранились шесть таких дат.
В 1107 г. князь Святополк Изяславич вернулся в Киев после победы над
половцами на Суле. Произошло это на Успение - 15 августа, в четверг. Лето-
писец, правда, не отметил въезд князя непосредственно в город, а лишь со-
общил, что тот «приде» в пригородный «Печерьскыи манастырь на заоутреню
на Оуспенье святыя Богородица»25. Однако вряд ли стоит сомневаться, что его
прибытие в Киев произошло тогда же. Так заставляет думать хронология со-
бытий. Битва с половцами началась в середине дня («въ 6 час дьне») 12 августа
21
Там же. Т. 1. Стб. 282; Т. 2. Стб. 258; Т. 38. С. 102. Летописец, комментируя данное собы-
тие, отмечает «обычаи» Святополка перед походом «на воину или инамо» поклоняться мощам пре-
подобного Феодосия и брать благословение («молитву») у печерского игумена. Подробнее об этом
«обычае» князя рассказывает Киево-Печерский патерик (Киево-Печерский патерик // Библиотека
литературы Древней Руси. Т. 4. СПб., 1997. С. 434). Однако комментарий логически не стыкуется
с летописным сообщением, речь в котором идёт не о начале, а о завершении похода.
22
ПСРЛ. Т. 1. Стб. 353; Т. 38. С. 131; Т. 41. С. 91.
23
Там же. Т. 2. Стб. 826.
24
Молитвенное прошение о павших воинах см., например, у новгородского летописца под
6742 (1234) г.: «Покои, Господи, душа ихъ въ Царствии небеснѣмь, пролившихъ кръви своя за
святую Софью и за кровь христьяньскую» (Новгородская первая летопись старшего и младшего
изводов. М.; Л., 1950. С. 73, 91).
25
ПСРЛ. Т. 1. Стб. 282; Т. 2. Стб. 258; Т. 38. С. 102.
7
после форсирования княжескими дружинами Сулы около Лубна. Кочевники
начали отступать, и русские «гнаша» их почти до Хорола, т.е. на протяжении
нескольких десятков километров. Можно допустить, что киевский князь не
участвовал в преследовании, но всё равно он должен был оставаться в районе
боевых действий до окончания основных событий (завершившихся, по-види-
мому, с наступлением сумерек). Таким образом, Святополк не мог отправиться
в Киев ранее утра 13 августа. А если так, то домой он двигался в чрезвычай-
но высоком темпе: даже по прямой от современных Лубен до Киева около
185 км, а значит за день 57-летний правитель преодолевал на лошади по степ-
ным дорогам и бездорожью расстояние никак не меньше 100 км. Эти данные
можно соотнести со свидетельством Владимира Мономаха, двоюродного брата
Святополка Изяславича, в своём «Поучении» не без гордости сообщавшего
сыновьям, что в молодые годы он добирался из Чернигова в Киев за один
день («днемъ есмъ переѣздилъ до вечерни»)26. Расстояние между городами по
прямой составляет около 130 км, и эта цифра не сильно превосходит дневные
переходы Святополка, возвращавшегося с берегов Сулы.
Для сравнения можно вспомнить нормы дневных переходов, существо-
вавшие в российской армии начала XX в. «Нормальный» суточный переход
конницы составлял 37-43 км при средней скорости движения 5,3-8,5 км/ч27.
Схожие данные находим в «Боевом уставе конницы РККА». Там «нормаль-
ный» переход конницы определён в 45-55 км («форсированный» - не более
70-75 км) при средней скорости от 6,5 до 8,5 км/ч, причём последняя скорость
названа предельной и допустимой «на расстояния, не превышающие полупе-
рехода (25 км)»28. Другими словами, общий темп движения киевского князя на
пути в столицу в 1107 г. был примерно в два раза выше, чем комфортный для
лошадей на марше. Это означает, что либо Святополку пришлось по дороге ло-
шадей менять, либо совсем не щадить единственного коня. Но в обоих случаях
ему пришлось провести в седле оба дня с утра до вечера. Не смог бы Святополк
добраться до Киева быстрее, если бы решил часть пути - например, от Кане-
ва - преодолеть на речном судне по Днепру: такой маршрут оказался бы ещё
длиннее, а двигаться по реке пришлось бы против течения.
Таким образом, имеются серьёзные основания сомневаться в том, что Свя-
тополк Изяславич мог бы достичь Киева ранее вечера 14 или утра 15 августа.
Столь стремительное перемещение князя с поля боя в столицу имело, очевид-
но, конкретную причину - желание поспеть в Киев на Успение. В этот день не
только совершался престольный праздник в любимой им Печерской обители
(а на канун приходилась ещё и годовщина перенесения мощей прп. Феодосия
Печерского в 1091 г.29), но и происходили особые торжества в одном из глав-
ных соборов Киева - Десятинной церкви, также посвящённой Богородице30.
И хотя летописец не пишет об этом, логично предположить, что после утрени
в монастыре князь отправился на литургию в Десятинную церковь. Нет в лето-
писи и информации о том, была ли киевлянами приготовлена торжественная
встреча князю (как можно думать, основные силы киевского войска, двигавши-
26
Там же. Т. 1. Стб. 250.
27
Изместьев П.И. Краткое руководство по элементарной и общей тактике. Составлено по
опыту последних войн. Пг., 1919. С. 83.
28
Боевой устав конницы РККА. Ч. 2. М., 1942. С. 44-45.
29
ПСРЛ. Т. 1. Стб. 211.
30
Там же. Стб. 124.
8
еся с «полоном», 15 августа ещё находились в пути). Автор сообщения ограни-
чился лаконичной ремаркой, что все участники похода, в том числе князья из
других городов, «възвратишася в своя си с побѣдою великою». Впрочем, если
относительно летописных формул такого рода прав П.С. Стефанович, то эти
слова можно рассматривать как указание на то, что такая встреча состоялась.
В 1168 г. после победы над половцами у Чёрного леса (район р. Оскол) участ-
ники большой княжеской коалиции под началом князя Мстислава Изяславича
Киевского «быша в домехъ своихъ на самое въскресение». В этом «въскресении»
Н.Г. Бережков с полным основанием видит Пасху, пришедшуюся в тот год на
31 марта31. «И бысть людемъ двоя радость - и въскресение Господне, и князь
възвращение с побѣдою и с радостью»32. Поход начался 2 марта с выступления
русских полков из Киева. После этого они двигались девять дней на юго-восток,
пока не обнаружили и не атаковали половецкие вежи «на Оуглѣ-рѣцѣ» (Орели)
и «по Снопороду» (по р. Самаре). После захвата веж князья принялись дого-
нять основные силы кочевников и настигли их у Чёрного леса33. Если вслед за
С.А. Плетнёвой искать этот лес в районе устья р. Оскол, впадающей в Север-
ный Донец34, то следует сделать вывод, что русским пришлось совершить бросок
к востоку, занявший, по-видимому, не один день. Таким образом, сражение
у Чёрного леса должно было произойти в середине марта. А это значит, что
возвращение князей после победы «в домы своя» ко дню Пасхи происходило
примерно в том же темпе, что и их движение навстречу врагу, причём уже по-
сле утомительной кампании и с большой добычей («взяша полона множьство,
якоже всимъ рускимъ воемъ наполнитися до изообилья»)35. И хотя этот темп
ниже, нежели у Святополка Изяславича в 1107 г., участники похода (среди них
не менее 11 князей), должны были приложить немалое усилие, чтобы поспеть
в свои города на Воскресение Христово. Слова летописца позволяют думать, что
по крайней мере у некоторых из них это намерение увенчалось успехом.
В 1193 г. молодой князь Ростислав Рюрикович, победивший вместе с дво-
юродным братом Мстиславом Мстиславичем и чёрными клобуками половцев
за р. Ивлей и захвативший большую добычу, приехал «съ славою» в город Тор-
ческ «на Рождество»36 - 25 декабря, в субботу. Дату самого сражения летописец
не указал.
В 1196 г. великий князь Всеволод Большое Гнездо вернулся после успеш-
ной войны с Ольговичами в свой стольный Владимир «месяця октября въ
6 дьнь на память святаго апостола Фомы» - в воскресенье. «И бысть радость
велика в градѣ Володимери»37.
В 1198 г. Всеволод, совершивший удачный поход на половцев, въехал во
Владимир «месяца иуня въ 6 дьнь на память святаго мученика Дорофѣя епи-
скопа в дьнь суботныи», по поводу чего летописец дословно повторил свою
ремарку о «радости велицей в градѣ»38.
31
Бережков Н.Г. Хронология русского летописания. М., 1963. С. 180.
32
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 540.
33
Там же. Стб. 539-540.
34
Плетнёва С.А. Половцы. М., 1990. С. 154.
35
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 540.
36
Там же. Стб. 669, 676-678; Бережков Н.Г. Указ. соч. С. 206.
37
ПСРЛ. Т. 1. Стб. 413; Т. 38. С. 159. В Летописце Переяславля Суздальского датой возвра-
щения князя названо 16 октября (ПСРЛ. Т. 40. С. 122); Бережков Н.Г. Указ. соч. С. 85.
38
ПСРЛ. Т. 1. Стб. 415; Т. 38. С. 159; Т. 41. С. 123; Бережков Н.Г. Указ. соч. С. 86.
9
В 1207 г. тот же князь, победив рязанских князей, «вниде» во Владимир
«месяца ноября въ 21 дьнь, в средоу, на Введенье святыя Богородица». Сооб-
щение завершается замечанием о великой радости в городе и восклицаниями
Псалмопевца, радующегося о Господе. Отмечу, что этот двунадесятый празд-
ник, как и все богородичные праздники, должен был с особым размахом отме-
чаться в главном храме Владимира, посвящённом Богоматери39.
Выбор князьями дней для торжественного возвращения в стольные города
после одержанных побед красноречив. В четырёх случаях из шести церемонии
приурочены к крупнейшим церковным торжествам годового круга богослуже-
ний: к Пасхе и двунадесятым праздникам Успения, Введения и Рождества Хри-
стова. В двух оставшихся - к «малой Пасхе»: воскресному дню и его кануну40.
К рассмотренным случаям можно добавить ещё один, указывающий на тен-
денцию совмещать празднование победы с церковными праздниками. В 1171 г.
князь Игорь Святославич, одолев половцев за рекой Ворсклой, возвращался
домой через Киев41. Туда он постарался попасть «кь празнику святую мученику
Бориса и Глѣба» (24 июля), а точнее - к вечерней службе 23 июля, с которой
начиналась череда праздничных богослужений. Полностью осуществить замы-
сел ему, правда, не удалось, на вечерню он не успел: «Не вьтяже на канунъ, по
вечернии приѣха». Но 24 июля, в самый день праздника, Игорь уже праздновал
память святых в Киеве и поднёс дары из богатой добычи («саигатъ») киевскому
князю Роману Ростиславичу, его братьям «и мужемъ»42, соединяя торжество
церковное со своим собственным.
Перед нами - несомненные следы особой «праздничной» стратегии, регули-
ровавшей выбор даты для торжественного возвращения победителей из похода.
Конечно, источники не позволяют судить, насколько неукоснительно князья
следовали ей в иных случаях. Однако отмечу, что она хорошо соотносится с дру-
гой календарной практикой, также относящейся к сфере воинских ритуалов до-
монгольской Руси и при этом лучше освещённой источниками, - практикой
«праздничных выходов» на войну. Такие события князья предпочитали назна-
чать на праздничные или воскресные дни, наполняя последние часы подготовки
к ратным подвигам духовным смыслом43. Но если при отправлении дружин в по-
ход в ткань церковного торжества вплетались неизбежные в такой ситуации нити
тревоги, то при возвращении с победой «двоя (двойная. - А.Л.) радость» оказы-
валась совершенной, исполненной ликованием и благодарностью Всевышнему.
Приуроченность рассматриваемых церемоний к церковным праздникам
и воскресным дням ещё ярче высвечивает их религиозную канву и свидетель-
39
ПСРЛ. Т. 1. Стб. 348, 433; Бережков Н.Г. Указ. соч. С. 100.
40
Такую же приуроченность видим в единственном датированном сообщении об интересу-
ющем нас событии за вторую половину XIII в., когда ещё могли сохраняться некоторые традиции
домонгольского времени. В 1278 г. ростовский князь Глеб Василькович, правнук Всеволода Боль-
шое Гнездо, вернулся в Ростов после успешного похода на ясов под началом хана Менгу-Тимура
«въ недѣлю всѣхъ святыхъ (т.е. в воскресенье. - А.Л.), мѣсяца иуня въ 12, на память святого отца
Ануфриа пустынника» (ПСРЛ. Т. 18. С. 76; Присёлков М.Д. Троицкая летопись: Реконструкция
текста. СПб., 2002. С. 335 (в сохранившихся фрагментах памятника читается указание на «недѣлю
всѣхъ святыхъ», месяц назван ошибочно - «иуля»)).
41
Прямо в летописи Киев не упоминается, но это следует из контекста (Горский А.А. «Всего еси
исполнена земля Русская…»: Личности и ментальность русского Средневековья. М., 2001. С. 13-14).
42
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 569.
43
Лаушкин А.В. «Праздничные выходы» на войну в домонгольской Руси // Древняя Русь.
Вопросы медиевистики. 2019. № 1(75). С. 53-57.
10
ствует о стремлении организаторов к максимальной публичности, на которую
можно было рассчитывать именно в праздничные дни, когда христиане остав-
ляли свои повседневные занятия и наполняли церкви.
При всей бедности сохранившегося материала о древнерусских церемони-
ях «възвращения с побѣдою» в них различимы черты, позволяющие сопоста-
вить их с уходящими корнями в античную эпоху празднествами императорских
триумфов. В христианизированном виде триумфальную традицию восприняла
не только Византия - она отразилась и в политической практике многих стран
раннесредневековой Западной Европы, представляя собой насыщенное ло-
кальными особенностями и частными нововведениями «постбытие имперской
идеологии Победы»44.
Ко времени крещения Руси обновлённые ритуалы победы приобрели в Ви-
зантийской империи вполне законченный вид. Сценарии пышных столичных
триумфов порой сильно отличались один от другого, завися от обстоятельств
события и фигуры триумфатора (им мог быть не только император). Но среди
прочего они часто включали элементы, аналогичные тем, какие мы встретили
и в русских источниках: 1) многолюдную торжественную встречу войска, кото-
рая начиналась за стенами Константинополя (при возглавлении армии самим
василевсом - обычно за Золотыми воротами), продолжалась на украшенных
в честь праздника улицах города и сопровождалась хвалами Богу и пением сла-
вословий победителю; 2) «триумфальный парад» победоносного войска с де-
монстрацией трофеев и пленников, нередко подвергаемых ритуальному уни-
жению; 3) заключительное богослужение в соборном храме Святой Софии.
Помимо общего сходства названных элементов можно указать и на некоторые
частные переклички между византийскими и русскими церемониями.
Сохранились свидетельства об участии высшего духовенства в публичных
встречах триумфаторов в Константинополе, причём известны случаи (впро-
чем, не типичные), когда патриархи приветствовали василевсов за стенами
не только Святой Софии, но и города. Так было в 628 г., когда патриарх
Сергий встречал императора Ираклия I на другой стороне Босфора в Иерии,
и в 971 г., когда патриарх Василий вышел навстречу Иоанну I Цимисхию
к Золотым воротам45.
Торжественное возвращение князя Андрея Боголюбского в 1164 г. из бул-
гарского похода с иконой Богородицы, которую он «принесъ… с славою и по-
стави… въ святѣи Богородицѣ Володимери в Золотоверсѣи», также находит
возможные аналогии в византийской церемониальной практике. Брать с собой
на войну почитаемый образ Матери Божией было в обычае правителей Ромей-
ской державы46. Однако несколько раз богородичная икона оказывалась и в са-
мом фокусе триумфальных торжеств. Первый зафиксированный источниками
44
Treitinger O. Die oströmische Kaiser- und Reichsidee nach ihrer Gestaltung im höfischen Zeremoniell
vom oströmischen Staats- und Reichsgedanken. Darmstadt, 1959. S. 168-178; McCormick M. Eternal
Victory: Triumphal Rulership in Late Antiquity, Byzantium and the Early Medieval West. Cambridge,
1990. Р. 7.
45
Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Феофилак-
та. М., 1884. С. 242; Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей. СПб., 1992.
С. 115; Constantini Porphyrogeniti. De ceremoniis aulae Byzantinae. Vol. 1. Bonn, 1829. P. 608-610;
McCormick M. Op. cit. P. 173, 215.
46
Степаненко В.П. Военный аспект культа Богоматери в Византии (IX-XII вв.) // Античная
древность и Средние века. 2000. № 31. С. 203-220.
11
случай такого рода произошёл в 971 г.47 после победы Иоанна Цимисхия над
русским князем Святославом Игоревичем и болгарами. Встречая императора
перед стенами Константинополя, горожане преподнесли Иоанну «украшенную
золотом колесницу, запряжённую белыми лошадьми» и просили его «взойти на
неё, чтобы отпраздновать полагающийся в таких случаях триумф». Император
отказался выполнить их просьбу и поставил на колесницу - на место триум-
фатора - «вывезенное из Мисии (Болгарии. - А.Л.) изображение Богородицы»,
а сам въехал в город на коне позади колесницы48. Этот символический жест,
указывающий на истинную победительницу врагов империи, в 1133 г. повторил
император Иоанн II Комнин после победы над турками-сельджуками. Он по-
велел изготовить колесницу, отделать её серебром и самоцветами, запрячь в неё
традиционных для триумфального шествия белоснежных лошадей и водрузил
на неё икону Богоматери; сам же отправился перед колесницей пешком. Ни-
кита Хониат, описавший эту сцену, заметил, что император поступил так, по-
скольку Богородица «была причиною его радости и восторга, от которого он
был вне себя, и Ей как непобедимой Воеводе, вместе с ним начальствовавшей
над войском, он приписывал победы»49. Сходный по смыслу комментарий по
поводу одержанной победы прозвучал и из уст летописца, сообщившего в Лавр.
о булгарском походе Андрея Боголюбского 1164 г. и его торжественном возвра-
щении в стольный град с иконой: «се же бысть чюдо новое святое Богородици
Володимерское, юже взялъ бяше с собою благовѣрныи князь Андрѣи». Трудно
усомниться в том, что во Владимир князь въезжал через построенные по его
повелению и освящённые всего несколькими месяцами ранее Золотые ворота,
символически связывавшие город на Клязьме с великим городом на Босфоре50.
Уместно вспомнить, что в необычной архитектуре этих ворот Н.Н. Воронин
различил признаки триумфальной арки, а в имени расположенной над ними
церкви, освящённой в честь Положения честной ризы Пресвятой Борогодицы
в Влахерне, - прямую отсылку к священным реликвиям столицы Византии51.
Логично предположить, что столь насыщенному константинопольскими аллю-
зиями месту могла сопутствовать и торжественная церемония, также не лишён-
ная византийских черт. Спустя несколько лет после этой церемонии, в 1167 г.,
сын Иоанна II император Мануил I Комнин, победив венгров, повторил посту-
пок отца и тоже уступил место в триумфальной колеснице иконе Богородицы52.
Это говорит о том, что во времена Андрея идея «триумфа Богородицы», кото-
47
Благодарю П.В. Кузенкова, обратившего моё внимание на то, что топика «триумфа Бого-
родицы» звучит уже в относящемся к VII в. кондаке «Взбранной Воеводе», в котором «буквально
описана встреча Богородицы как полководца-триумфатора с основным элементом этого торже-
ства - победными гимнами», и что Иоанн Цимисхий поэтому был, возможно, не первым василев-
сом, постаравшимся воплотить эту гимнографическую топику в реальной церемонии.
48
Лев Диакон. История. М., 1988. С. 82.
49
Никита Хониат. История, начинающаяся с царствования Иоанна Комнина. Т. 1. СПб.,
1860. С. 24-25.
50
ПСРЛ. Т. 1. Стб. 351, 353.
51
Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XV веков. Т. 1. М., 1961. С. 138, 145,
148; Воронин Н.Н. Из истории русско-византийской церковной борьбы XII в. // Византийский
временник. Т. 26. М., 1965. С. 193; Седов Вл.В. Новый Иерусалим в надвратных храмах Визан-
тии и Древней Руси // Новые Иерусалимы: Иеротопия и иконография сакральных пространств.
М., 2009. С. 553-554.
52
Никита Хониат. Указ. соч. С. 202-203; Иоанн Киннам. Краткое обозрение царствования
Иоанна и Мануила Комнинов (1118-1180). СПб., 1859. С. 276-277. В 1261 г. при восстановлении
Византийской империи император Михаил VIII Палеолог также триумфально вошёл в Константи-
12
рой он, возможно, сознательно следовал53, оказывалась по-прежнему жива при
византийском дворе. При этом официальный Константинополь того времени
не был совсем уж чужим миром для Андрея. У него имелись дипломатические
контакты и с патриархом Лукой Хрисовергом, и с императором Мануилом, его
младшие братья несколько лет провели в Византии и пользовались гостепри-
имством василевса, а в стольный город Андрея приезжали купцы «изъ Цеса-
рягорода»54. Указание на некое взаимодействие князя и императора сохранила
и составленная, по-видимому, не позднее начала XIII в. русская проложная
статья на 1 августа, где речь идёт как раз о булгарском походе владимирского
князя и о явленных тогда чудесах Владимирской иконы. Автор статьи нарочито
соотносит военные успехи Андрея и Мануила и даже заявляет о «любви и бра-
толюбье» двух правителей55.
Созвучие с идеологией византийского триумфа можно уловить и в том по-
вышенном внимании, которое немногословные русские свидетельства о воз-
вращениях с войны уделяют Кресту Господню. Летописцы вместе со своими
героями хвалят его силу и не забывают изображать кресты в руках встречающих
(то же делают и миниатюристы в Радзивиловской летописи), а автор «Повести
о житии» Александра Невского, описывая сцену въезда князя во Псков после
победы, перефразирует и вкладывает в уста вышедшим навстречу Александру
людям стихиру Кресту «Пособивыи, Господи, кроткому Давиду»56. Кресты ис-
пользовались и в византийских церемониях. Во время триумфа императора
Василия I Македонянина в 879 г. перед ним несли большой украшенный кам-
нями крест57, а Иоанн II Комнин в 1133 г. шёл перед колесницей с иконой
Богородицы, держа крест в руках58. Император Константин VII Багрянородный
в трактате «О церемониях византийского двора» свидетельствует о публичном
поклонении василевса кресту во время триумфальной процессии на форуме
Константина59. Но главное - даже не материальное присутствие крестов в кон-
стантинопольских триумфах, а то, что крест находился в самом центре визан-
тийского понимания победы. Уже с V в. Крест Господень (в начале - наряду
с лабарумом) воспринимался в империи главным орудием и главным символом
нополь через Золотые ворота, следуя за иконой Борогодицы - «скорее как смиренный слуга Бога,
чем как царь» (Георгий Акрополит. История. СПб., 2013. С. 138).
53
О возможных византийских коннотациях в почитании Владимирской иконы при Андрее
Боголюбском см.: Щенникова Л.А. Чудотворная икона «Богоматерь Владимирская» как «Одигитрия
евангелиста Луки» // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. М., 1996. С. 259-260.
54
ПСРЛ. Т. 1. Стб. 352; Т. 2. Стб. 521, 591; Павлов А.С. Памятники древнерусского кано-
нического права. Ч. 1 (памятники XI-XV вв.). // Русская историческая библиотека, издаваемая
Археографической комиссией. Т. 6. СПб., 1908. С. 63-75.
55
Конявская Е.Л. К истории сложения проложной статьи на 1 августа // Древняя Русь. Вопросы
медиевистики. 2012. № 1(47). С. 5-7; Кучкин В.А., Сумникова Т.А. Древнейшая редакция Сказания
об иконе Владимирской Богоматери // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. С. 501-502;
Слово о празднике Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы // Лосева О.В. Жития русских
святых в составе древнерусских Прологов XII - первой трети XV веков. М., 2009. С. 444-448.
56
Византийский по происхождению мотив победоносного Креста отчётливо представлен
в культуре Руси, в частности в летописях (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 296, 361, 444, 448; Т. 2. Стб. 290, 559,
624; Новгородская первая летопись. С. 73, 80, 83, 87). См. также: Федотов Г.П. Русская религиоз-
ность. Т. 1. М., 1988. С. 327-328; Стефанович П.С. Крестоцелование и отношение к нему Церкви
в Древней Руси // Средневековая Русь. Вып. 5. М., 2004. С. 90-91, 94-95.
57
McCormick M. Op. cit. P. 216.
58
Никита Хониат. Указ. соч. С. 25.
59
Constantini Porphyrogeniti. Op. cit. P. 609.
13
императорской победы и сопутствовал василевсам как во многих церемониях
их жизни, так и в официальном церемониальном искусстве60.
Публичное унижение пленённых неприятелей на Руси во время побед-
ных шествий, о котором сохранила свидетельство «Повесть о житии», также
находит прямые аналогии в практике византийских триумфов. Демонстрация
поверженного врага на улицах и ипподроме Константинополя оказывалась
важным атрибутом многих императорских праздников победы61. Участие в па-
раде победителей в любом случае было оскорбительно для проигравших, даже
если их просто вели перед глазами собравшегося народа. Но подчас побеждён-
ных подвергали и особым унижениям - от таких зловещих, как предъявление
публике неприятельского вождя с обезображенным палачами лицом или даже
его отрубленной головы62, до сугубо ритуальных. Константин Багрянородный
после победы над арабами в 956 г. попрал ногой склоненную шею предводите-
ля поверженных врагов Абу-л-Ашаира, остальные пленные стояли перед импе-
ратором на коленях, а неприятельские знамёна были перевёрнуты. Иоанн Ци-
мисхий в 971 г. во время победных торжеств публично снял с болгарского царя
Бориса II знаки его царского достоинства. Константин IX Мономах в 1043 г.
повелел провести пленённых мятежников «не в строю и не в пристойном виде,
но… на ослах, задом наперёд, с обритыми головами, с кучей срамной дряни
вокруг шеи»63. По-видимому, босые рыцари, которых в 1242 г. князь Александр
Невский вёл во Псков «подле коний», - картина из того же ряда.
М. Маккормик указал на растущее единодушие учёных в том, что идеи
и политические обычаи, уходящие корнями в позднюю Античность, «пропи-
тали ранние институты варварских королевств» Европы. М.А. Поляковская,
размышляя о том же, отметила, что «на начальной стадии становления церемо-
ниального стереотипа Западная и Центральная Европа были ориентированы на
Византийскую империю, поражавшую европейский мир совершенством и тор-
жественностью своей церемониальной системы»64. Сходство древнерусских це-
ремоний «възвращения с побѣдою» и соответствующих компонентов визан-
тийского церемониала триумфов позволяет думать, что названная тенденция
проявилась и в Восточной Европе, и что на Руси могла произойти частичная
рецепция византийских образцов. Носила ли эта рецепция непосредственный
характер (что вполне возможно, учитывая тесное общение двух стран)65 или
же была опосредована церемониальной практикой других государств, судить
сложно из-за скудости сохранившегося материала.
60
Грабар А.Н. Император в византийском искусстве. М., 2000. С. 51-58, 93.
61
Капсалыкова К.Р. Представления о войне и армии в Византии (середина IX - середина
XI в.). Дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 2017. С. 199.
62
Продолжатель Феофана. Указ. соч. С. 198; Никита Хониат. Указ. соч. С. 202; Михаил Пселл.
Хронография. М., 1978. С. 50, 94; Лев Диакон. Указ. соч. С. 90; Литаврин Г.Г. Как жили византий-
цы. СПб., 1997. С. 81; McCormick M. Op. cit. P. 177, 178.
63
Constantini Porphyrogeniti. Op. cit. P. 610; Лев Диакон. Указ. соч. С. 83; Михаил Пселл. Указ.
соч. С. 94; McCormick M. Op. cit. P. 159-162.
64
McCormick M. Op. cit. P. 7; Поляковская М.А. Византийский дворцовый церемониал XIV в.:
«Театр власти». Екатеринбург, 2011. С. 20.
65
Если прав А.Н. Грабар, свидетельством знакомства Руси с триумфальной традицией Ви-
зантии уже в XI в. может служить одна из фресок Софии Киевской, изображающая «василевса,
скачущего на белом коне… Похоже, что эта фигура составляла часть сцены триумфа на улицах или
на Ипподроме Константинополя» (Грабар А.Н. Император… С. 69).
14