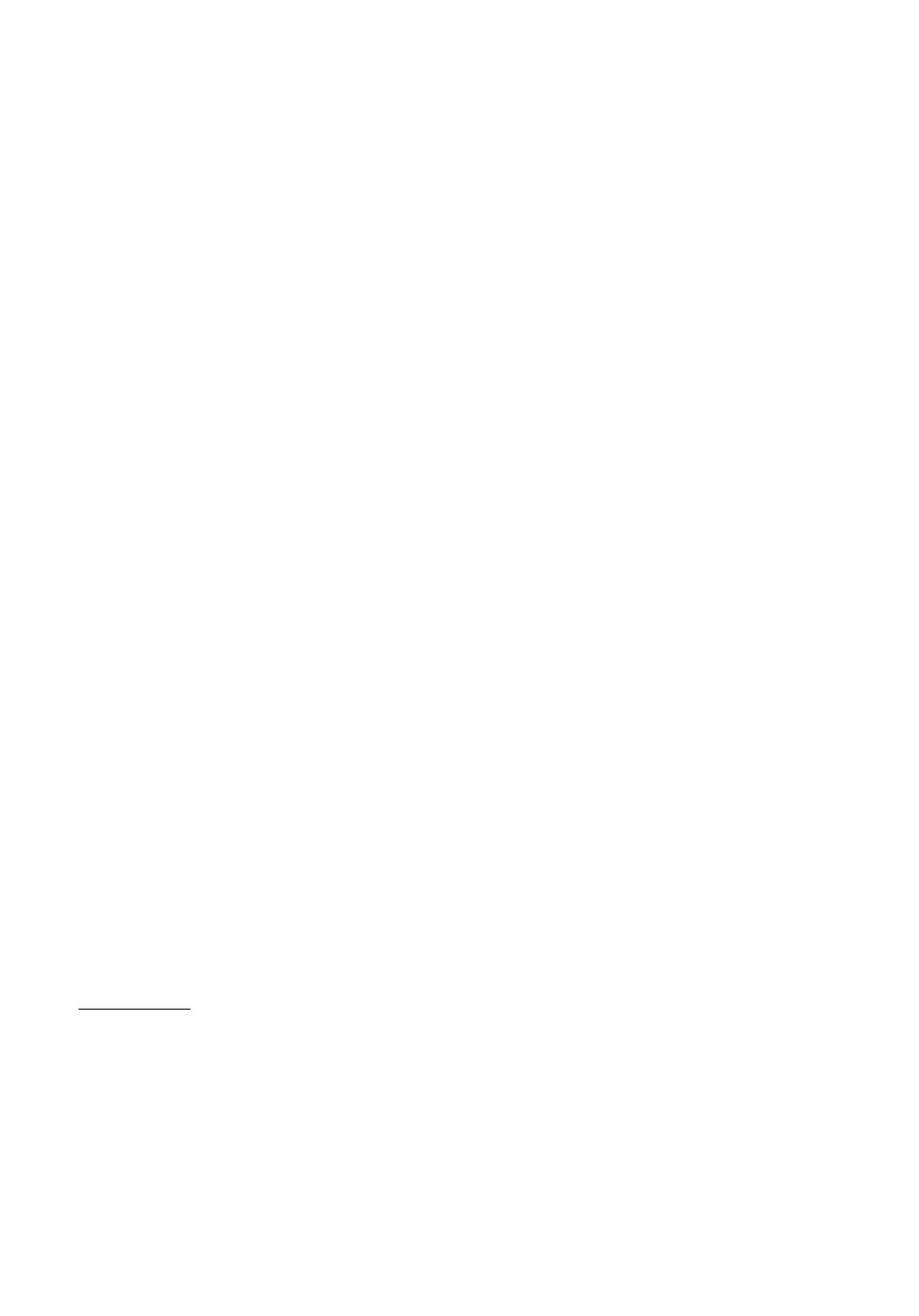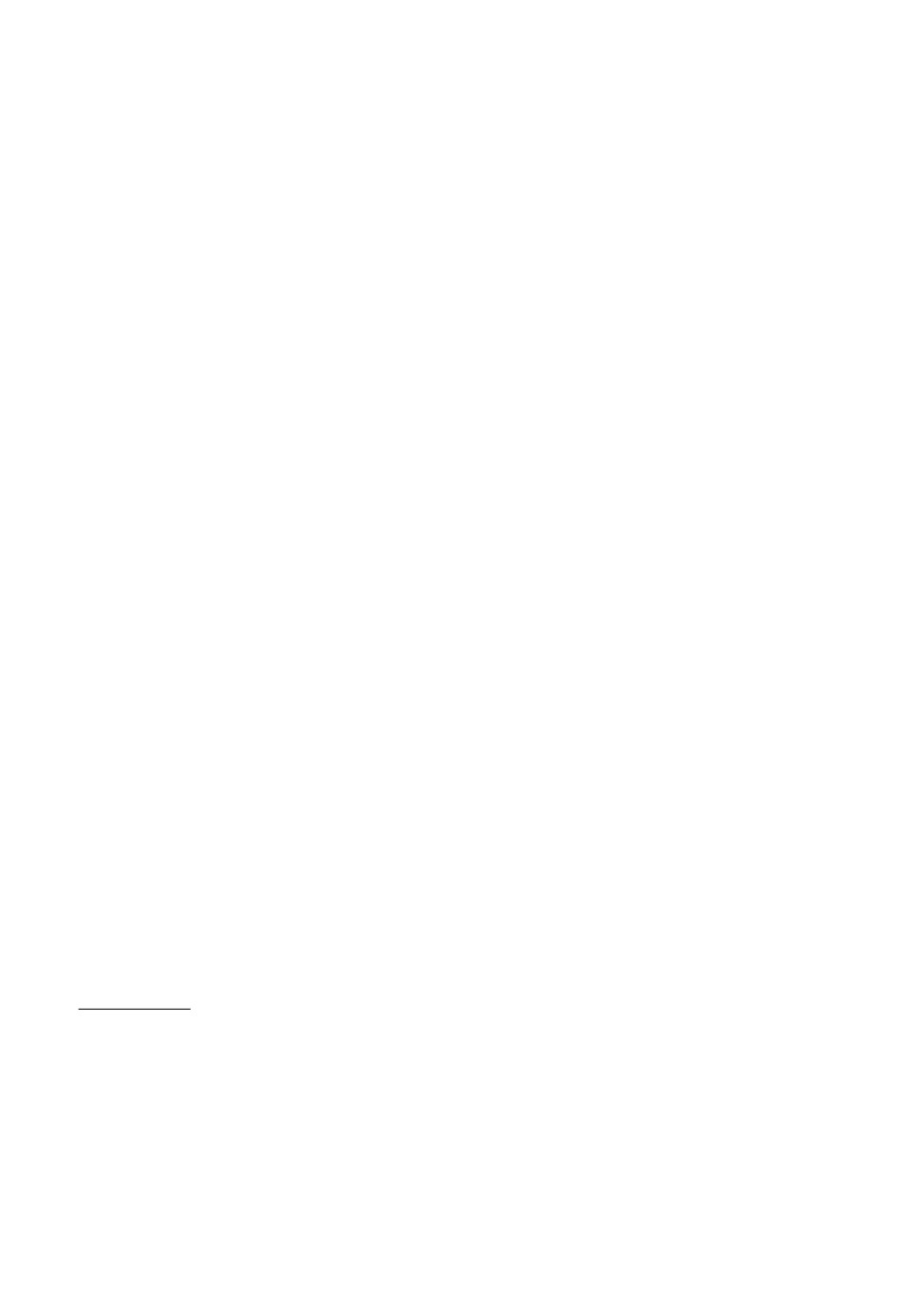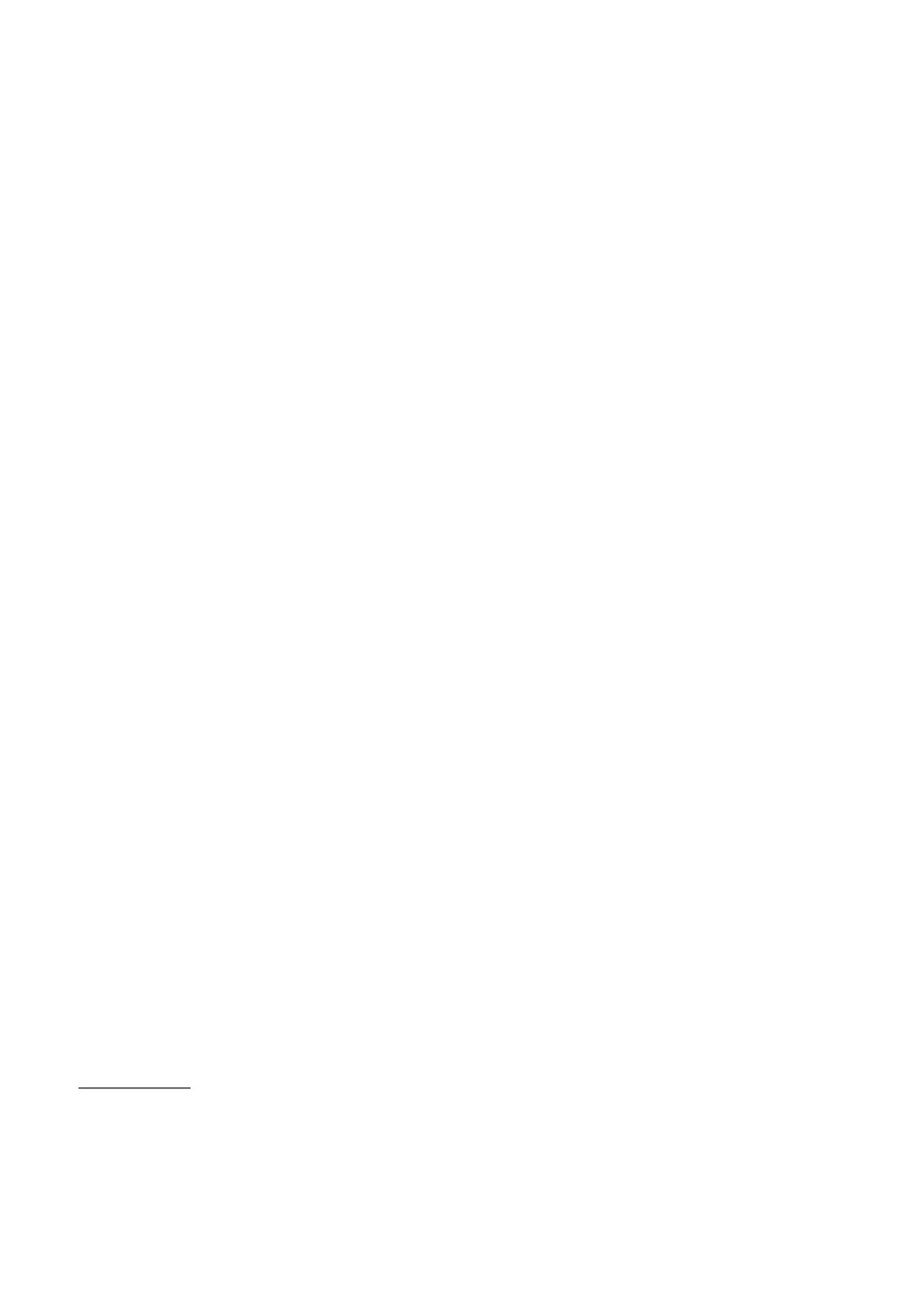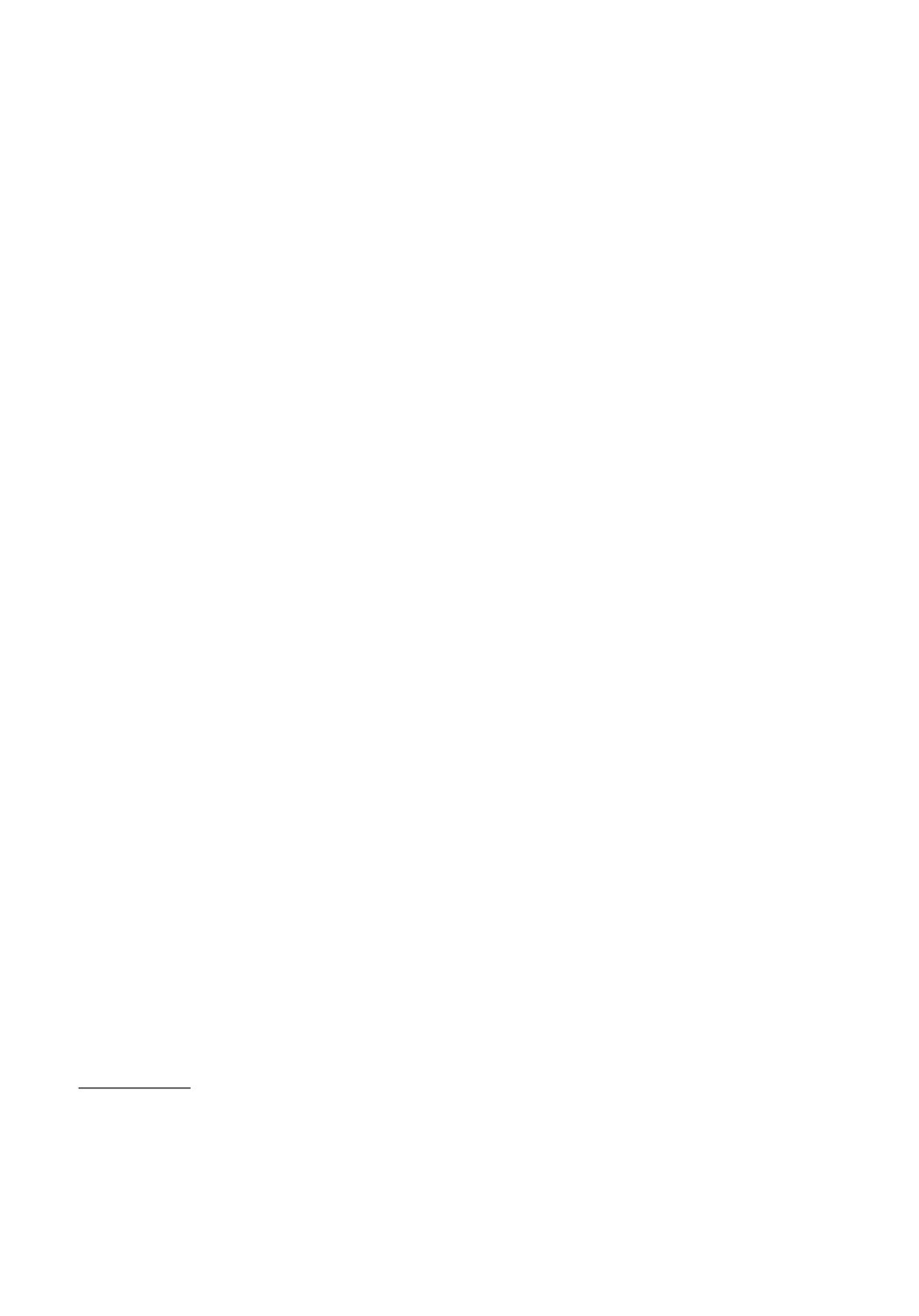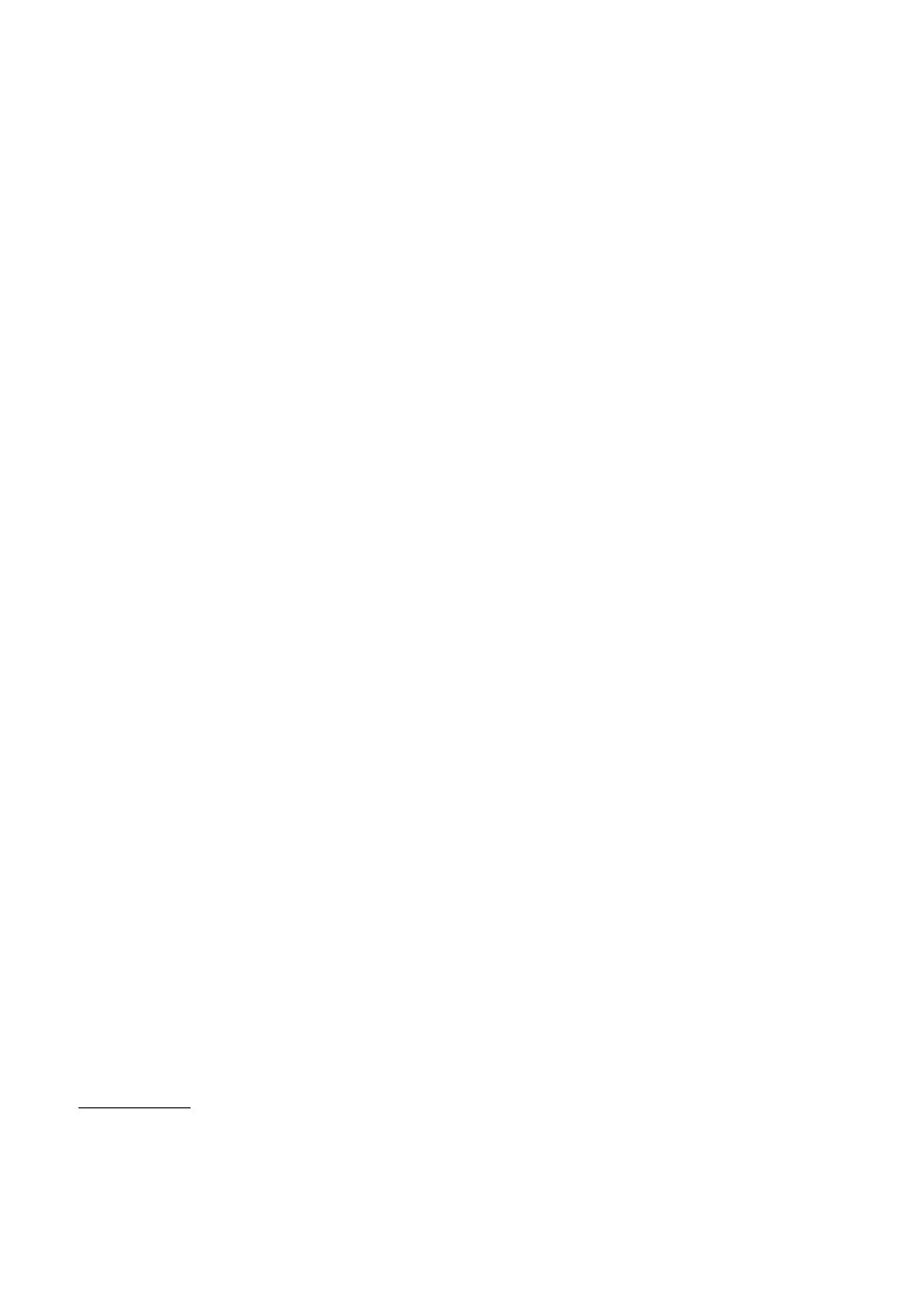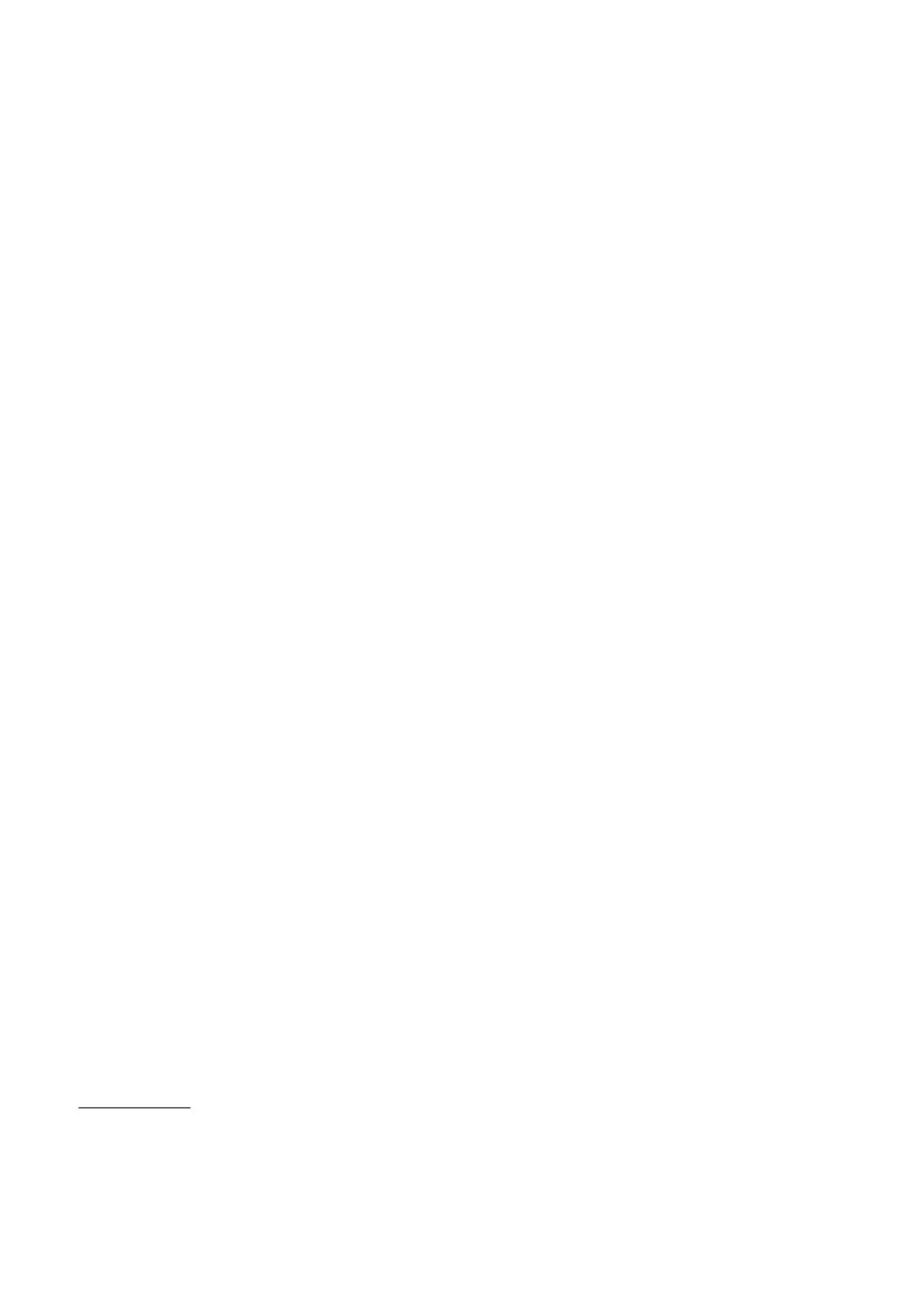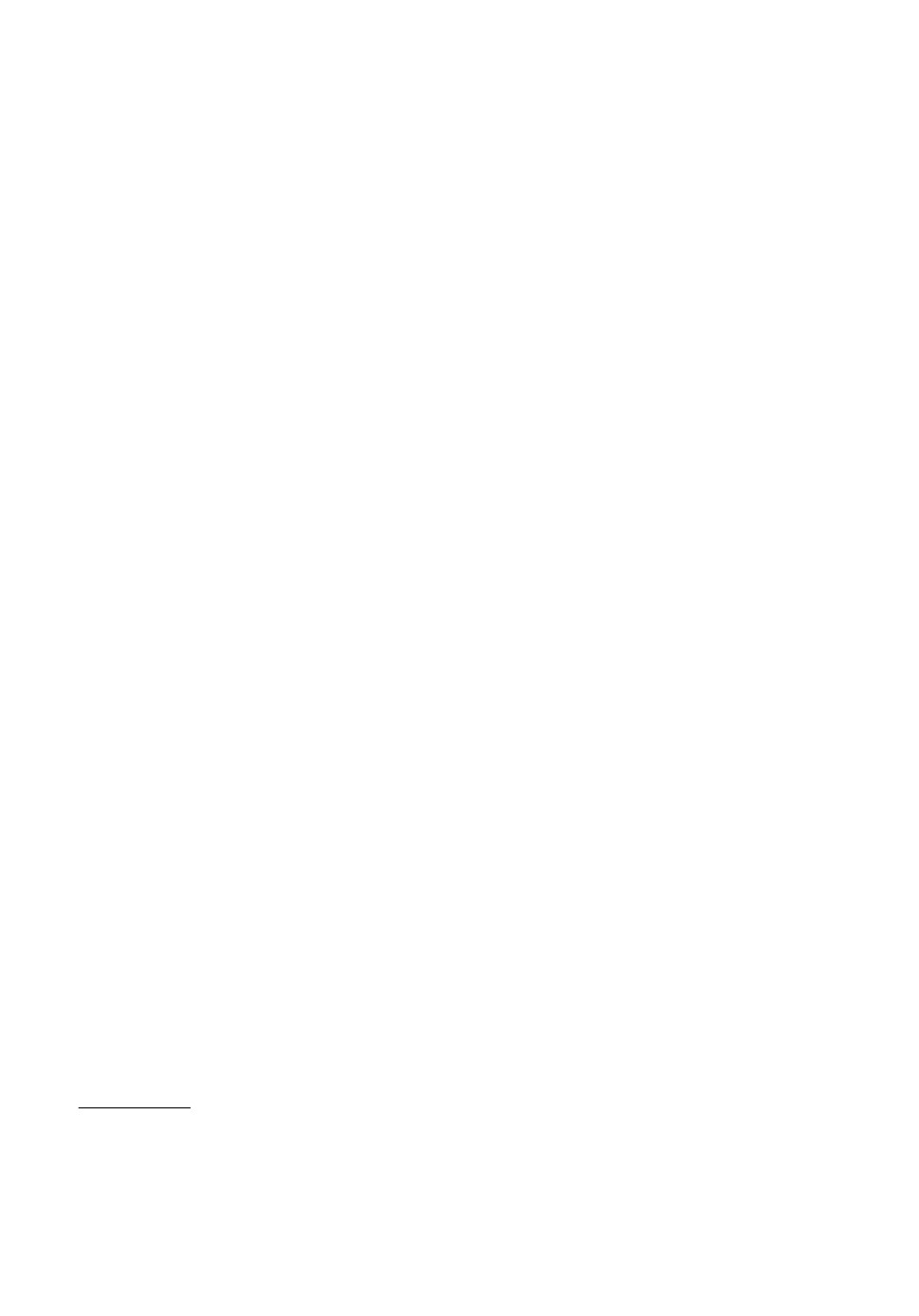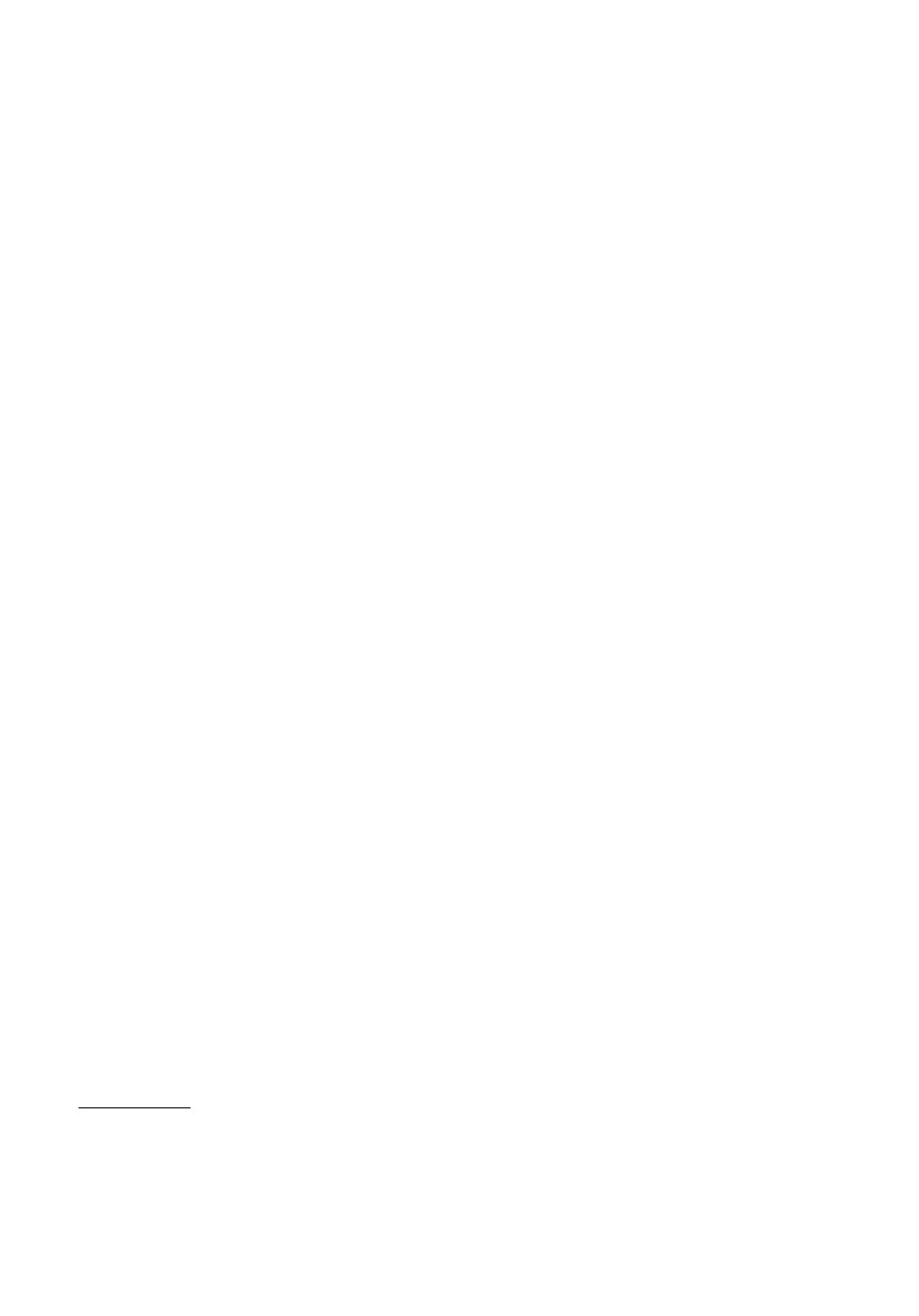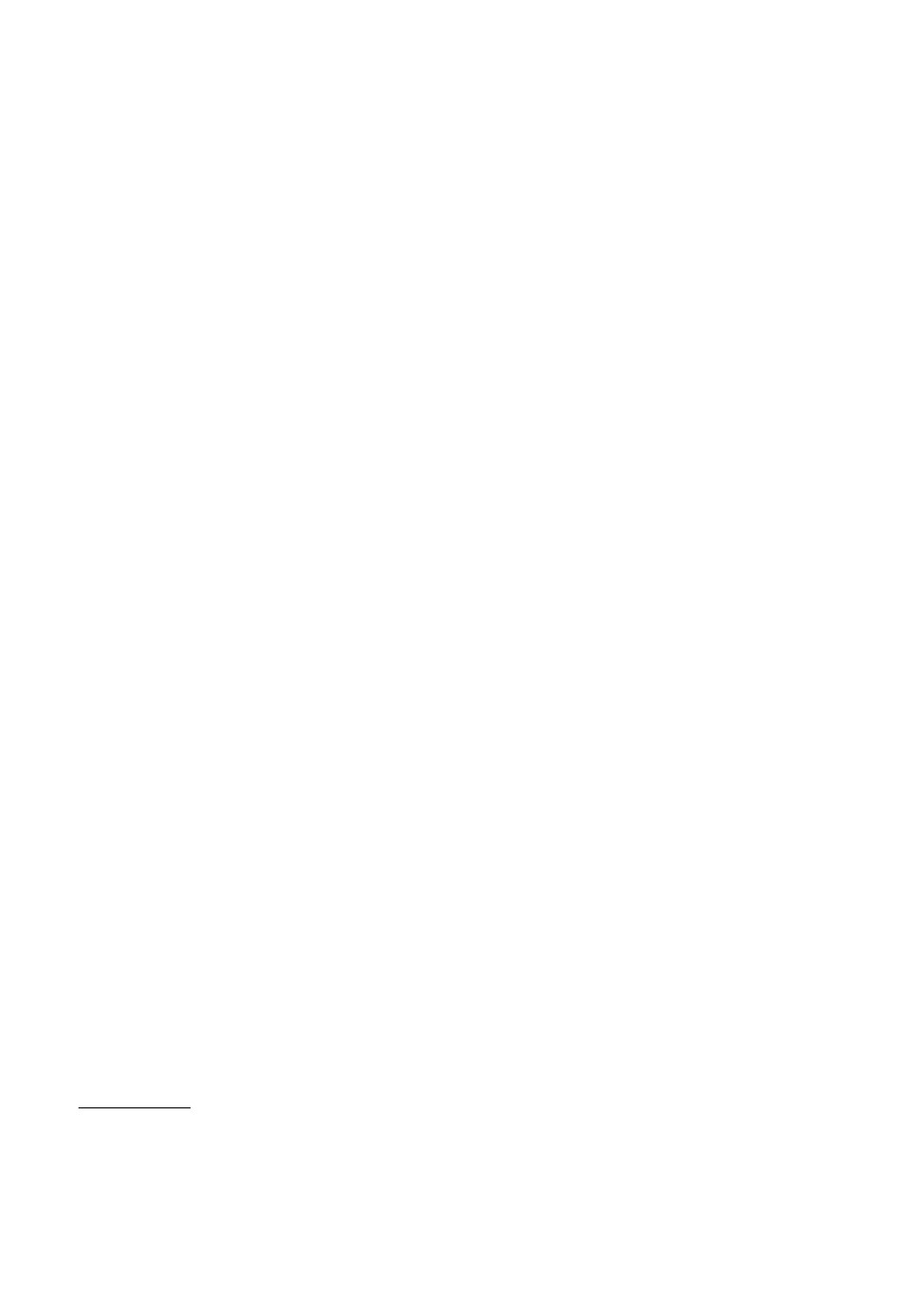История власти
Финансисты и генералы:
дискуссии о военных расходах в правящих кругах
Российской империи (1860-е - начало 1890-х гг.)
Валерий Степанов
The debates about military budget at the ruling circles of the Russian Empire
(1860s - early 1890s)
Valeriy Stepanov
(Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Moscow)
DOI: 10.31857/S0869568722030049, EDN: FWLXOS
Дореволюционная Россия выделяла в мирное время на нужды обороны от
четверти до трети государственного бюджета, занимая первое место среди других
великих держав1. Особенности геополитического положения, обширная терри-
тория, протяжённость границ и сложность мобилизации войск вынуждали им-
перию содержать самую многочисленную армию в мире, причём затраты на неё
постоянно увеличивались в связи с ростом цен на вооружение, боеприпасы, про-
виант, фураж и обмундирование. Непроизводительные расходы такого масштаба
были крайне обременительны для бедной страны с невысоким уровнем про-
мышленного развития и скудной финансовой базой, они являлись одной из ос-
новных причин дефицитов бюджета и возрастания государственного долга. Об-
суждение в верхах размеров ассигнований на армию неизменно сопровождалось
разногласиями внутри бюрократической элиты и вызывало постоянную напря-
жённость в отношениях между военным и финансовым ведомствами, поскольку
речь шла об особо крупных «жертвах» со стороны казны. От исхода этих споров
во многом зависел объём средств, отпускавшихся на военное строительство.
До сих пор это многолетнее противостояние двух министерств не привле-
кало должного внимания исследователей. Его отдельные эпизоды, относящие-
ся к 1905-1914 гг., освещены в книгах А.Л. Сидорова2 и К.Ф. Шацилло, кото-
рый критически отзывался о тех, кто безосновательно упрекал правительство
в недостаточном финансировании вооружённых сил, не учитывая при этом
экономическое состояние государства3. В монографии У. Фуллера отмечена не-
способность правительства Александра III согласовать гражданские и военные
интересы. В отдельной главе историк охарактеризовал военные расходы России
в 1880-1903 гг. и рассмотрел постоянные межведомственные трения, возникав-
шие при составлении бюджетных смет. Однако эта часть книги носит общий,
© 2022 г. В.Л. Степанов
1
Лапин В.В. Военные расходы России в XIX веке // Проблемы социально-экономической
истории России. К 100-летию со дня рождения Бориса Александровича Романова. СПб., 1991.
С. 148-160.
2
Сидоров А.Л. Финансовое положение России в годы Первой мировой войны. (1914-1917).
М., 1960.
3
Шацилло К.Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. Генералы и политика.
М., 2000. С. 11.
41
обзорный характер и написана на основе узкого круга источников. Кроме того,
по непонятной причине Фуллер полностью проигнорировал конфликты между
министерствами в 1860-1870-х гг. В своих оценках он, по сути, встал на сторо-
ну генералов, утверждавших, что финансовое ведомство, решая экономические
проблемы, пренебрегало потребностями армии4. В.В. Лапин указал на «ощу-
тимую тенденциозность» Фуллера, который «более благожелательно относит-
ся к военным, нежели к гражданским лицам»5. Дж. Рибер, выделяя основные
бюрократические «партии» эпохи Великих реформ, лишь упомянул о серьёз-
ных расхождениях «экономистов» и «военных» при определении уровня затрат
на вооружённые силы6.
Обострение противоречий между финансистами и генералами началось
в 1860-х гг. в связи с назревшей необходимостью модернизации армии. Крым-
ская война выявила серьёзные недостатки российской военной машины: от-
сталость системы комплектования, низкий уровень подготовки офицерского
корпуса и высшего командного состава, разнородность структуры управления,
неудовлетворительную организацию снабжения и тыловых служб, нехватку
современного вооружения. В верхах империи заговорили о скорейшем про-
ведении реформ с учётом возрастающей боевой мощи европейских держав
и совершенствования военной техники. Однако это требовало крупных ассиг-
нований, между тем страна переживала экономические трудности: затраты на
проигранную войну превысили 500 млн руб., огромный дефицит из года в год
покрывался за счёт займов и эмиссии бумажных денег, что вызвало рост го-
сударственного долга и падение курса рубля. Расстройство финансов сопро-
вождалось кризисными явлениями в промышленности и торговле7. Поэтому
для сбалансирования бюджета всем ведомствам во второй половине 1850-х гг.
приходилось сокращать свои сметы и отказываться от многих начинаний.
С этим не мог не считаться и военный министр, генерал от артиллерии
Н.О. Сухозанет, который по указанию Александра II делал всё возможное для
снижения расходов на армию, почти не предпринимая каких-либо нововве-
дений. Ситуация изменилась после того, как в 1861 г. его сменил генерал--
лейтенант Д.А. Милютин. 15 января 1862 г. император утвердил представленный
им доклад, намечавший преобразования во всех сферах военного устройства:
от численного состава, организации и комплектования войск до инженерной,
интендантской, врачебной, учебной и судебной частей. Милютин сознавал
трудность решения поставленных задач в условиях крайней ограниченности
финансовых средств, однако считал, что Военное министерство «навлекло бы
на себя тяжкий упрёк, если бы заботилось только о сокращении сметы в ущерб
благосостоянию и благоустройству армии»8. Он неоднократно ходатайствовал
перед Александром II об увеличении сметных назначений, а также предлагал
4
Fuller W.C. Civil-Military Conflict in Imperial Russia. 1881-1914. Princeton; New Jersey, 1985.
P. XXIII, 47-74.
5
Лапин В.В. Армия дореволюционной России в современной западной историографии //
Государственные институты и общественные отношения в России XVIII-XX вв. в зарубежной
историографии. СПб., 1994. С. 17.
6
Рибер А.Дж. Групповые интересы в борьбе вокруг Великих реформ // Великие реформы
в России. 1856-1874. М., 1992. С. 53-59, 62-65.
7
Подробнее см.: Степанов В.Л. Крымская война и экономика России // Вопросы теорети-
ческой экономики. 2018. № 1. С. 117-137.
8
Всеподданнейший доклад по Военному министерству 15 января 1862 г. // Столетие воен-
ного министерства. 1802-1902. Приложения к историческому очерку развития военного управ-
42
выделять единовременные экстраординарные ассигнования на различные по-
требности войск. Это шло вразрез с политикой финансового и контрольно-
го ведомств, настаивавших на строгом соблюдении введённых 22 мая 1862 г.
правил составления и исполнения бюджетной росписи, которые установили
чёткую классификацию военных расходов по параграфам и статьям, порядок
передвижения денег в смете министерства, более строгую систему отчётности
и контроля над распределением средств. Финансисты, оберегая интересы каз-
ны, стремились к уменьшению уже выделенных сумм, а также всячески пы-
тались ограничить достигшие значительных размеров сверхсметные кредиты9.
Милютин признавал, что «для всякого министра финансов главный камень
преткновения есть Министерство военное»10. Поэтому его требования приво-
дили к столкновениям с М.Х. Рейтерном, возглавлявшим в 1862-1878 гг. фи-
нансовое ведомство, и В.А. Татариновым, являвшимся в 1863-1871 гг. государ-
ственным контролёром. Их поддерживал К.В. Чевкин, председательствовавший
в 1863-1874 гг. в Департаменте государственной экономии Государственного
совета11. «Рейтерн постоянно жаловался и ворчал на чрезмерные, по его мне-
нию, военные расходы, - вспоминал Милютин, - а Татаринов, увлекаясь жела-
нием возвысить контрольную часть до степени безапелляционного суда над дей-
ствиями всех министерств, беспрестанно вызывал меня на протесты против его
приговоров относительно распоряжений по военному ведомству - приговоров,
выходивших, на мой взгляд, из компетенции Государственного контроля и часто
несправедливых и неосновательных». Не менее «ожесточённые стычки» проис-
ходили и с генерал-лейтенантом С.А. Грейгом, в 1866-1873 гг. занимавшим пост
товарища министра финансов и иногда заменявшим Рейтерна, а в 1874-1878 гг.
оказавшимся в кресле государственного контролёра. «Желая выказаться рьяным
оберегателем казны, - писал Милютин, - генерал Грейг выводил меня из тер-
пения своей самонадеянностью, упорством и докторальным тоном»12.
В марте 1862 г., едва вступив в должность, Рейтерн на заседании Коми-
тета финансов потребовал от военного министра уменьшить смету 1863 г. на
15 млн руб., при этом Чевкин «умолял» Милютина «спасти Россию от погибе-
ли»13. Александр II не согласился на столь сильное сокращение, тем не менее
финансисты продолжали оказывать давление на Милютина. «Военное мини-
стерство, - с горечью вспоминал он, - должно было ограничиваться лишь
удовлетворением самых неотложных, насущных потребностей, отказавшись от
всяких предприятий и улучшений, сопряжённых с новым расходом»14. Осо-
бенно сильный натиск на ведомство был связан с выделением значительных
средств на подавление восстания в Царстве Польском и подготовку к возмож-
ной войне с европейскими державами, что привело к увеличению расходов
с 114,2 млн руб. в 1862 г., до 155,6 - в 1863 г. и 155,1 - в 1864 г.15
ления в России / Под ред. Д.А. Скалона. Ч. 1. СПб., 1902. С. 71; Милютин Д.А. Воспоминания.
1860-1862 / Под ред. Л.Г. Захаровой. М., 1999. С. 243-294.
9
Милютин Д.А. Воспоминания. 1863-1864 / Под ред. Л.Г. Захаровой. М., 2003. С. 564, 565.
10
Милютин Д.А. Дневник. 1879-1881 / Под ред. Л.Г. Захаровой. М., 2010. С. 239.
11
Милютин Д.А. Воспоминания. 1863-1864. С. 106.
12
Милютин Д.А. Воспоминания. 1865-1867 / Под ред. Л.Г. Захаровой. М., 2005. С. 353; Ми-
лютин Д.А. Воспоминания. 1868 - начало 1873 / Под ред. Л.Г. Захаровой. М., 2006. С. 140.
13
Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. В 2 т. / Под ред. П.А. Зайончковского.
Т. 1. М., 1961. С. 155, 156.
14
Милютин Д.А. Воспоминания. 1860-1862. С. 483-484.
15
Министерство финансов. 1802-1902. В 2 ч. Ч. 1. СПб., 1902. С. 636.
43
Противоречия между министерствами возникли и в сфере железнодорож-
ного строительства. Военное ведомство подвергло критике проект сооружения
рельсовой сети, разработанный в 1862 г. Главным управлением путей сооб-
щения (ГУПС). Милютин инспирировал серию статей члена Совещательного
комитета Главного управления Генерального штаба, полковника Н.Н. Обруче-
ва16, опубликованную в «Еженедельных прибавлениях» к газете «Русский ин-
валид» в 1864 г., а затем изданную отдельной брошюрой. В них планы ГУПС
критиковались как недостаточно учитывающие задачи обороны империи и од-
новременно намечались главные направления магистралей, которые должны
были обеспечивать сосредоточение войск в приграничных регионах17. Одна-
ко соображения Военного министерства не были приняты во внимание из-
за возражений Рейтерна, рассматривавшего рельсовые пути прежде всего как
фактор экономического развития. Милютина не удовлетворил и новый проект
постройки железнодорожной сети, представленный Министерством путей со-
общения (МПС) в конце 1868 г. По его поручению Обручев, к тому времени
уже генерал-майор, составил записку, в которой определил вероятные в буду-
щем театры военных действий и вновь указал маршруты основных стратеги-
ческих линий18. Но при обсуждении этих предложений в Комитете министров
11 февраля 1869 г. большинство участников заседания поддержали Рейтерна19.
Министр иностранных дел кн. А.М. Горчаков, в частности, заявил Милютину,
что «он не видит никаких причин заботиться о стратегических требованиях
и не признаёт других целей сооружения железных дорог, кроме экономиче-
ских»20. В дальнейшем военное ведомство не раз возвращалось к этой пробле-
ме, однако её решение из-за оппозиции со стороны Министерства финансов
постоянно откладывалось вплоть до 1880-х гг.21
Из-за бюджетных дефицитов во второй половине 1860-х гг. военная смета
неоднократно подвергалась сокращениям, в итоге расходы снизились в 1865 г.
до 140 млн руб., а в 1866 г. - до 129,7 млн руб.22 В январе 1866 г. Милютин
писал Александру II, что, отложив удовлетворение насущных потребностей ар-
мии, «рано или поздно будем опять застигнуты врасплох новой войной, когда
не будет уже возможности вознаградить потерянное время»23. Он не раз пытал-
ся объясниться с Рейтерном, доказывая ему опасность ослабления боеспособ-
ности войск. Однако тот неизменно отвечал, что его дело соразмерять расходы
с имеющимися ресурсами, а не вникать в специальные военные вопросы. Тем
не менее Казначейству приходилось изыскивать дополнительные средства на
срочные нужды, а в правительстве и общественных кругах генералов нередко
обвиняли в финансовом истощении России24. Опровергая эти упрёки, Обру-
16
О деятельности Н.Н. Обручева подробнее см.: Айрапетов О.Р. Генерал-адъютант Николай
Николаевич Обручев (1830-1904). Портрет на фоне эпохи. М., 2017.
17
Обручев Н.Н. Сеть русских железных дорог. Участие в ней земства и войска. СПб., 1864.
18
ОР РГБ, ф. 169, карт. 37, д. 14, л. 1-9.
19
Кислинский Н.А. Наша железнодорожная политика по документам архива Комитета мини-
стров. В 4 т. Т. 2. СПб., 1902. С. 36, 37.
20
Милютин Д.А. Воспоминания. 1868 - начало 1873. С. 168.
21
Тестов В.Н. Возведение и функционирование стратегических железных дорог в эпоху им-
ператора Александра III (1881-1894). Воронеж, 2016. С. 12-14.
22
Министерство финансов… Ч. 1. С. 636.
23
Всеподданнейший доклад по Военному министерству за 1865 год. СПб., 1866. С. 209.
24
Милютин Д.А. Воспоминания. 1863-1864. С. 572, 573; Милютин Д.А. Воспоминания. 1865-
1867. С. 190, 361, 406-408.
44
чев в 1865 г. опубликовал в «Военном сборнике» и отдельным изданием об-
ширный очерк, посвящённый финансированию армии. Рассмотрев различные
статьи расходов, автор констатировал, что выделяемые министерству суммы
не только не избыточны, но даже не удовлетворяют самые насущные военные
потребности25.
Осенью 1866 г., накануне обсуждения смет на следующий год, Рейтерн
доложил Александру II, что единственный способ сбалансировать бюджет за-
ключается в уменьшении военных расходов не менее чем на 20 млн руб. Ми-
лютин со своей стороны представил самодержцу общий обзор состояния армии
с перечнем нерешённых проблем в её организации, перевооружении и снабже-
нии, раскритиковав мнение об излишней многочисленности российских войск
по сравнению с другими странами и чрезмерных затратах на их содержание26.
6 октября под председательством императора состоялось заседание Совета ми-
нистров, на котором обсуждалась подготовленная Рейтерном программная за-
писка о мерах, необходимых для стабилизации экономики27. Изобразив «мрач-
ную картину» финансового положения страны, он рекомендовал урезать все
ведомственные сметы, и в первую очередь - военную, что встретило резкий
протест Милютина. Оба министра жёстко настаивали на выполнении своих
требований, угрожая отставкой. В итоге Александр II повелел главам всех ве-
домств максимально сократить предполагаемые в следующем году расходы.
Однако при личной встрече с Милютиным он разрешил ему снизить затраты
лишь до того уровня, при котором не происходило бы ослабление «боевой
силы» армии28.
Тем временем Обручев в новой брошюре доказывал, что «государствен-
ное существование» России со времён Петра I было непрерывным финансово--
экономическим кризисом, выражавшимся в огромной задолженности казны
и расстройстве денежного обращения. Следствием правительственной поли-
тики, основанной на крепостном праве и бюрократической регламентации,
стало значительное отставание от западных стран, наметился застой в сель-
ском хозяйстве, остро ощущалось слабое развитие промышленности, путей
сообщения, кредита, засилье иностранных коммерсантов. Экономический
прогресс, по мнению Обручева, был возможен в России только после раскре-
пощения «народной производительности», предоставления обществу широкой
свободы в устройстве своих частных интересов и превращения забитого му-
жика в полноценного индивидуума с растущими потребностями и средствами
для их удовлетворения. Генерал скептически оценивал попытки правительства
выйти из финансовых затруднений за счёт сокращения необходимых государ-
ственных расходов, жертвуя насущными нуждами страны ради затыкания дыр
в бюджете29.
В обстановке продолжавшихся «голословных нареканий» со стороны как
«финансовых авторитетов», так и «публики», Милютин 1 января 1867 г. привёл
во всеподданнейшем докладе данные о сметах своего ведомства в 1866-1867 гг.
25
[Обручев Н.Н.] Обзор деятельности Военного министерства в последнее пятилетие, финан-
совых его средств и нужд армии. СПб., 1865.
26
Милютин Д.А. Воспоминания. 1865-1867. С. 361, 362; ОР РГБ, ф. 169, карт. 28, д. 5,
л. 13-18.
27
РГИА, ф. 1275, оп. 1, д. 66.
28
Милютин Д.А. Воспоминания. 1865-1867. С. 362-365.
29
Обручев Н.Н. Наше финансовое положение. СПб., 1866.
45
Он обратил внимание на ошибочность распространённого мнения об умерен-
ности военных бюджетов Франции и Пруссии, отметив, что по сравнению
с европейскими странами Россия расходует в этой области гораздо меньше.
«Время ли теперь посягать на силу нашей армии, - риторически спрашивал
министр, - когда все государства европейские наперерыв умножают свои бо-
евые силы, и когда со всех сторон поднимаются на политическом горизонте
грозные тучи»30. По распоряжению императора доклад был прочитан на засе-
дании Совета министров 26 января, однако это не изменило позиции сторон
и вызвало лишь толки с намёками на «натяжки» в приведённых цифрах31.
Тогда Обручев, назначенный управляющим делами Военно-учёного комите-
та, по приказу Милютина в марте 1867 г. составил объяснительную записку
к смете на текущий год. В ней доказывалось, что, несмотря на начавшееся
реформирование организации и снабжения войск, затраты не только не воз-
росли, но даже снизились, в случае же дальнейшего ограничения численности
и довольствия воинских частей и соединений империя окажется «обезору-
женной» перед растущей мощью соседних государств. «Расход на армию, -
писал Обручев, - составляет нормальную потребность России, составляет то
бремя, которое неразрывно связано с её историческим бытием, и выкупается
её независимостью и политическим значением»32. Однако в Министерстве фи-
нансов не согласились с подобными доводами и официально выступили с их
опровержением33.
Тем не менее в последующие годы суммы, выделявшиеся военному ве-
домству, постепенно возрастали, что во многом объяснялось расширением
финансовых возможностей правительства. В 1869-1873 гг. Россия пережила
экономический подъём, проявившийся в бурном росте акционерного учреди-
тельства, развитии промышленности, активном строительстве железных дорог,
увеличении экспорта и торговых оборотов. Поступления в казну существенно
возросли, обыкновенный бюджет в первой половине 1870-х гг. стал сводиться
с профицитом, в разменном фонде был накоплен значительный запас золота
и серебра, повысился курс рубля. Это совпало с началом нового этапа воен-
ных реформ. Блестящие победы германской армии над Францией в 1870 г.
произвели сильное впечатление в России. «Умы поражены были громадностью
военных сил, развёрнутых Пруссией, совершенством их организации, быстры-
ми ударами, нанесёнными могущественному врагу, - вспоминал Милютин. -
Тогда поняли и у нас, как несвоевременно было заботиться исключительно
об экономии, пренебрегая развитием и совершенствованием наших военных
сил»34.
В ноябре 1870 г. были образованы две комиссии для разработки положений
о всеобщей воинской повинности, а также о запасных, местных, резервных
войсках и государственном ополчении35. В январе 1871 г. Милютин отмечал,
30
Всеподданнейший доклад по Военному министерству за 1866 год. СПб., 1867. С. 117-127;
Милютин Д.А. Воспоминания. 1865-1867. С. 433-436.
31
РГИА, ф. 1275, оп. 1, д. 70.
32
[Обручев Н.Н.] Объяснительная записка к смете Военного министерства за 1867 год.
СПб., 1867.
33
Милютин Д.А. Воспоминания. 1865-1867. С. 439.
34
Милютин Д.А. Воспоминания. 1868 - начало 1873. С. 307.
35
Там же. С. 315-316; Зайончковский П.А. Военные реформы 1860-1870 годов в России.
М., 1952. С. 306.
46
что «предстоящие новые преобразования, в видах значительного увеличения
наших вооружённых сил на случай войны, должны, без сомнения, потребовать
и новых средств денежных»36. Он рассчитывал, что относительное упорядо-
чение финансов и очевидная неготовность России к борьбе с заметно укре-
пившимися соседними державами заставят его оппонентов пойти на уступки.
Однако эти надежды не оправдались: генералов по-прежнему упрекали «в разо-
рении государства». Теперь критики ссылались на пример Северогерманского
союза, который смог выставить огромную армию, хотя тратил на содержание
войск в мирное время значительно меньше, чем Россия37.
Оспаривая подобные суждения, Милютин поручил Обручеву подготовить
обстоятельный разбор военных бюджетов обеих стран на 1870 г. Печатная за-
писка с подробными таблицами, датированная 19 декабря 1871 г., была разо-
слана министрам и членам Государственного совета. В ней разъяснялась некор-
ректность сопоставления «валовых» затрат на армию европейских государств
и России, где на каждого военнослужащего тратилось вдвое меньше средств,
чем в Германии. Приведённые Обручевым статистические данные свидетель-
ствовали, что впечатляющие суммы, поступавшие из казны, на самом деле
значительно уступали расходам Германии и других великих держав. Россия
с её огромной территорией, неблагоприятным климатом, неразвитостью про-
мышленности и транспорта, а также низким уровнем образования населения
нуждалась, по мнению генерала, в гораздо более масштабных ассигнованиях
для формирования современных вооружённых сил. Режим экономии, которого
придерживалось Министерство финансов, грозил империи отставанием в во-
енном отношении от своих потенциальных противников и утратой прежнего
могущества. «Армия, - утверждал Обручев, - есть политическое, но вместе
с тем и техническое орудие, требующее таких же непрерывных усовершен-
ствований, как и всякое другое. Если самое существование государства требует
существования этого орудия, то оно должно быть совершенно, должно стоять
в уровень с другими подобными же орудиями других государств и быть готово
выдержать с ними самую упорную борьбу. Всякое отступление от этих принци-
пов ведёт к гибельным последствиям». При этом в пример приводились пора-
жения Австрии и Франции в войнах с Пруссией, которая, в отличие от своих
противников, рассматривала армию не как бремя для экономики, а как силу,
необходимую для сохранения государственности38.
В ответ Министерство финансов выступило с возражениями против вы-
водов Обручева, также сопроводив их многочисленными статистическими та-
блицами. Отвергая обвинения во «вредной бережливости», сотрудники Рейтер-
на упрекали генерала в «совершенно несправедливых суждениях», «незнании
фактов и условий дела», ошибочном и предвзятом использовании цифровых
показателей. В их записке говорилось, что Обручев, как узкий военный специ-
алист, забывает о реальных возможностях казны. Между тем «войско сильно
только тогда, когда сила его не есть бремя для страны, когда за числительной
вооружённой силой стоят прочные и соответственные ей экономические силы
населения». Россия, используя на нужды армии львиную долю своих доходов,
36
Всеподданнейший доклад по Военному министерству за 1870 год. СПб., 1871. С. 145.
37
Милютин Д.А. Воспоминания. 1868 - начало 1873. С. 457.
38
[Обручев Н.Н.] Сравнительная таблица военных бюджетов Северо-германского союза по
сметным предположениям на 1870 год и России по действительному исполнению государственной
росписи 1869 года. [СПб.], 1871. Вторая пагинация. С. 1-36.
47
в этом отношении оказалась на первом месте в Европе, а в абсолютных ве-
личинах её военный бюджет превысил аналогичные ассигнования Германии
и Австро-Венгрии вместе взятых39. Обручев, в свою очередь, в новой записке
10 апреля 1872 г. возражал: «Расходы на армию всегда будут составлять бремя
для населения, но это бремя есть бремя его жизни, без которого немыслимо ни
существование его как политического тела, ни неприкосновенность его до-
стоинства, ни материальное и нравственное его развитие»40. На этом поле-
мика временно прекратилась. По свидетельству Милютина, она носила чисто
«академический» характер и не имела никаких последствий, поскольку каждая
сторона осталась при своём мнении41.
В июле 1872 г. военный министр напомнил императору о «новых пожерт-
вованиях», которые потребуются в ходе предстоящей реформы. «Неизбежно
должен был стать на первый план вопрос финансовый в связи с высшими
соображениями стратегии и политики, - писал он в воспоминаниях, - а затем
уже выступали специальные задачи самой организации армии и её резервов».
Признавая, что решение по такому «важному делу» не может готовиться только
в военном ведомстве, министр предложил созвать для его обсуждения Особое
совещание42. Оно заседало под председательством Александра II с 28 февраля
по 31 марта 1873 г. В нём приняли участие несколько десятков человек - вели-
кие князья, министры, видные сановники, представители высшего армейского
командования43.
16 февраля, ещё до начала этих заседаний, Рейтерн представил импера-
тору записку, в которой вновь говорилось, что ни в одной европейской стра-
не на армию в мирное время не выделяется столько средств, как в России,
где в 1872 г. они составили 37% расходной части бюджета, тогда как казна
вынуждена удовлетворять возрастающие из года в год требования других ве-
домств, осуществляющих преобразования в различных сферах государствен-
ной жизни. Министр финансов выражал опасение, что дальнейшее увеличение
военных затрат, не обеспеченных соответствующими источниками доходов,
уничтожит первые ростки экономического благополучия, породит огромные
бюджетные дефициты, лишит правительство возможности выделять кредиты
для поддержки народного хозяйства и частного предпринимательства, заста-
вит заключать кабальные займы, вводить новые налоги, вызывая недовольство
населения и подготавливая почву «разрушительным политическим и социаль-
ным тенденциям». «Повернуть опять на стезю ежегодных дефицитов, - пре-
достерегал он, - значило бы оставить дорогу, ведущую к улучшению наших
финансов, к развитию экономического состояния, к возвышению действитель-
ного и прочного могущества России и вступить на тот путь, который клонится
к расстройству финансов, разорению народа и уменьшению могущества Рос-
сии, даже и военном отношении, ибо тщетно было бы думать, что военная сила
может увеличиваться, когда экономические силы государства уменьшаются»44.
39
Сравнительные исчисления и выводы о размере расходов на военные силы Российской
и Германской империй. СПб., 1873. Первая пагинация. С. 1-13.
40
Там же. Седьмая пагинация. С. 1-20.
41
Милютин Д.А. Воспоминания. 1868 - начало 1873. С. 563.
42
Там же. С. 549, 550.
43
Там же. С. 574-604; Зайончковский П.А. Военные реформы… С. 288-304.
44
РГИА, ф. 560, оп. 22, д. 146, л. 75-80 об.
48
Рейтерн предложил ввести для Военного министерства на пять лет «нор-
мальный» бюджет, т.е. установить ежегодную предельную сумму, сверх кото-
рой не будут допускаться никакие дополнительные ассигнования. Подобная
система никогда не практиковалась за границей, но в России попытки та-
ким образом ограничить расходы казны предпринимались и ранее. В 1835 г.
министр финансов Е.Ф. Канкрин направил Николаю I проект «нормальной
росписи» с максимумом расходов по каждому ведомству на следующий год, од-
нако в ходе детального обсуждения бюджета сметные назначения значительно
превысили запланированный лимит. В 1857 г. был учреждён Особый комитет,
который по поручению министра финансов П.Ф. Брока определил на три года
«нормальные цифры» для ведомственных смет (кроме военного и морского ми-
нистерств). Они даже получили одобрение императора, но затем Высшая кон-
трольная комиссия, готовившая новые сметные правила, признала предельные
бюджеты «очевидным отступлением от общеустановленных понятий в финан-
совом деле»45.
Записка Рейтерна была размножена и передана участникам совещания. На
первом же его заседании фельдмаршал кн. А.И. Барятинский заявил, что для
увеличения вооружённых сил России нет необходимости наращивать военный
бюджет, а следует лишь избегать ненужных расходов, образовав специальную
комиссию для выяснения размера возможных «сбережений». Рейтерн повто-
рил основные положения своей записки, с которой собравшиеся уже были
знакомы, а кн. Горчаков и Чевкин призвали генералов к «бережливости». Со
своей стороны, Милютин заверил присутствовавших, что не возражает против
предельного бюджета, однако условия его введения требуют соглашения между
военным и финансовым ведомствами при участии государственного контро-
лёра (им в то время был А.А. Абаза). По сути, это была уступка, на которую
министр пошёл, столкнувшись с сильной оппозицией его замыслам. Между
тем неделю спустя Александр II вернулся к идее кн. Барятинского и назначил
фельдмаршала главой Финансовой комиссии для рассмотрения военных смет,
включив в неё Чевкина, Грейга, председателя Комитета министров П.Н. Иг-
натьева, члена Государственного совета гр. Э.Т. Баранова и нескольких генера-
лов46. Однако их деятельность свелась лишь к мелочной критике финансовой
и хозяйственной деятельности министерства. В июле 1873 г. под руководством
князя для императора была составлена записка с перечнем якобы выявленных
недостатков. По распоряжению Милютина его подчинённые дали подробные
разъяснения по всем пунктам этого «обвинительного акта». В итоге работа ко-
миссии завершилась безрезультатно47.
Тем временем в финансовом ведомстве были подготовлены и согласованы
с Милютиным и Абазой Правила о составлении, рассмотрении и исполнении
расходных смет Военного министерства на пятилетие 1874-1878 гг., утверж-
дённые Александром II 4 июля 1873 г. Сумма затрат на 1874 г. ограничивалась
174,3 млн руб. (на 5 млн руб. больше, чем в 1873 г.), а на 1875-1878 гг. -
179,2 млн руб. в год. Изменения допускались при перенесении каких-либо
45
Кашкаров М.П. Обзор бюджетного законодательства России за 1862-1890 годы. СПб., 1891.
С. 627-628.
46
Милютин Д.А. Воспоминания. 1868 - начало 1873. С. 583, 584, 587-589, 595-597; Зайонч-
ковский П.А. Военные реформы… С. 293-296.
47
Милютин Д.А. Дневник. 1873-1875 / Под ред. Л.Г. Захаровой. М., 2008. С. 35-36, 40-41,
237, 373.
49
средств в сметы других ведомств и наоборот. Дополнительные ассигнования
разрешалось запрашивать лишь в случае начала войны, снаряжения военной
экспедиции, повышения цен на провиант и фураж. Вместе с тем военное ве-
домство могло не разносить всю ежегодную предельную сумму по сметным
подразделениям и часть её отчислять в особый запасной фонд на непредви-
денные расходы, перераспределять кредиты между различными управлениями,
переводить в запасной фонд неизрасходованные к концу года остатки, которые
ранее полагалось возвращать в Казначейство48. Комиссия из представителей
трёх ведомств, действовавшая в 1874-1876 гг. при Канцелярии Военного ми-
нистерства, занималась корректировкой и дополнением этих правил (их новые
редакции были утверждены императором 26 июня 1874 г. и 28 января 1877 г.49).
В 1874 и 1875 гг. принятые нормы неукоснительно соблюдались, однако
Милютину было трудно смириться с жёстким ограничением своих финансо-
вых возможностей. «После печального исхода бывшего в начале года секрет-
ного совещания по военным делам и с установлением нормального бюджета
Военного министерства, - писал он в дневнике в конце декабря 1873 г., - мне
уже невозможно вести дело военного устройства с той самостоятельностью
и энергией, с которыми вёл до сих пор в течение более 12 лет»50. В итоге об-
ширные преобразования в армии, намеченные совещанием 1873 г., сильно
затормозились. «Военное министерство, - докладывал Милютин императору
1 января 1876 г., - имея в виду, с одной стороны, эту громадную цифру пред-
стоящих расходов, а с другой - определённый размер денежных ресурсов,
предоставленных в его распоряжение нормальным бюджетом, сознавало, что
средства не соответствуют цели и что, несмотря на настоятельность многих
преобразований, необходимо рассрочить их на довольно продолжительный
период времени»51.
Несмотря на достигнутый зыбкий компромисс, межведомственные споры
продолжались. Так, например, в ноябре 1873 г. на заседании Комитета ми-
нистров Милютин и Рейтерн вступили в «резкие прения» по поводу импорта
в Россию селитры для производства пороха, и «наговорено было много непри-
ятного друг другу»52. С 1874 г., возглавив Государственный контроль, Грейг при
поддержке Рейтерна стал отстаивать своё право на вмешательство в распоря-
жения всех ведомств, по словам Милютина, «принимая с комической самона-
деянностью вид знатока в финансовом деле». Вскоре он превратился в «ярого
судью над всеми министрами» и «с обычной своей самонадеянностью и раз-
вязностью» обвинял их в «расточительности», позволяя себе «резкие выходки»,
«нахальный тон» и «наглые нападки»53.
В 1876-1882 гг. чрезвычайные расходы, связанные с Русско-турецкой вой-
ной 1877-1878 гг., составили 1 075,4 млн руб.54 В итоге страна, как и в конце
1850-х гг., оказалась в тисках острого финансового кризиса, который выразил-
48
РГИА, ф. 565, оп. 1, д. 2781, л. 69-76; ПСЗ-II. Т. 48. Отд. 2. СПб., 1876. № 52442.
49
РГИА, ф. 565, оп. 1, д. 2781, л. 145-147 об., 151, 152-155, 265-266; ПСЗ-II. Т. 49. Отд. 1.
СПб., 1876. № 53676; Т. 52. Отд. 1. СПб., 1879. № 56880.
50
Милютин Д.А. Дневник. 1873-1875. С. 74-75.
51
Всеподданнейший доклад по Военному министерству за 1875 год. СПб., 1876. С. 1.
52
Милютин Д.А. Дневник. 1873-1875. С. 56.
53
Там же. С. 96, 150; Милютин Д.А. Дневник. 1876-1878 / Под ред. Л.Г. Захаровой. М., 2009.
С. 36, 43, 46, 53, 56, 57, 210.
54
Министерство финансов… Ч. 1. С. 639; Ч. 2. СПб., 1902. С. 643.
50
ся в огромных бюджетных дефицитах, сокращении налоговых поступлений,
резком возрастании государственного долга, падении курса рубля и галопиру-
ющей инфляции55. В июле 1878 г. Рейтерн, ранее упорно возражавший против
вступления России в борьбу с Турцией, уступил свой пост Грейгу. Милютин
не без раздражения отметил в дневнике, что тот «едва ли поправит финансы
России, а может, ради своей самонадеянности, наделать много бед»56. Между
тем в 1878 г. истекал пятилетний срок действия предельных бюджетов, поэтому
Грейг, Милютин и новый государственный контролёр Д.М. Сольский убедили
императора 7 сентября 1878 г. продлить действие утверждённых ранее правил
до конца 1879 г. с тем, чтобы за это время продумать основания для составле-
ния смет министерства в будущем57.
23 марта 1879 г. по докладу министра финансов император повелел учре-
дить под председательством Абазы Особую высшую комиссию для изыскания
способов к сокращению государственных расходов58. Абаза сразу же отправил
Милютину (получившему 30 августа 1878 г. графский титул) официальное пись-
мо с просьбой найти возможность уменьшить затраты по его ведомству. Тот
ответил, что Военное министерство при своём скромном бюджете и без того на
каждом шагу встречает препятствия к удовлетворению самых острых нужд ар-
мии, поэтому «всякое серьёзное сокращение расходов влечёт ущерб в важном
деле готовности государства к поддержанию своего политического достоин-
ства»59. Укрепив своё положение в верхах, гр. Милютин был полон решимости
добиться приемлемых объёмов финансирования. В мае 1879 г. он писал Грей-
гу о том, что «мысль об установлении для Военного министерства нормаль-
ного бюджета принадлежит всецело Министерству финансов, определившему
в 1873 году и предельную сумму этого бюджета по соображении со средствами
Государственного казначейства, а не с нуждами Военного министерства, от
которого даже не требовалось предварительно никаких сведений, и которому
предоставлено было сообразовать расходы с данными ему средствами»60.
Понимая сложность в тяжёлой экономической ситуации точно определить
размер предельного бюджета, Грейг по соглашению с Сольским и гр. Милюти-
ным предложил императору составить смету Военного министерства на 1880 г.
на общих основаниях, а в дальнейшем выработать оптимальный порядок фи-
нансирования армии. 13 июля 1879 г. император согласился на этот шаг61. Одна-
ко государственный контролёр в отчёте за 1879 г. отметил, что руководство во-
енного ведомства, воспользовавшись отменой прежних ограничений, заложило
в смету будущего года сумму, превышающую прежнюю норму на 35 млн руб.62
Поэтому Сольский считал необходимым рассмотреть возможные варианты по
сдерживанию роста военных расходов. Александр II повелел ему обсудить их
с Грейгом и гр. Милютиным. В январе 1880 г. военный министр был вынужден
признать: «До сих пор недостаток денежных средств постоянно заставлял нас
55
Степанов В.Л. Цена победы: Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и экономика России //
Российская история. 2015. № 6. С. 99-119.
56
Милютин Д.А. Дневник. 1876-1878. С. 453.
57
РГИА, ф. 565, оп. 1, д. 2781, л. 560-560 об.; ПСЗ-II. Т. 53. Отд. 2. СПб., 1880. № 58834.
58
РГИА, ф. 560, оп. 22, д. 160, л. 12-13 об., 17-18 об.
59
Там же, ф. 1214, оп. 1, д. 5, л. 10-12, 33-33 об.
60
Там же, ф. 565, оп. 1, д. 2781, л. 569 об.-570.
61
Там же, л. 577-577 об.
62
Всеподданнейший отчёт государственного контролёра за 1879 год. СПб., 1880. С. 81-84.
51
отставать от западноевропейских государств в деле военных усовершенствова-
ний и новых мероприятий; мы принуждены были откладывать или рассрочи-
вать на многие годы даже такие мероприятия, которые признавались наиболее
настоятельными и бесспорными и которые в других государствах давно уже
были осуществлены при помощи чрезвычайных денежных ассигнований. К со-
жалению, положение наших финансов таково, что и в будущем едва ли мож-
но с вероятностью предвидеть, что с этой стороны не встретится препятствий
к правильному и достаточно быстрому ходу преобразований, направленных для
развития нашей военной организации соответственно политическим потребно-
стям России и современному состоянию военного искусства»63.
В августе 1880 г. гр. Милютин составил записку, в которой раскритиковал
систему предельных бюджетов и констатировал невозможность точного расчёта
чрезвычайных затрат и установления единой границы для сметных расходов
при ежегодном росте цен. По его мнению, это заставило бы сокращать налич-
ный состав армии и даже изменять саму организацию вооружённых сил, дабы
«подогнать» стоимость их содержания к установленной сумме. Тем не менее
граф предлагал компромисс и готов был разделить ежегодную смету своего
ведомства на две части: обыкновенную, определяемую с учётом военных нужд,
и предельную, чрезвычайную для экстренных расходов, сверх которой исклю-
чались дополнительные ассигнования. Эта фиксированная сумма составляла
бы запасной фонд министерства и использовалась бы по мере необходимости64.
Однако в Департаменте государственного казначейства категорически
возразили против образования подобного фонда и предоставления Военному
министерству полной свободы им распоряжаться, поскольку «такой простор
легко может повести к употреблению государственных средств в ущерб обще-
му государственному хозяйству и к нарушению равновесия средств страны, от
состояния которых главным образом и должно зависеть первоначальное назна-
чение величины предельной суммы для такого рода расходов»65. Не одобрил эту
инициативу и видный киевский экономист Н.Х. Бунге, назначенный в июле
1880 г. товарищем министра финансов. В программной записке, представлен-
ной императору 20 сентября того же года, он поставил вопрос: «Если удовлет-
ворение постоянных неотложных военных расходов должно иметь место даже
и тогда, когда такие расходы сопряжены для народа и государства с тяжёлыми
жертвами, то не следует ли также во времена трудные ограничивать единовре-
менные военные издержки, которые могут быть отложены, и не поступит ли
правительство против интересов государства, отпуская из Казначейства деньги
для образования фонда, в непосредственном расходовании которого нет насто-
ящей надобности?»66.
В октябре 1880 г. Грейга сменил Абаза, а гр. Баранов занял место предсе-
дателя Комиссии по пересмотру ведомственных смет. Гр. Милютин попытался
объясниться с новым министром. «Я высказал ему, что предместники его со-
вершенно напрасно считали меня своим злейшим противником, - писал он
в дневнике, - что, напротив того, я рад всеми силами помогать министру фи-
нансов в смысле облегчения наших финансовых затруднений; но вместе с тем
63
Всеподданнейший доклад по Военному министерству за 1879 год. СПб., 1880. С. 4.
64
РГИА, ф. 565, оп. 1, д. 2831, л. 1-2, 3-9 об.
65
Там же, л. 49-60 об.
66
Записка Н.Х. Бунге Александру II «О финансовом положении России» / Публ. А.П. Погре-
бинского // Исторический архив. 1960. № 2. С. 140-141.
52
надеюсь, что он также и со своей стороны будет разумным образом взвеши-
вать настоятельные требования государственной безопасности при настоящей
шаткой политической обстановке». Граф надеялся, что Абаза «не будет таким
самонадеянным, как Грейг, ни таким односторонним и упрямым, как Рей-
терн»67. К тому же оба министра являлись политическими единомышленни-
ками и играли видную роль в либеральной «коалиции», сложившейся в 1880-
1881 гг. вокруг гр. М.Т. Лорис-Меликова.
Тем не менее Абаза ревностно отстаивал интересы своего ведомства. «Не-
смотря на восстановление мирного направления в нашей внешней политике,
около трети расходной сметы ассигнуется на потребности Военного министер-
ства, - напоминал он Александру II в декабре 1880 г. - При таких условиях
министр финансов считает своим долгом выразить убеждение в неотложной не-
обходимости принятия по указанию Вашего императорского величества таких
мер, которые могли бы содействовать сокращению средств, расходуемых ныне
страной для содержания её военных сил»68. При обсуждении в Государственном
совете сметы на 1881 г. Абаза заявил, что расстройство финансов связано с не-
померными затратами на армию и единственный способ сбалансировать бюджет
заключался в том, чтобы уменьшить численность войск и размер выделяемых
им ассигнований. Гр. Милютин возразил, что масштаб военного строительства
зависит не от «доброй воли» правительства, а от международной обстановки
и боевой мощи соседних держав. Однако Абазу поддержали Сольский и боль-
шинство участников заседания. В марте 1881 г. в Особом присутствии по воин-
ской повинности при определении контингента новобранцев очередного призы-
ва министр финансов вновь настаивал на сокращении числа военнослужащих69.
В мае 1881 г., вскоре после восшествия на престол Александра III, Абазу
сменил Бунге, а гр. Милютина - генерал от инфантерии П.С. Ванновский,
пользовавшийся личным доверием нового самодержца. Но борьба финанси-
стов и генералов не прекращалась. Ванновский и Обручев, ставший началь-
ником Главного штаба, требовали денег на дальнейшую модернизацию армии.
Их запросы были вполне обоснованы, так как минувшая война выявила не-
мало недостатков в организации, обучении и снабжении войск, а междуна-
родная обстановка оставалась тревожной. Несмотря на возобновление в июне
1881 г. и в марте 1884 г. Союза трёх императоров, афганский (1885) и болгар-
ский (1885-1886) кризисы значительно обострили отношения между великими
державами. Между тем русская армия заметно уступала своим потенциальным
противникам по целому ряду показателей.
Однако планам генералов препятствовало послевоенное расстройство фи-
нансов, которое усугублялось катастрофическим неурожаем 1880 г., низкими
сборами хлебов в 1882 и 1885 гг., отрицательным сальдо торгового и платёжно-
го балансов, кризисом перепроизводства в промышленности, который перерос
в депрессию, продолжавшуюся до 1887 г. Поэтому Бунге всячески призывал
Александра III к «миролюбивой, но твёрдой политике» для решения экономи-
ческих задач70. В феврале 1882 г. министр с тревогой воспринял воинственные
67
Милютин Д.А. Дневник. 1879-1881 / Под ред. Л.Г. Захаровой. М., 2010. С. 239-240.
68
Всеподданнейший доклад министра финансов о государственной росписи доходов и расхо-
дов на 1881 год. СПб., 1880. С. 10-11.
69
Милютин Д.А. Дневник. 1879-1881. С. 247, 303.
70
Всеподданнейший доклад министра финансов о государственной росписи доходов и расхо-
дов на 1883 г. СПб., 1883. С. 16.
53
антигерманские заявления генерала М.Д. Скобелева в Париже71. В конце марта
1885 г., после столкновения русских и афганских отрядов на Кушке, вызвав-
шего усиление враждебности со стороны Великобритании, он прямо заявил
императору, что «даже самая успешная война не может не быть гибельной для
нас»72.
При назначении Ванновского на министерский пост Александр III дал
ему «первенствующее указание» во что бы то ни стало уменьшить военный
бюджет73. Это в полной мере отвечало стремлениям финансового ведомства.
Помимо Сольского, сильную поддержку Бунге оказывал Абаза, пользовав-
шийся большим влиянием в Государственном совете, а с 1884 г. вновь предсе-
дательствовавший в Департаменте государственной экономии. С ними соли-
даризовался министр иностранных дел Н.К. Гирс, стремившийся обеспечить
России мир всеми возможными дипломатическими средствами и избегавший
конфронтации с Германией. Финансисты убеждали Александра III в необхо-
димости сократить государственные расходы, и в первую очередь - ассигно-
вания на армию. 17 июля 1881 г. по докладу гр. Баранова последовало вы-
сочайшее повеление о разрешении Департаменту государственной экономии,
Министерству финансов и Государственному контролю при рассмотрении
смет на будущий год исходить только из принципа целесообразности, не счи-
таясь с действующими постановлениями, порядками и штатными расписани-
ями74. Тем самым выполнение задачи, возложенной ранее на Особую высшую
комиссию, фактически оказалось в руках этих ведомств, что позволило им
снизить предполагаемые затраты. В наибольшей степени это коснулось Во-
енного министерства, смету которого урезали на 23,2 млн руб. после реше-
ния императора сократить штатное расписание войск75. Кроме того, 20 апреля
1882 г. по инициативе Бунге и Сольского министрам и главноуправляющим
было предоставлено право пересматривать штаты и поручено уменьшить сум-
мы в сметах на 1882 г. (прежде всего за счёт канцелярских и хозяйственных
издержек), а ежегодно повторяющиеся расходы следовало перевести из числа
сверхсметных ассигнований в разряд обычных. Отныне все ведомства могли
запрашивать дополнительные суммы только с санкции министра финансов
и государственного контролёра76.
Однако применение этих постановлений натолкнулось на сопротивление
Военного министерства, бюджет которого должен был пострадать в наиболь-
шей степени. Тем не менее в начале 1880-х гг. Ванновскому приходилось
считаться с бедственным состоянием казны. «Ясно было, - писал он впослед-
ствии Александру III, - что в течение некоторого времени интересы чисто
военные должны быть до известной степени приносимы в жертву интересам
экономическим, и что финансовые соображения до поры до времени должны
преобладать над всеми другими»77. Однако уже в марте 1884 г. Бунге информи-
71
Перетц Е.А. Дневник (1880-1883) / Под ред. А.А. Белых. М., 2018. С. 300-301.
72
Половцов А.А. Дневник государственного секретаря. В 2 т. / Под ред. П.А. Зайончковского.
Т. 1. М., 2005. С. 333.
73
Всеподданнейший доклад по Военному министерству за 1887 год. СПб., 1888. С. 1, 2.
74
Министерство финансов… Ч. 2. С. 296.
75
Всеподданнейший доклад управляющего Министерством финансов о государственной рос-
писи доходов и расходов на 1882 г. СПб., 1882. С. 8.
76
РГИА, ф. 1152, оп. 9, 1882 г., д. 141, л. 2-12, 13-20, 21.
77
Всеподданнейший доклад по Военному министерству за 1887 год. С. 2-3.
54
ровал императора, что Ванновский требует 6,75 млн руб. на строительство кре-
постей, повышение оклада офицерам и содержание казачьих войск. По словам
министра финансов, удовлетворение такого запроса ещё более увеличивало
ожидавшийся бюджетный дефицит в 11,6 млн руб. При дальнейшем росте во-
енных издержек правительству придётся, забыв о «благоденствии народном»,
вводить новые налоги, которые вряд ли удастся взыскать без недоимок, и за-
ключать займы на невыгодных условиях, выплачивая по ним обременитель-
ные проценты. «В таком случае, - предсказывал Бунге, - может наступить
постепенное расстройство финансов, которое повлечёт за собой впоследствии
невозможность удовлетворять насущным нуждам армии и флота, а наконец,
и кризис хозяйственный, легко обращающийся в потрясение государственного
строя»78.
Обручев в сентябре 1884 г. с горечью писал гр. Милютину в Симеиз:
«Работаем мы много, но такая уж наша судьба, что двигаемся мы весьма
черепашьими шагами. Нет денег»79. Бунге не предлагал вернуться к системе
предельных бюджетов. Он скептически отзывался об этой мере и не видел
никаких гарантий в том, что расходы в течение года не выйдут за границы
сметных назначений80. Поначалу ему удавалось сдерживать военные затраты.
Если в 1881 г. они составили 255,6 млн руб., то в 1882 г. - уже 204,5, 1883 г. -
201,6, а в 1884 г. - 200 млн руб., однако после боёв на афганской границе
они вновь возросли до 206,7 млн руб. в 1885 г. и 212 - в 1886 г.81 В ноябре
1886 г. Бунге с сожалением докладывал императору, что действия его ве-
домства и ряда специальных комиссий по сокращению расходов Военного
министерства и других центральных учреждений за редкими исключениями
оказались неэффективными82.
30 июня 1885 г. по докладу Ванновского Александр III подписал подго-
товленные Особым совещанием под председательством Абазы Правила испро-
шения и ассигнования Военному министерству денежных средств на расходы,
вызываемые военными обстоятельствами. Отныне при возникновении угрозы
войны или при подготовке к ней все ведомственные нужды удовлетворялись за
счёт чрезвычайных сверхсметных сумм, которые запрашивались всеподданней-
шими докладами министра и с высочайшего разрешения выделялись Казна-
чейством. После начала боевых действий решения о предоставлении кредитов
принимались Особым совещанием из председателя Департамента государ-
ственной экономии, государственного контролёра, руководителей военного,
морского и финансового ведомств. Выделенные средства вносились в особый
параграф сметы («военный фонд»). Таким образом, закреплялось существова-
ние двух бюджетов - обыкновенного и военного83. Новая редакция этих правил
с небольшими изменениями вошла в Положение о полевом управлении войск
в военное время, утверждённое 26 февраля 1890 г., и действовала вплоть до
начала Первой мировой войны84.
78
Записка Н.Х. Бунге Александру III о состоянии бюджета России / Публ. А.П. Погребин-
ского // Исторический архив. 1960. № 2. С. 143-144.
79
ОР РГБ, ф. 169, карт. 71, д. 63, л. 2 об.
80
РГИА, ф. 560, оп. 21, д. 177, л. 32-32 об.
81
Министерство финансов… Ч. 2. С. 642-643.
82
РГИА, ф. 560, оп. 21, д. 177, л. 31 об., 32.
83
Там же, ф. 565, оп. 1, д. 214, л. 34-38, 39-44; ПСЗ-III. Т. 5. СПб., 1887. № 3096.
84
ПСЗ-III. Т. 10. Отд. 2. СПб., 1893. № 6609. Приложение № 3.
55
Генералы, как и ранее, настаивали на сооружении сети железных дорог,
обеспечивающих мобилизацию и сосредоточение армии на границе. Особую
активность в этом отношении проявлял Обручев. По свидетельству С.Ю. Вит-
те, стратегические линии были его «манией»85. 14 февраля 1883 г. совеща-
ние под председательством Александра III утвердило план строительства трёх
казённых дорог в западных губерниях (всего свыше тысячи вёрст). Однако фи-
нансисты не спешили выделять на них деньги. В следующем году на одном
из заседаний Комитета министров Бунге и Сольский высказали опасение, что
расходы на постройку в короткий срок столь протяжённых линий, не имеющих
какого-либо экономического значения, станут тяжким бременем для казны. На
совещании, созванном для обсуждения этих соображений, Ванновский катего-
рически заявил, что без необходимых коммуникаций невозможно обеспечить
«целость и безопасность» государства. Его мнение было поддержано участни-
ками заседания и 17 марта 1884 г. одобрено императором86. В дальнейшем раз-
вернулись работы по прокладке Полесских, Привисленских и Новоселицких
стратегических дорог, а также Закаспийской магистрали.
В начале 1887 г. Бунге сменил известный учёный-механик и глава прав-
ления ряда акционерных компаний И.А. Вышнеградский. Приступив к упо-
рядочению финансов, он испытывал сильную тревогу по поводу возможного
втягивания России в тот или иной международный конфликт, поскольку Ван-
новский и его окружение отнюдь не исключали подобного поворота событий.
За несколько дней до своего назначения будущий министр отправился к ди-
ректору Азиатского департамента МИД И.А. Зиновьеву, чтобы расспросить его
о положении дел в Европе. Тот заверил его, что в обозримом будущем империи
ничего не угрожает87. Вскоре после этого Вышнеградский «весьма решительно»
предупредил Александра III, что если не удастся умерить аппетиты генералов,
то к концу года дефицит бюджета может составить 100 млн руб. «Мир нам
необходим», - утверждал он. По свидетельству директора Канцелярии МИД
гр. В.Н. Ламздорфа, «государь будто бы выразил Вышнеградскому своё твёрдое
намерение придерживаться миролюбивой политики»88.
Министр финансов зорко следил, чтобы какое-нибудь неосторожное реше-
ние не вызвало нежелательной реакции в Германии. В ноябре 1887 г. он оспо-
рил требование Ванновского запретить экспорт в Германию камня, использо-
вавшегося для немецких крепостей на российской границе, так как подобный
шаг «может произвести чрезвычайно неблагоприятное впечатление в полити-
ческом отношении»89. Генерала А.А. Киреева Вышнеградский уверял, что если
удастся избежать войны в течение ближайших пяти лет, то он сумеет «починить
наши финансы»90. На традиционном итоговом заседании Государственного со-
вета 28 декабря 1887 г. министр заявил, что «финансовая будущность наша все-
цело зависит от торжества мирной политики»91. По мнению государственного
85
Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания / Публ. Б.В. Ананьича, Р.Ш. Ганелина, С.В. Кули-
кова, С.К. Лебедева, И.В. Лукьянова. Т. 2. СПб., 2003. С. 46.
86
Кислинский Н.А. Указ. соч. Т. 3. С. 208-210.
87
Дневник В.Н. Ламздорфа (1886-1890) / Под ред. Ф.А. Ротштейна. М.; Л., 1926. С. 38.
88
Там же. С. 50.
89
РГИА, ф. 40, оп. 1, д. 39, л. 109, 110.
90
ОР РГБ, ф. 126, карт. 11, л. 24 об.
91
Половцов А.А. Указ. соч. Т. 2. М., 2005. С. 70.
56
секретаря А.А. Половцова, Вышнеградский «умел вызвать государя на громкое
провозглашение мирной политики» и «заслуга эта очень велика»92.
Обстановка в верхах явно складывалась в пользу министра финансов. Ру-
ководство МИД осуждало Ванновского и Обручева за искусственное нагне-
тание военной угрозы93. Недовольство высказывали даже представители выс-
шего генералитета. Морской министр вице-адмирал И.А. Шестаков резко
отзывался о «воинственных тенденциях» Ванновского, называя его «просто
дураком и сумасшедшим»94. Главнокомандующий войсками гвардии вел. кн.
Владимир Александрович, ознакомившись с всеподданнейшей программ-
ной запиской, поданной Вышнеградским 21 декабря 1886 г., сказал импе-
ратору, что «никакое улучшение финансов невозможно, покуда мы в такой
мере отягощены военными расходами, что этот милитаризм должен привести
к банкротству и сопровождающим его несчастьям, что необходимо стараться
сделать возможным уменьшение армий, и что велика будет заслуга того госу-
даря, который это сделает». Половцов одобрительно отозвался об этих словах:
«Вот это умные речи»95. Главный военный прокурор кн. А.К. Имеретинский
в беседе с государственным секретарём критиковал «партию войны» во главе
с Обручевым, будто бы считавшую в начале 1887 г. выгодным столкновение
Франции с Германией, поскольку Россия могла воспользоваться этим для
того, чтобы разгромить Австро-Венгрию и занять перевалы в Карпатах. «Эко-
номические, нравственные соображения для этих людей не существуют», -
сетовал князь96.
Энергичный и работоспособный Вышнеградский быстро укрепил своё
положение в верхах, пользуясь поддержкой Сольского и особенно Абазы,
с которым у него сложились тесные отношения. 11 августа 1887 г. в записке,
направленной Александру III, он указал на необходимость принять «твёрдое
и непоколебимое решение» о запрете сверхсметных ассигнований97. Импера-
тор наложил одобрительную резолюцию, и тогда, ссылаясь на волю монарха,
министр финансов отказал военным в дополнительных кредитах и даже не-
сколько сократил их смету на следующий год. «Должно надеяться, - писал он
царю, - что это обстоятельство, являя собой новое доказательство глубокого
и искреннего миролюбия Вашего императорского величества, поможет тор-
жеству мирной политики Вашей, которая предотвратит от России бедствия
и ужасы войны»98. В свою очередь, военный министр в январе 1888 г. об-
ращал внимание Александра III на явное отставание России от европейских
держав (в особенности от Германии и Франции), которые не жалели денег на
наращивание своих сил и формировали армии «чудовищных размеров». Он
настаивал на выделении крупных сумм для увеличения численности войск,
усиления артиллерии и кавалерии, сооружения новых и реконструкции старых
крепостей, создания продовольственных резервов. «Какими незначительными
и даже ничтожными представляются эти средства, сравнительно с теми сот-
92
Там же. С. 270.
93
Дневник В.Н. Ламздорфа (1886-1890). С. 8, 28, 44, 45, 57.
94
Там же. С. 54.
95
Половцов А.А. Указ. соч. Т. 2. С. 5.
96
Там же. С. 16.
97
РГИА, ф. 560, оп. 1, д. 168, л. 14-14 об.
98
Всеподданнейший доклад министра финансов о государственной росписи доходов и расхо-
дов на 1888 год. СПб., 1887. С. 8, 15.
57
нями миллионов, которые жертвуются другими государствами без малейшего
колебания!», - сокрушался Ванновский99.
Вместе с тем, несмотря на явное недофинансирование, Военное мини-
стерство в 1881-1888 гг. провело реорганизацию кавалерии, преобразовало
стрелковые батальоны в полки, увеличило число офицеров, усилило войска
в Закаспийской области и Приамурском крае, сформировало «туземные» части
и новые пластунские батальоны на Кавказе, устраивало учебные сборы запас-
ного состава, повышало офицерское жалованье, улучшало довольствие нижних
чинов и т.п.100 Весной 1888 г. Ванновский, заручившись согласием императора,
представил министру финансов «Список неотложнейших потребностей» своего
ведомства, с просьбой на ближайшие пять лет увеличить ежегодную смету на
18 млн руб., а также единовременно выделить ещё 40 млн руб. на дополнитель-
ные расходы101.
Но Вышнеградский остался непреклонен. В записке, составленной им для
Александра III в апреле 1888 г., отмечалось, что ходатайство о сверхсметных
кредитах противоречит ясно выраженной монаршей воле, а увеличение расхо-
дов грозит дефицитом бюджета, с таким трудом сбалансированного в прошлом
году. Как и Бунге, он не сомневался, что введение новых налогов останется на
бумаге и не станет надёжным источником доходов, однако «может посеять неу-
довольствие и ропот, могущие иметь очень прискорбные последствия». К тому
же, по его мнению, запросы генералов не были вызваны сколько-нибудь острой
необходимостью, поскольку, как неоднократно заверял МИД, в ближайшие
годы войны не предвиделось. Вышнеградский рекомендовал «воспользоваться
сим благоприятным положением и не разбрасывать наши скудные средства на
малополезные расходы, а употреблять их крайне бережливо с целью возмож-
ного исправления нашего финансового и экономического положения». При
этом он заявлял, что «благосостояние народа даже при некотором несовершен-
стве военного устройства принесёт в период вооружённого столкновения более
пользы, нежели самая полная боевая готовность армии при пошатнувшемся
экономическом положении народа»102.
Для урегулирования разногласий 7 мая Александр III созвал под своим
председательством Особое совещание, собрав министров иностранных дел, во-
енного и финансов. В ходе заседания Ванновский утверждал, что «нужно ждать
столкновения между Германией и Францией и быть готовыми»103. Однако са-
модержец поддержал Вышнеградского, признав, что дальнейшая модернизация
армии возможна лишь с учётом имеющихся ресурсов Казначейства, причём
не может быть и речи о новых займах и усилении налогообложения. Министр
финансов поспешил закрепить свой успех и добился согласия императора на
восстановление «нормальных» военных смет. 13 мая 1888 г. по совместному до-
кладу Ванновского, Вышнеградского и Гирса были утверждены Общие правила
о предельном бюджете Военного министерства на 1889-1893 гг. В течение это-
99
Всеподданнейший доклад по Военному министерству за 1887 год. С. 11, 12-15.
100 Обзор деятельности Военного министерства в царствование Александра III. 1881-1894.
СПб., 1903. С. 324, 325.
101 РГИА, ф. 565, оп. 14, д. 94, л. 225 об.; Всеподданнейший доклад по Военному министерству
за 1888 год. СПб., 1889. С. 1, 2.
102 РГИА, ф. 565, оп. 14, д. 94, л. 224-232.
103 Шестаков И.А. Полвека обыкновенной жизни. Дневники (1882-1888 гг.). СПб., 2014.
С. 471.
58
го пятилетия к сметной сумме 1888 г. (211,6 млн руб.) ежегодно должны были
прибавляться: в 1889 г. - 5,6 млн руб., 1890 г. - 7,3, 1891 г. - 8,6, 1892 г. - 10,
1893 г. - 11 млн руб.104 18 июня Александр III одобрил представленный Ван-
новским план повышения боеспособности армии, предусматривавший усиле-
ние офицерских кадров, увеличение контингента новобранцев, реорганиза-
цию старых и формирование новых воинских частей, установление льгот для
унтер-офицеров105.
Для детальной разработки правил о предельном бюджете была учреждена
межведомственная комиссия под председательством товарища государствен-
ного контролёра Т.И. Филиппова. На её заседаниях в июне 1888 г. вспыхну-
ли новые разногласия - генерал-майор П.Л. Лобко, представлявший военное
ведомство, с санкции Ванновского выдвинул собственный вариант проекта,
предоставлявший министерству значительную свободу в распоряжении выде-
ленными средствами. В итоге на рассмотрение трёх министров поступили две
редакции правил, поэтому по приказу Александра III спорный вопрос обсуди-
ли в конце 1888 г. в Особом совещании во главе с Абазой. Но и там Ванновско-
му не удалось отстоять свои позиции, и 20 декабря по докладу Вышнеградского
император подписал Правила о порядке составления, рассмотрения и исполне-
ния финансовых расходных смет Военного министерства на пятилетие 1889-
1893 гг., которые в основном повторяли нормы закона 4 июня 1873 г.106 Ван-
новскому оставалось только жаловаться на то, что теперь придётся «подогнать
организационные военные преобразования к точно определённым на каждый
год добавочным ассигнованиям, которых размер не может идти даже ни в ка-
кое сравнение с чрезвычайными кредитами, столь поспешно предоставляемы-
ми в распоряжение военного ведомства в других государствах»107.
Между тем экономическое положение страны заметно улучшилось. Бла-
годаря обильным урожаям 1887 и 1888 гг. увеличились поступления в казну,
а конверсии внешних займов позволили сократить ежегодные выплаты по дол-
говым обязательствам. Бюджет стал сводиться с профицитом, рост экспорта
хлеба изменил торговый и платёжный балансы в пользу России, депрессия
в промышленности и застой в торговле сменились оживлением производства
и коммерческих оборотов. В декабре 1888 г. на заседании Государственного со-
вета Вышнеградский в очередной раз назвал «миролюбивую политику госуда-
ря» одной из основных причин упорядочения финансов108. Однако он опасал-
ся, что война может разрушить начавшееся возрождение народного хозяйства.
Между тем в феврале 1887 г. был возобновлён Тройственный союз, тогда как
Союз трёх императоров после болгарского кризиса прекратил своё существо-
вание, а подписанный в июне 1887 г. «перестраховочный» русско-германский
договор не снимал противоречий между соседними державами.
Пользуясь относительной экономической стабилизацией при нарастании
напряжённости в Европе, военные попытались взять реванш. На этот раз им-
ператор более благосклонно отнёсся к аргументам Ванновского и Обручева.
По свидетельству Половцова, в апреле 1889 г. Александр III сказал Абазе, «что
104 РГИА, ф. 560, оп. 22, д. 146, л. 108-112.
105 Всеподданнейший доклад по Военному министерству за 1888 год. С. 5-7.
106 РГИА, ф. 565, оп. 1, д. 2844, л. 184-193 об., 195-199 об., 249-258 об., 281-286; ПСЗ-III.
Т. 8. СПб., 1890. № 5661.
107 Всеподданнейший доклад по Военному министерству за 1888 год. С. 4-5.
108 Половцов А.А. Указ. соч. Т. 2. С. 144.
59
Вышнеградский узко смотрит на деятельность министра финансов, заботясь
исключительно о сбережениях, что до сих пор он, государь, вполне поддержи-
вал Вышнеградского и категорически отказывал во всех требованиях военного
министра, но что теперь, с изменением обстоятельств к лучшему, необходимо
будет удовлетворить некоторые из этих требований»109. Перемена позиции мо-
нарха вызвала беспокойство в финансовом ведомстве. В конце мая Вышне-
градский сообщил Александру III, что в Военном министерстве и в некоторых
других центральных учреждениях готовятся меры, которые потребуют в бли-
жайшем будущем значительных чрезвычайных расходов, превышающих воз-
можности Казначейства, особенно с учётом ожидаемого низкого урожая. Он
предложил к 15 сентября собрать сведения обо всех планируемых сверхсметных
затратах и затем обсудить их в Особом совещании. Император согласился и на-
ложил соответствующую резолюцию110.
В начале июля 1889 г. Обручев подготовил для Александра III записку,
в которой раскритиковал политику Вышнеградского. Генерал признал успехи
министра в достижении бюджетного равновесия и облегчении долгового бреме-
ни, но утверждал, что финансовое ведомство уделяет внимание исключительно
интересам казны, пренебрегая «нуждами развития экономической жизни стра-
ны». По его словам, принцип бережливости, которого жёстко придерживался
Вышнеградский, приносит вред, если сдерживает рост производительных сил
народа и, в частности, используется как довод для замораживания строитель-
ства железных дорог, необходимых и для народного хозяйства, и для обороны
государства. Обручев напоминал, что соседи России располагают миллионны-
ми армиями и густой сетью рельсовых путей для их быстрого сосредоточения,
а обширные пространства империи делают её уязвимой для врагов, к числу
которых он относил и участников Тройственного союза, и Великобританию,
и Турцию, и Китай. Поэтому генерал настаивал на сооружении стратегических
железных дорог по всему периметру границ от западных губерний до Даль-
него Востока. Он признавал, что эти линии не будут иметь экономического
значения и не принесут прибыли, однако «не только достоинство, но и сама
прочность благосостояния государства зависят, прежде всего, от его безопасно-
сти». По подсчётам Обручева, осуществление его замысла требовало в течение
ближайших пяти лет выделения из казны 300 млн руб. (60 млн руб. ежегодно).
Резолюция Александра III была вполне однозначной: «Всё это справедливо
и весьма желательно привести в исполнение»111.
Вышнеградский в ответной записке опроверг обвинения Обручева в наме-
ренной приостановке железнодорожного строительства, ссылаясь на проведе-
ние ряда линий в разных регионах. Вместе с тем он отстаивал целесообразность
прокладки исключительно таких магистралей, которые имели бы не только
оборонное значение, поскольку трата казённых средств «на искусственное
расширение сети железных дорог, из коих добрая половина будет бесполезна
в экономическом и вредна в финансовом отношении, приведёт, несомненно,
к тому, что на более важные государственные задачи мы не найдём средств».
Вышнеградский предсказывал, что реализация проекта Обручева, не обеспе-
ченного необходимыми ресурсами, «нанесёт России неисчислимый и, может
109 Там же. С. 199.
110 РГИА, ф. 560, оп. 1, д. 168, л. 19-22 об.
111 Там же, оп. 22, д. 146, л. 118-139 об.
60
быть, непоправимый вред», породит дефицит бюджета, подорвёт государствен-
ный кредит и вызовет падение курса рубля. 22 августа 1889 г. император отре-
агировал на эту записку лишь лаконичной пометой: «Читал»112.
12 октября Ванновский направил министру финансов перечень чрезвы-
чайных ассигнований на 1889-1893 гг., предназначенных для перевооружения
армии, строительства крепостей и казарм, проведения учебных сборов и по-
купки земельных участков для лагерей, снаряжения ратников ополчения, уве-
личения продовольственных и вещевых запасов, формирования новых воин-
ских частей. Генерал запрашивал 234 млн руб. единовременно и 17,3 млн руб.
ежегодно, а также 20 млн руб. по смете МПС (4 млн руб. в год) на сооружение
2 тыс. вёрст стратегических шоссе. В дополнительной записке, представлен-
ной 14 октября, он добавил к этим суммам ещё около 300 млн руб. на про-
кладку вторых путей стратегических железных дорог, постройку новых линий
и увеличение подвижного состава113. Однако Департамент государственного
казначейства, сославшись на выраженную 13 мая 1888 г. «высочайшую волю»
и Правила 20 декабря 1888 г., признал подобные запросы завышенными и ре-
комендовал изыскать средства на их удовлетворение в рамках предельного
бюджета114.
В соображениях Министерства финансов, изложенных 9 ноября 1889 г.,
достигнутое бюджетное равновесие не считалось сколько-нибудь прочным,
поскольку доходы казны оставались нестабильными и зависели от величины
урожаев. Поэтому для предотвращения дефицита следовало соблюдать стро-
гую бережливость и всячески сокращать расходы из-за невозможности заклю-
чать займы на выгодных условиях и обременять население новыми налогами115.
Вышнеградского поддержал Гирс, назвавший требования военных неуместны-
ми в тот момент, когда «наш бюджет только что пришёл в некоторое равно-
весие и разменный курс стал повышаться»116. Жёсткая позиция финансового
ведомства вызвала у Ванновского и Обручева сильное раздражение. По сви-
детельству гр. Ламздорфа, начальник Главного штаба жаловался окружающим
на скупость Вышнеградского и упрекал его в том, что «ничего не делается для
развития продуктивных сил страны и использования богатств страны»117.
Запрос Ванновского рассматривался в ноябре 1889 г. Особым совещанием
под председательством Абазы. Военный министр вновь говорил про огромные
затраты на армию в других странах и о том, как сложно заранее рассчитать сум-
му, необходимую для удовлетворения текущих потребностей. Вышнеградский
повторял, что при вооружённом конфликте шансы на победу зависят не только
от материальной обеспеченности войск, но и от финансово-экономического
состояния государства. В итоге военному ведомству решили предоставить
в 1890 г. лишь 10 млн руб. на перевооружение и 4 млн руб. на другие нужды,
остальные расходы следовало произвести из средств предельного бюджета. Со-
вещание постановило также выдать МПС 10 млн руб. на усиление пропускной
способности всей сети железных дорог и 16,6 млн руб. на прокладку вторых
112 Там же, л. 140-162.
113 Там же, ф. 565, оп. 1, д. 243, л. 1-1 об., 5-10 об.; ф. 1683, оп. 1, д. 52, л. 9-10 об.
114 Там же, ф. 565, оп. 1, д. 243, л. 26-53 об.
115 Там же, ф. 1683, оп. 1, д. 52, л. 105-113 об., 117-123 об.
116 Дневник В.Н. Ламздорфа (1886-1890). С. 223.
117 Там же. С. 217.
61
путей стратегических линий. 14 декабря это решение утвердил император118.
С 15 апреля 1890 г. стали действовать новые правила, согласно которым все
денежные средства, предназначенные для перевооружения войск (ежегодные
чрезвычайные кредиты и часть предельной суммы), выделялись в особую фи-
нансовую смету119.
В конце декабря 1889 г. при обсуждении в Государственном совете бюд-
жетной росписи на следующий год Абаза, полемизируя с генералами, заявил,
что «успехи нашего финансового положения не должны вскружить нам голо-
ву, что мы не должны увлекаться теориями тех, кои хотели бы вовлечь наше
правительство в большие расходы под предлогом, что расходы имеют в виду
развитие сил России в будущем»120. Ванновский, возражая своим оппонентам,
писал Александру III: «По существу дела, потребность в развитии вооружённых
сил государства не может быть сравниваема с потребностью в развитии прочих
отраслей государственного управления, и если для последних исключитель-
ным мерилом являются внутренние отношения, экономические силы народа
и ресурсы, им доставляемые государственному казначейству, то для первого
все эти данные отнюдь не являются единственным стимулом и единственным
мерилом напряжения»121. В дальнейшем военный министр направил импера-
тору ещё три варианта своего плана организационных мероприятий по усиле-
нию боеспособности армии, которые были утверждены 3 июня 1890 г., 27 мая
1891 г. и 26 июля 1893 г.122
Введение предельных бюджетов с ежегодной надбавкой и кредиты на пере-
вооружение привели к росту военных расходов. Если в 1887 г. они составляли
211, а в 1888 г. - 212 млн руб., то в 1889 г. - 226, 1890 г. - 241, 1891 г. - 252,8,
1892 г. - 262,6, 1893 г. - 273,6 млн руб.123 Их увеличение не было остановлено
даже «всероссийским разорением» 1891-1892 гг. Неурожаи привели к сниже-
нию платёжеспособности крестьян и сокращению налоговых поступлений. За
два голодных года сверхсметные ассигнования достигли нескольких сотен мил-
лионов рублей, была израсходована почти вся свободная наличность Казна-
чейства. Падение спроса на промышленную продукцию усугубило начавшийся
кризис перепроизводства. Военное ведомство оказалось в трудном положении,
поскольку резко возросли затраты на закупку провианта и фуража. В этой об-
становке Обручев в беседе с гр. М.Э. Клейнмихель «очень горячо и с необыч-
ной откровенностью порицал министра финансов, называя его вором», кото-
рый «совсем отдался наживе и истощает все производительные силы России»124.
С целью минимизировать ожидаемый дефицит бюджета, Вышнеградский
20 августа 1891 г. предложил исключить из сметы Военного министерства на
1892 г. средства, предназначенные для добавления к предельной сумме, а также
сократить чрезвычайные расходы на перевооружение армии125. Получив санк-
118 РГИА, ф. 565, оп. 1, д. 243, л. 136-154 об.
119 Там же, ф. 1152, оп. XI, 1890 г., д. 211, л. 2-9 об., 11-13; ПСЗ-III. Т. 10. Отд. 1. СПб., 1893.
№ 6714.
120 Половцов А.А. Указ. соч. Т. 2. С. 270.
121 Всеподданнейший доклад по Военному министерству за 1889 год. СПб., 1890. С. 5-6.
122 Всеподданнейший доклад по Военному министерству за 1892 год. СПб., 1893. С. 5-7; Все-
подданнейший доклад по Военному министерству за 1894 год. СПб., 1895. С. 6, 7.
123 Министерство финансов… Ч. 2. С. 642-643.
124 Ламздорф В.Н. Дневник. 1891-1892 / Под ред. Ф.А. Ротштейна. М.; Л., 1934. С. 278.
125 РГИА, ф. 560, оп. 22, д. 168, л. 34-34 об., 40-40 об.
62
цию императора, он обратился к Ванновскому, но тот согласился уступить
менее половины указанной суммы. «Нельзя не иметь в виду, - предостерегал
министр финансов Александра III в сентябре 1891 г., - что бюджет с назна-
чением, несмотря на бедственное положение населения, для вооружённых сил
большей суммы, чем в 1891 г., подаст повод сомневаться в нашем миролюбии,
что, при нынешнем напряжённом положении Европы, может привести к край-
не нежелательным последствиям»126. Его беспокоили англо-германское сближе-
ние, отказ Берлина продлить «договор перестраховки» и новое возобновление
6 мая 1891 г. Тройственного союза.
В конце ноября 1891 г., беседуя с императором, Вышнеградский вновь
«настаивал на необходимости строгой экономии, совершенно мирной поли-
тики и уменьшения расходов на вооружения, поглощающие такие громадные
суммы». Он даже спрашивал у Гирса о возможности «добиться какого-либо
соглашения насчёт разоружения или, по крайней мере, по ограничению новых
вооружений»127. Министр иностранных дел не поддержал эту инициативу, но
к ней проявил интерес гр. Ламздорф, который впоследствии внёс большой
вклад в подготовку 1-й Гаагской мирной конференции 1899 г.128 Со своей сто-
роны, Ванновский в январе 1893 г. докладывал Александру III: «Военное ми-
нистерство вполне сознаёт, что финансовое положение империи не позволяет
нам тягаться в вооружениях с нашими западными соседями, но положение, во
всяком случае, настолько серьёзно, что останавливаться на результатах, уже
достигнутых, невозможно, а необходимы дальнейшие усилия и пожертвования
для увеличения боевой готовности армии»129. В марте 1892 г. Вышнеградский
вновь тщетно пытался урезать военную смету за счёт сокращения численности
войск мирного времени, срока службы призывников, ассигнований на строи-
тельные работы, содержания военной администрации130.
Незадолго до окончания пятилетнего срока действия предельных бюджетов
в верхах заговорили об условиях их продления. Государственный контролёр
Филиппов в марте 1893 г. писал сменившему Вышнеградского С.Ю. Витте, что
применение Правил 20 декабря 1888 г. нередко вызывало «разномыслие» между
военным и финансовым ведомствами и нуждается в корректировке. 23 июля
1893 г. по докладу Витте и Ванновского Александр III распорядился установить
«нормальные» сметы на 1894-1898 гг. Отныне к сумме обыкновенных расходов
1893 г. (229,2 млн руб.) прибавлялись в 1894 г. - 7,1, 1895 г. - 9, 1896 г. - 12,
1897 г. - 15, 1898 г. - 20 млн руб.131 Новые сметные правила, разработан-
ные межведомственной комиссией при Государственном контроле в октя-
бре 1893 г., были утверждены императором 15 апреля 1894 г. По сравнению
с прежними редакциями они предусматривали ряд новых льгот для Военного
министерства: ему предоставлялось право требовать сверх предельной суммы
дополнительные ассигнования на борьбу с эпидемиями и другими «народными
бедствиями», содержание «сверхкомплектных» нижних чинов и воспитанников
военно-учебных заведений; действие правил о компенсации полной стоимости
отпущенного населению провианта из интендантских запасов распространено
126 Там же, л. 47-47 об., 49.
127 Ламздорф В.Н. Указ соч. С. 202-203.
128 Рыбачёнок И.С. Россия и первая конференция мира в Гааге 1899 года. М., 2004. С. 21-23.
129 Всеподданнейший доклад по Военному министерству за 1892 год. С. 9-10.
130 РГИА, ф. 560, оп. 22, д. 168, л. 62 об.-70 об.
131 Там же, ф. 565, оп. 1, д. 267, л. 1-2, 67-69 об.
63
на все подобные выдачи посторонним учреждениям и отдельным лицам; пред-
усмотрен возврат разницы в курсе рубля по расходам, производимым в ме-
таллической валюте в Финляндском и Кавказском военных округах, а также
при поездках фельдъегерей за границу; более детально прописывался порядок
возмещения затрат, связанных с ростом цен на продовольствие, и т.п.132
В дальнейшем эти правила действовали в пятилетия 1894-1898, 1899-1903
и 1904-1908 гг.133 Витте видел в них неизбежное зло: «Несмотря на то, что уста-
новление нормальных бюджетов противоречит основным требованиям бюджет-
ного дела, выработанным долговременной практикой культурных государств,
к этому средству приходится всё-таки, волей-неволей, прибегать с целью хотя
бы несколько гарантировать Государственное казначейство от неожиданных
и крупных к нему притязаний»134. Однако предельные бюджеты могли сдержи-
вать дальнейший рост затрат лишь частично, поскольку на различные нужды
армии постоянно выдавались сверхсметные кредиты. Чтобы отчасти перекрыть
этот канал, Витте инициировал введение Правил 4 мая 1894 г., согласно кото-
рым ассигнования на перевооружение изымались из чрезвычайного бюджета
и переносились в разряд обыкновенных расходов135.
С 1894 по 1902 г. военные расходы увеличились с 281,7 до 325,6 млн руб.,
правда, в процентном отношении их рост оказался существенно меньше, чем
у остальных ведомств136. Несмотря на промышленный подъём 1893-1899 гг.
и значительные поступления государственных доходов, Витте всё же предпо-
читал вкладывать средства в рентабельные отрасли экономики. Впоследствии
широкий резонанс получила его полемика с А.Н. Куропаткиным, который
обвинил бывшего министра финансов в пренебрежении интересами воору-
жённых сил перед войной с Японией. Витте, оправдываясь, заявлял, что дей-
ствительно не имел возможности удовлетворить все запросы армии, но тем не
менее она имела на рубеже XIX-XX вв. самый высокий прирост ассигнований
в Европе137. В дальнейшем трения между двумя ведомствами продолжались.
В 1906-1914 гг. они ярко проявились в остром противостоянии А.Ф. Редигера
и В.А. Сухомлинова с В.Н. Коковцовым138.
Обе конфликтующие стороны на протяжении десятилетий исходили из
разных установок, поэтому им было крайне сложно достичь соглашения. Гене-
ралы утверждали, что размер отпускаемых средств должен определяться прежде
всего потребностями войск, гарантирующих целостность и безопасность импе-
рии, указывали на очевидное отставание вооружённых сил России от западных
132 Там же, л. 129-137 об., 215-216; ПСЗ-III. Т. 14. СПб., 1898. № 10542.
133 С 1909 г. по настоянию военного руководства применение предельных бюджетов прекрати-
лось, и сметы стали составляться только на год.
134 Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных его
императорскому высочеству великому князю Михаилу Александровичу в 1900-1902 гг. СПб., 1912.
С. 454.
135 ПСЗ-III. Т. 14. № 10749.
136 Министерство финансов… Ч. 2. С. 636.
137 Записки генерала Куропаткина о русско-японской войне. Итоги войны. Берлин, 1909 г.
С. 119, 120, 138, 139; Витте С.Ю. Вынужденные разъяснения по поводу отчёта генерал-адъютанта
Куропаткина о войне с Японией. М., 1911. С. 13-15, 43.
138 Сухомлинов В.А. Воспоминания. Берлин, 1924. С. 218, 219; Редигер А.Ф. История моей жиз-
ни. Воспоминания военного министра. В 2 т. Т. 1. М., 1999. С. 365, 366, 478; Коковцов В.Н. Из
моего прошлого. Воспоминания 1903-1919 гг. В 2 кн. / Под ред. В.И. Бовыкина. Кн. 1. М., 1992.
С. 43.
64
держав, упрекали своих противников в игнорировании военных нужд. Однако
эти обвинения были во многом несправедливы, поскольку главная причина
недофинансирования армии заключалась в состоянии экономики и государ-
ственного бюджета. По мнению финансистов, размер ассигнований целиком
зависел от ресурсов казны, а чрезмерное увеличение непроизводительных рас-
ходов наносило ущерб развитию народного хозяйства. Они порицали военное
ведомство за неспособность рационально использовать полученные кредиты, за
бесхозяйственность и казнокрадство, особенно в интендантстве и артиллерии.
Позиция Министерства финансов отражала общее стремление правящей элиты
иметь «дешёвую» армию. Примечателен тот факт, что при наличии самых боль-
ших по численности сухопутных сил Россия по годовой стоимости содержания
одного солдата находилась на последнем месте среди других великих держав.
Межведомственная борьба проходила с переменным успехом, причём по-
явление на горизонте призрака войны, а также улучшение экономического по-
ложения повышали шансы генералов на получение дополнительных средств,
и наоборот - стабилизация международной обстановки, кризисы в народном
хозяйстве и дефициты бюджета давали основание их оппонентам ставить во-
прос о сокращении расходов. В этом противостоянии преимущество было на
стороне финансового ведомства, которое в царствование Александра III значи-
тельно усилило своё влияние в правительственных кругах, а при Витте вообще
превратилось в «сверхминистерство». Его неизменно поддерживали Государ-
ственный контроль и Департамент государственной экономии, а также боль-
шинство представителей высшей бюрократии, особенно руководители других
учреждений, заинтересованных в увеличении ассигнований на иные нужды.
Решающее значение имел вердикт императора, который под угрозой бюджет-
ного дефицита и инфляции не мог игнорировать доводы финансистов. В итоге
правительство не сумело в полной мере привести русскую армию в соответ-
ствие с требованиями времени, что особенно отчётливо проявилось в войнах
начала XX столетия.
65