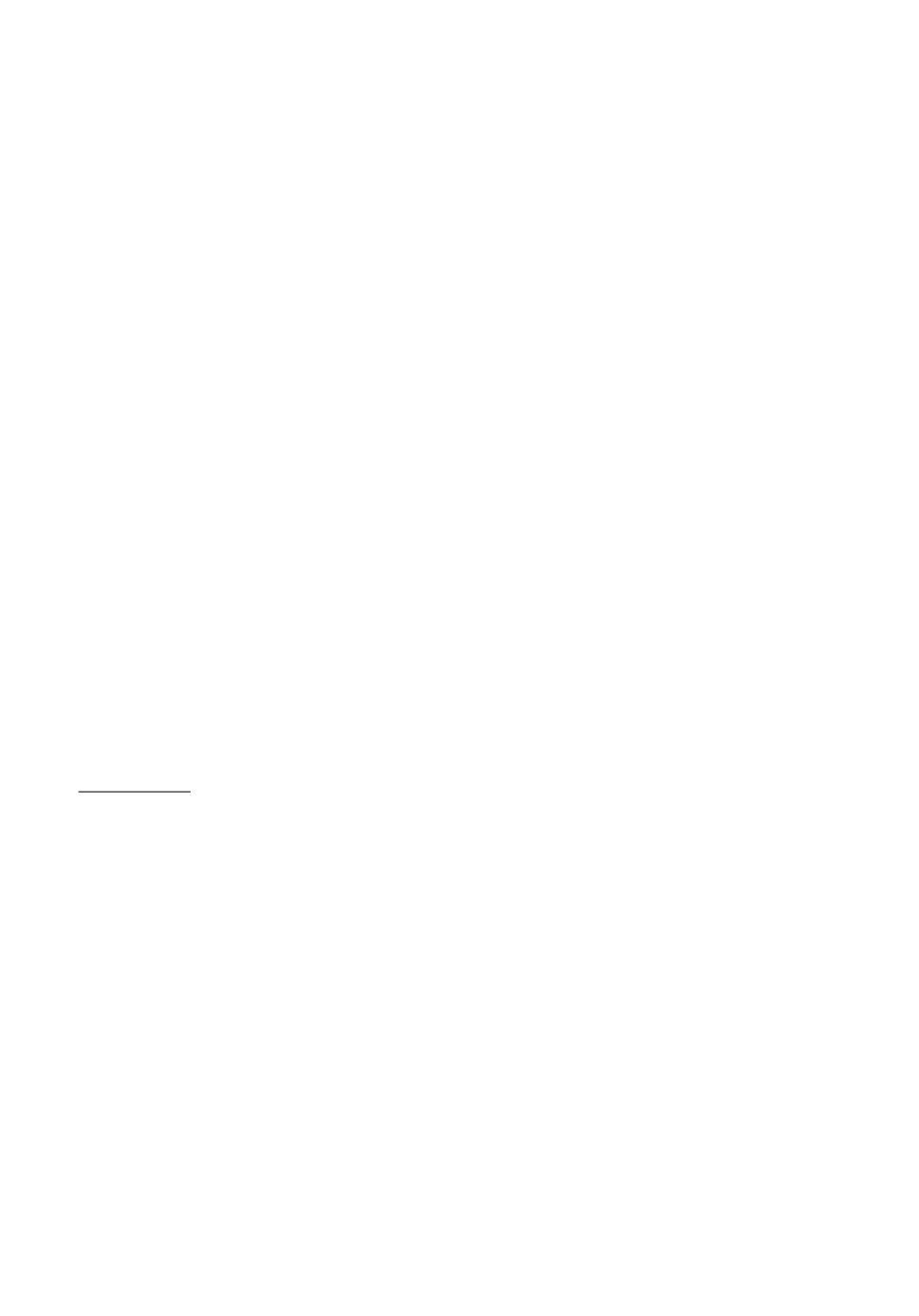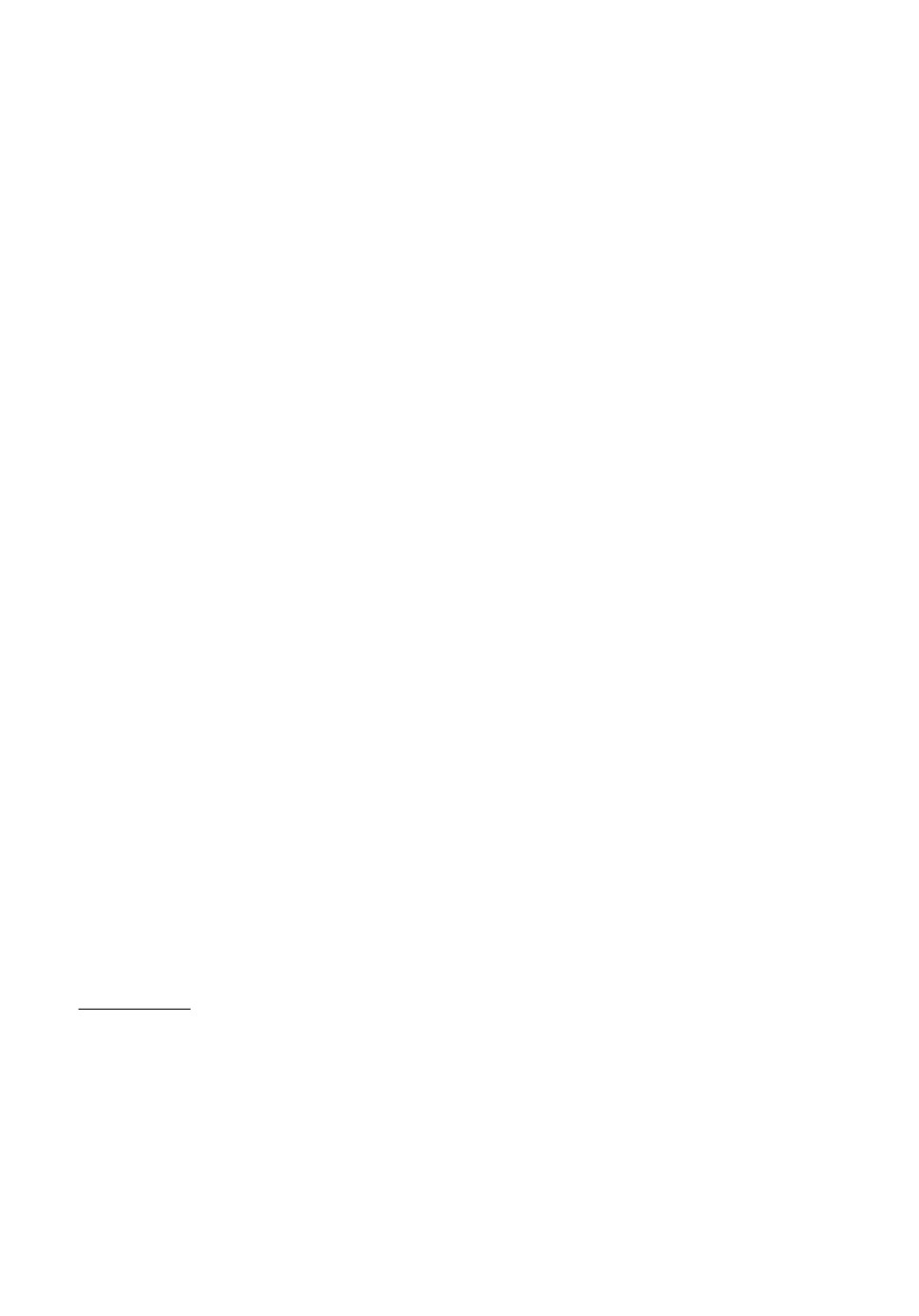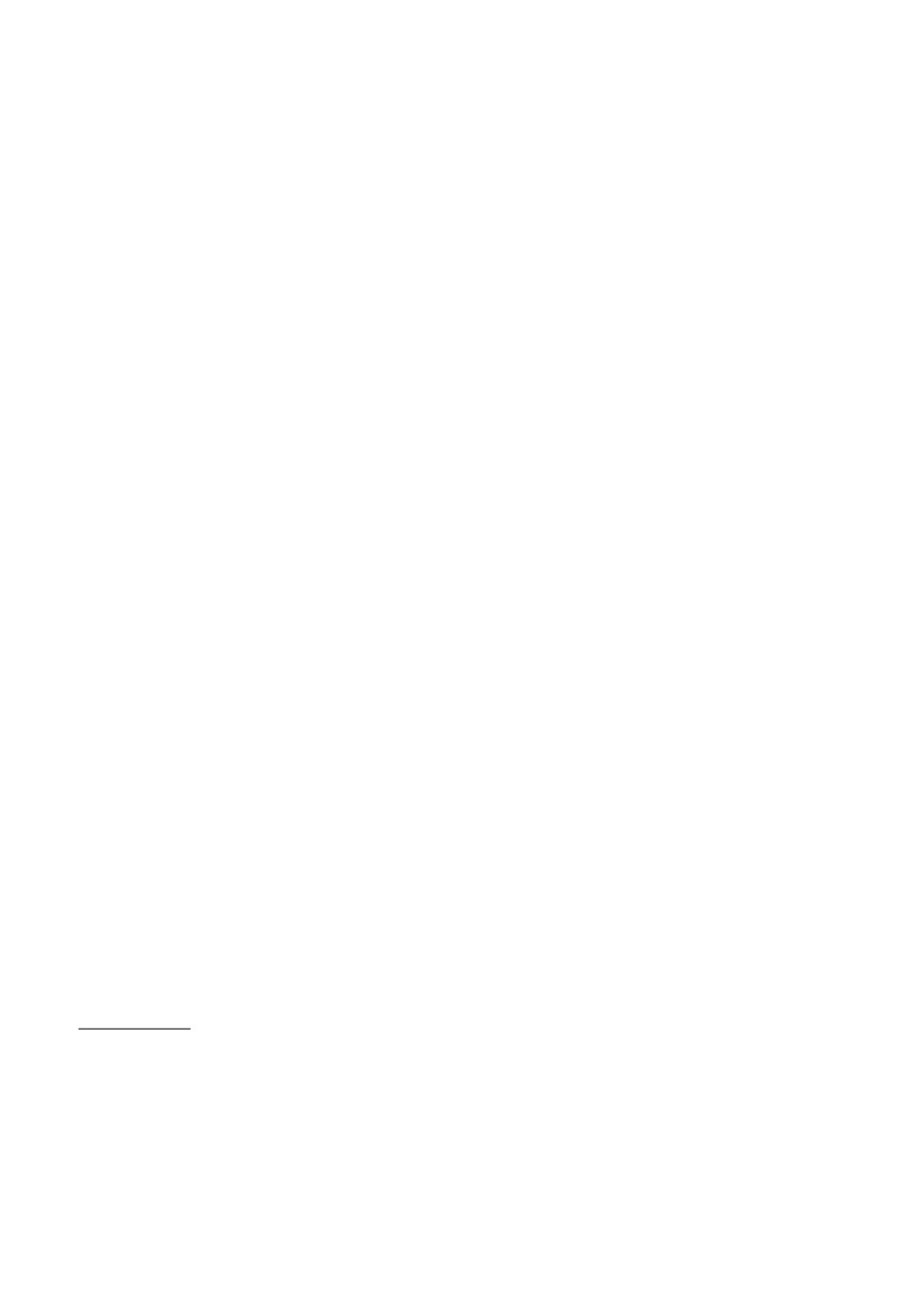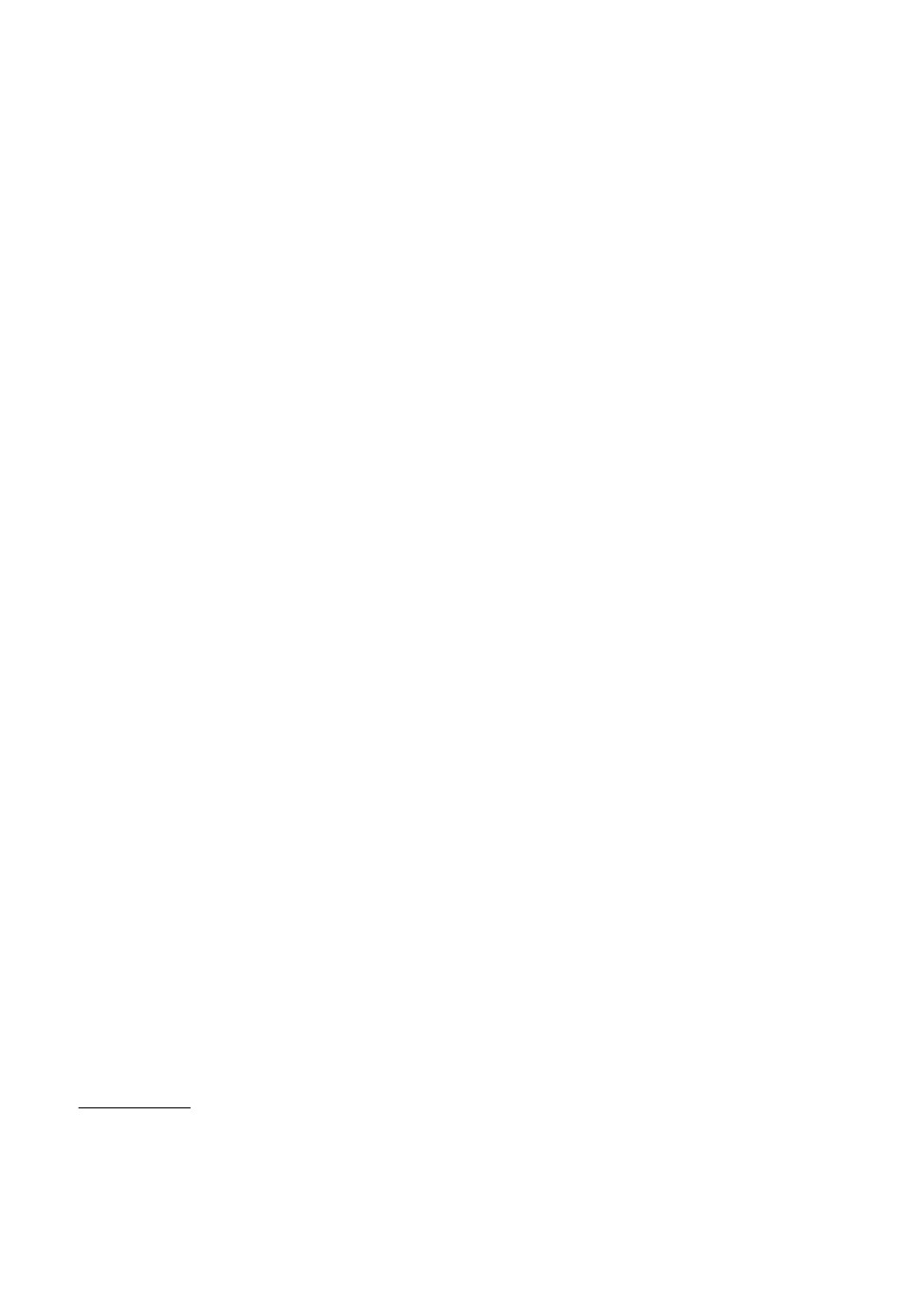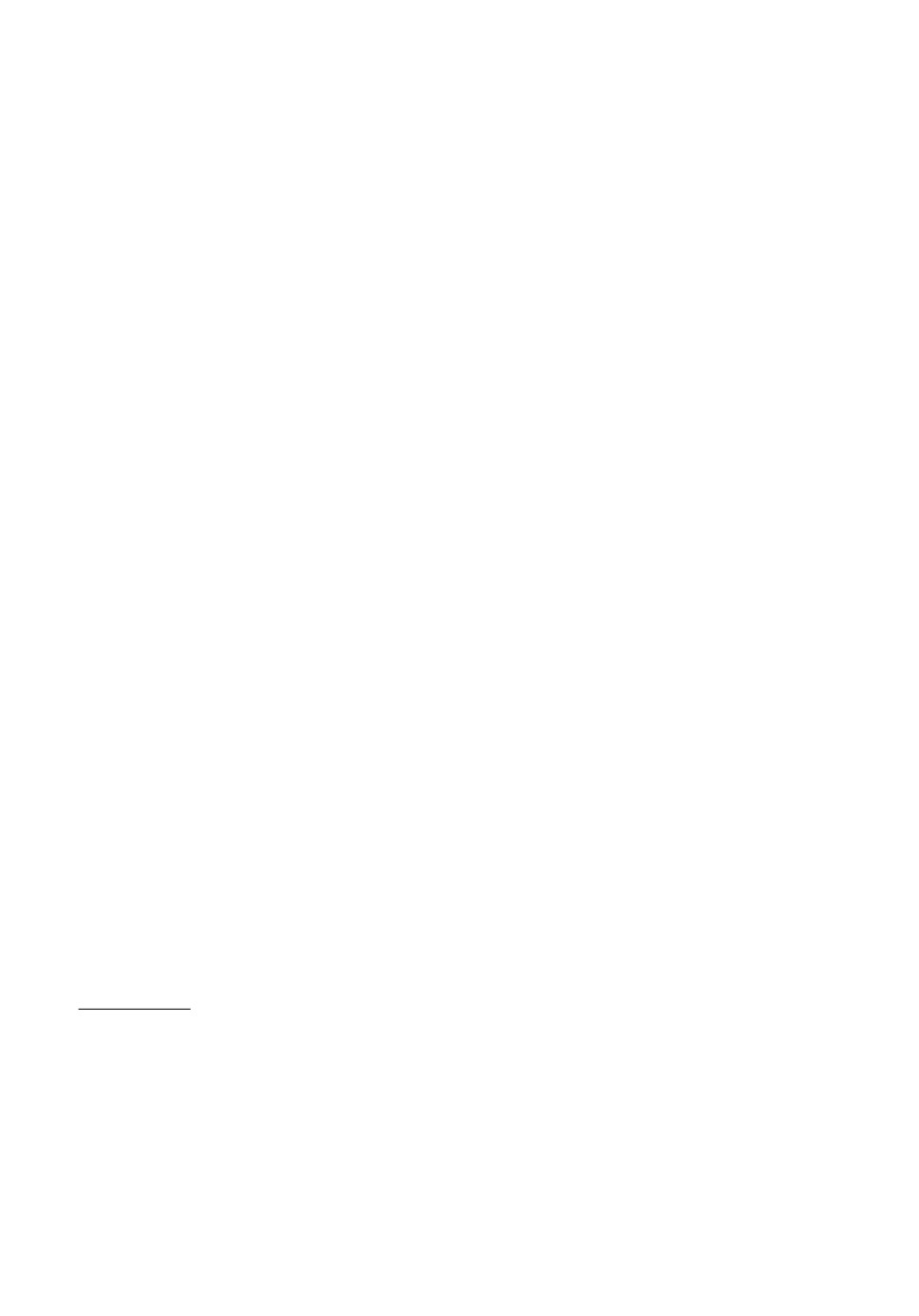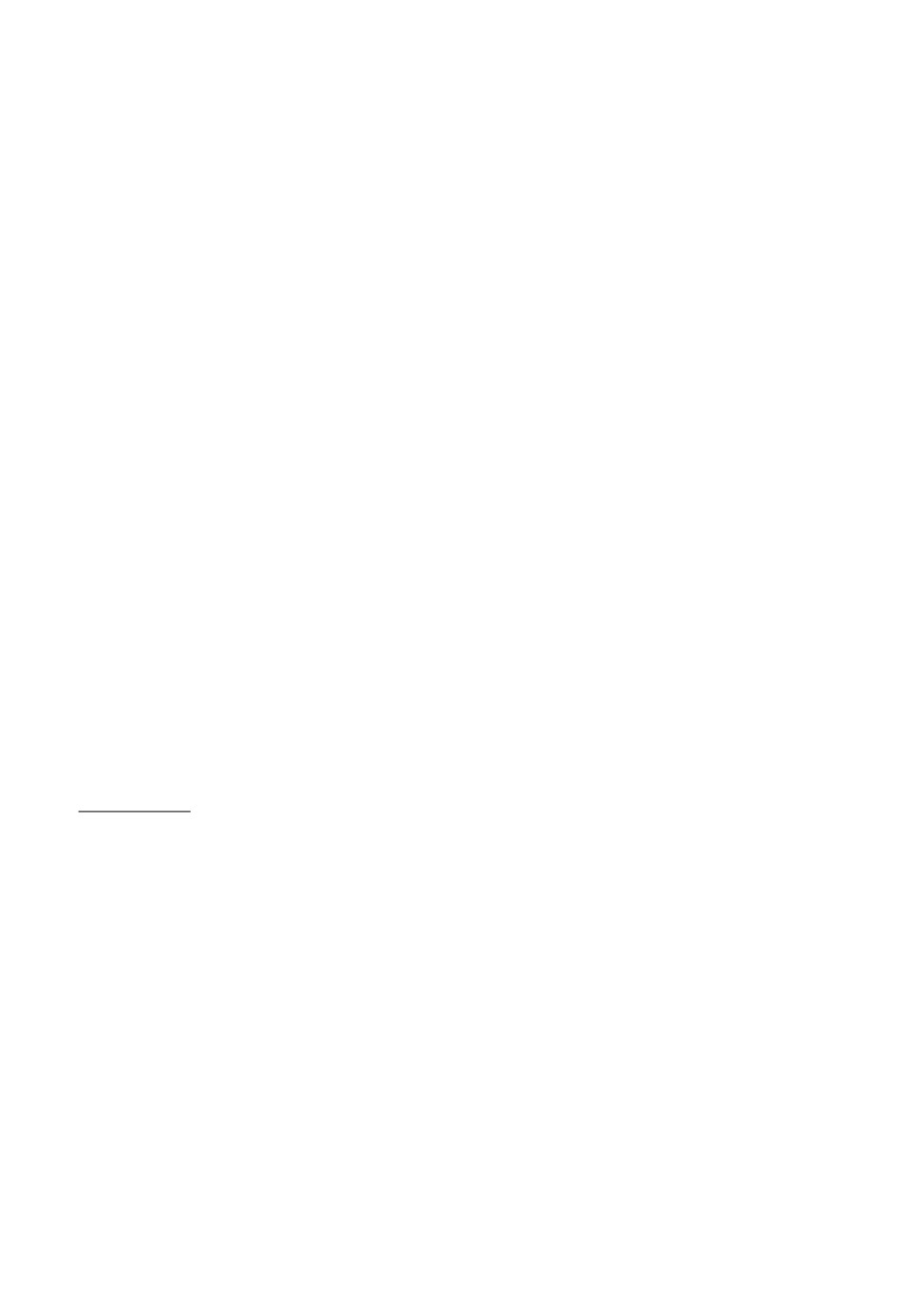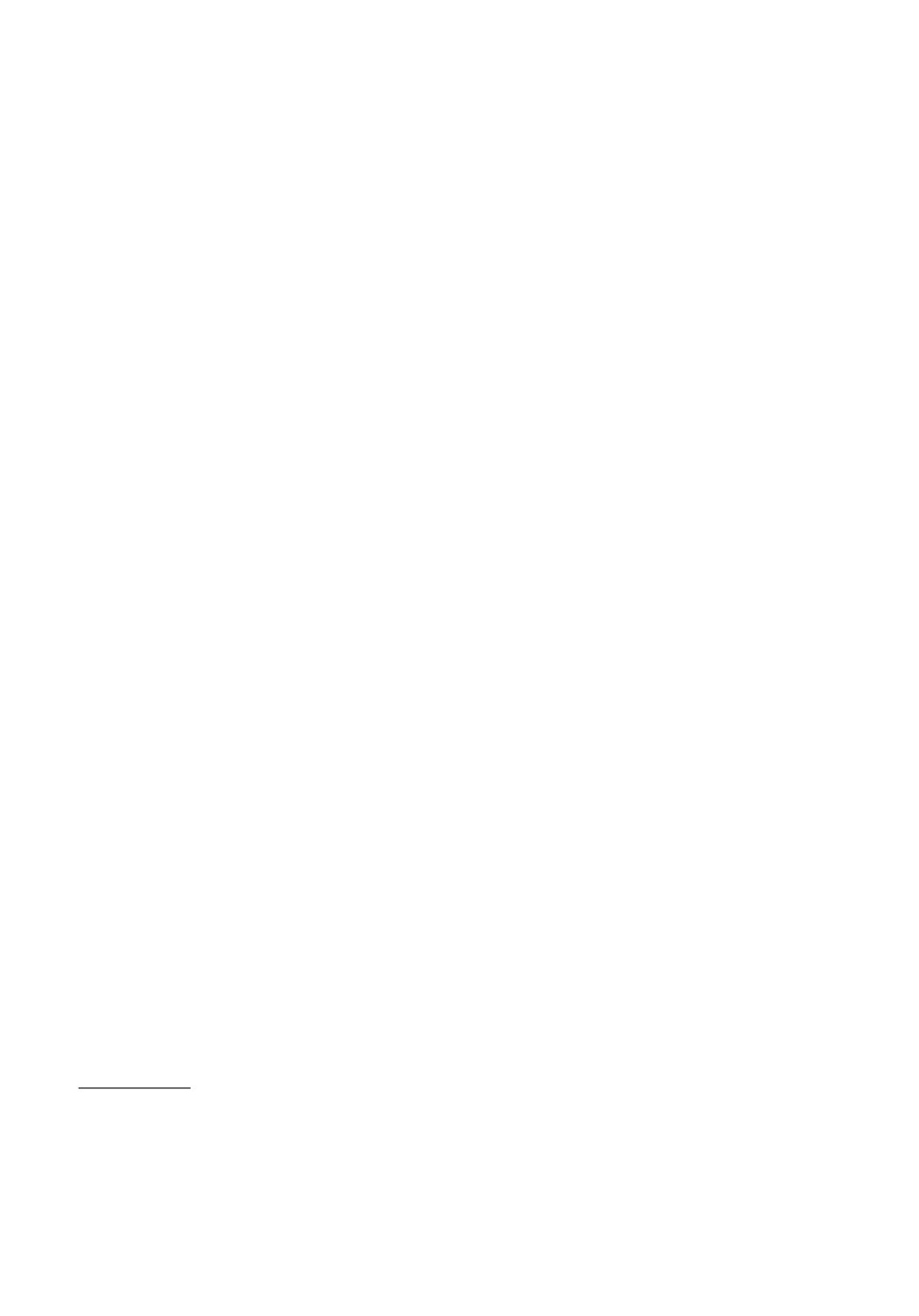Историк и источник
Непрочитанный дневник А.А. Поливанова
Алексей Попов
Unread diary of A.A. Polivanov
Aleksey Popov
(Lomonosov Moscow State University, Russia)
DOI: 10.31857/S0869568722030050, EDN: FWRXGR
Дневник генерал-лейтенанта, а с 1911 г. - генерала от инфантерии А.А. По-
ливанова, занимавшего в 1906-1912 гг. должность помощника военного ми-
нистра при А.Ф. Редигере и В.А. Сухомлинове (которого он сменит в 1915 г.),
по-своему уникален. Алексей Андреевич имел привычку записывать все со-
бытия прошедшего дня по часам, фиксируя суть бесед и докладов, слухи, вы-
сказывания царя, главы правительства, своего непосредственного начальника
и прочих сановников. Тем самым он сохранил ценнейшие свидетельства о том,
как принимались те или иные решения и какие формы принимала «подковёр-
ная» борьба в правящих кругах. Насколько известно, больше никто из русских
государственных деятелей начала XX в., столь же высокопоставленных и ин-
формированных, не оставил после себя подобных текстов.
Неудивительно, что историки часто обращались к этому источни-
ку. Однако знакомились они с ним почти исключительно по публикации
А.М. Зайончковского1, а не по подлиннику, хранящемуся в личном фонде
генерала в РГВИА2. Для дневника Поливановым использовались «записные
книги», выпускавшиеся петербургским издательством К.Л. Ринкера. Этих
ежедневников блокнотного формата в 1924 г. среди его бумаг имелось семь
(за 1907-1913 гг.), а в настоящее время осталось пять: книжки 1908 и 1911 гг.
отсутствуют3. В «памятных книжках» за 1906, 1915 и 1917 гг. регулярных за-
писей нет, в них можно обнаружить всего несколько предложений, часто
сделанных карандашом и не информативных. Писал Поливанов, как прави-
ло, довольно разборчивым почерком, иногда совсем мелким и с минимальным
интервалом между строк. По-видимому, это делалось второпях и на скорую
руку - имена, фамилии, титулы и звания сокращались, а отдельные фраг-
менты текста становились и вовсе нечитаемыми. Впрочем, таких сравнительно
немного.
Публикаторы, готовившие издание 1924 г., не собирались воспроизводить
дневник целиком. Они выбрали около трети текста, размечая фрагменты в са-
© 2022 г. А.М. Попов
1
Поливанов А.А. Из дневников и воспоминаний по должности военного министра и его по-
мощника 1907-1916 г. / Под ред. А.М. Зайончковского. Т. 1. М., 1924.
2
РГВИА, ф. 89, оп. 1, д. 42. Всего в деле пронумеровано около 1 300 листов, из которых при-
мерно 800 заняты дневниковыми записями.
3
Вместе с тем в дело каким-то образом попал полевой журнал и личный дневник неиз-
вестного офицера за 1916 г. Он вёлся в книжке того же издательства и внешне не отличается от
поливановского.
66
мом документе большими квадратными скобками. Но даже из намеченного
напечатано было не более трети, т.е. в книгу вошло чуть более десятой части
рукописи (в основном - за 1907-1909 гг.). Записи 1911-1912 гг. заняли всего
9 страниц.
При этом допускались досадные ошибки. К примеру, в книге запись, сде-
ланная 13 апреля 1912 г., выглядит так: «В газете “Вечернее время” статья “Кто
заведует в России военной контрразведкой”, где подробно изложена история
Мясоедова. Вечером меня вызвал к телефону Сухомлинов и сообщил, что се-
годня в Думу не поедет, ибо “там ему устроена целая засада” как результат
сегодняшних статей»4. В оригинале же она гораздо более обширна и включа-
ет несколько семантически не связанных частей. В одной из них сообщается
про статью о С.Н. Мясоедове, затем говорится про состоявшийся в 7 ч. обед
у А.Н. Нарышкиной, где Поливанову за столом сообщили о звонке Сухомли-
нова. Генерал «спустился вниз и там услышал в телефоне взволнованный голос
военного министра, которым он сообщил мне, что сегодня вечером в Г[осудар-
ственную] д[уму] не поедет, ибо “там ему устроена целая засада” как результат
сегодняшних статей, особенно в “Грозе”, где его обвиняют чуть ли не в убий-
стве Столыпина, и эту последнюю статейку он приписывает Бутовичу»5. Таким
образом, сокращение исказило смысл текста: решение Сухомлинова подано
как реакция на статью в суворинском «Вечернем времени», а не в ультраправой
«Грозе»6.
Характеризуя положение Поливанова в Совете министров, П.А. Столыпин
25 августа 1909 г. назвал его «буфером» между военным и финансовым ведом-
ствами7. А через месяц министр финансов В.Н. Коковцов советовал Поливано-
ву принять более активное участие в делах, упомянув, что выражает не только
собственное мнение, но и пожелание главы правительства8. Во многом это
объяснялось тем, что Коковцов и Сухомлинов почти сразу невзлюбили друг
друга. Уже летом 1909 г. их дрязги срывали правительственные совещания9,
а 6 января 1910 г. Сухомлинов отправил Столыпину письмо с заявлением о на-
4
Поливанов А.А. Указ. соч. С. 111.
5
РГВИА, ф. 89, оп. 1, д. 42, л. 855 об.-856.
6
Впрочем, сам Сухомлинов, в разговоре с помощником подозревавший В.Н. Бутовича (пер-
вого мужа Е.В. Сухомлиновой), позднее объяснял свои действия именно кознями лидера октябри-
стов: «На одном из утренних докладов генерал Поливанов заявил мне, что я давно не был в Госу-
дарственной думе и он советует приехать в тот же день на вечернее заседание. Хотя на повестке
значилось несколько незначительных, так называемых вермишельных, дел Военного министер-
ства, но я решил поехать, отменив очередные свои занятия. Но перед самым уже обедом явился не-
ожиданно состоявший при мне родственник Гучкова, подполковник [В.С.] Боткин, с целью преду-
предить меня, чтобы я не ездил в этот вечер в Государственную думу, так как там мне приготовлен
грандиозный скандал. Догадываясь, из какого источника он мог это знать, я по телефону сообщил
генералу Поливанову, что на заседании в Таврическом дворце не буду. Мой помощник, судя по
его репликам, не мог скрыть при этом известии своего смущения и растерянности, в особенности,
когда я попросил его мне сказать, почему именно так неотложно необходимо в Государственной
думе моё присутствие. Ответы Поливанова сводились единственно к тому, что я давно не был на
заседаниях Думы. Между тем, когда я незадолго перед тем неожиданно приехал в Думу, ко мне
вышел председатель [М.В.] Родзянко и его товарищ князь [В.М.] Волконский, упросив не пока-
зываться в зале заседаний, ибо я, по их выражению, “сыграю роль красного сукна перед быком”»
(Сухомлинов В.А. Воспоминания. Берлин, 1924. С. 231-232).
7
Поливанов А.А. Указ. соч. С. 77.
8
Там же. С. 81.
9
Там же. С. 75-76.
67
мерении «избегать посещения заседаний Совета министров, ввиду неприязнен-
ного отношения и неподобающего тона в этих заседаниях министра финансов
В.Н. Коковцова по адресу военного ведомства»10.
Личный конфликт стал закономерным следствием межведомственных
противоречий. Военное министерство требовало денег, но слышало в ответ,
что их на его счетах и без того достаточно. 9 июня 1910 г. Поливанов оста-
вил в дневнике яркую характеристику этих споров: «4-го июня воен[ный]
м[инист]р мне рассказал, что 2-го, когда шли с государем на кронштадтские
батареи, воен[ный] м[инист]р и морск[ой] м[инист]р жаловались на скупость
м[инистра] ф[инансов]. По этому поводу государь будто бы им сказал, что
м[инистр] ф[инансов] подал ему записку о нераспоряжённости в В[оенном]
м[инистерст]ве миллионов, и эта записка была такая нехорошая, что он её
разорвал и бросил в корзину. Коковцев сказал мне, что он никакой записки
не подавал, а представил им справку о движении чрезвычайных кредитов на
запросы»11.
Возникавшие разногласия обсуждались в особой «согласительной комис-
сии», которую неплохо описал генерал-квартирмейстер Главного управления
генерального штаба Ю.Н. Данилов: «Особенно строги были правительствен-
ные, так называемые “согласительные” комиссии, в которых представители
Министерства финансов и Государственного контроля соперничали друг с дру-
гом в стремлении во что бы то ни стало урезать проекты военного ведомства
и добиться сокращения намечавшихся расходов, чтобы вогнать их в заранее
фиксированную сумму»12. Поскольку участие Сухомлинова в согласительной
комиссии считалось крайне нежелательным, Военное министерство в ней
представлял его помощник, оказавшийся, таким образом, в самом эпицентре
конфликта. Вместе с министром финансов и государственным контролёром
они систематически занимались сокращениями военного бюджета, начиная со
сметы на 1911г.13 Со временем между Коковцовым и Поливановым сложились
особые взаимоотношения.
Министр финансов неоднократно хвалил Алексея Андреевича как в глаза,
так и перед монархом. Например, 20 апреля 1910 г. он говорил царю, что По-
ливанов «хорошо спорит»14. Позже Владимир Николаевич признался, что по
финансовым делам военного ведомства предпочитает работать с помощником
министра. Николай II на это ответил: «ген[ерал] Поливанов сильный и пре-
красный человек, я знаю, что он держит дела в своих руках»15. Одобрительно
отзывался о действиях Поливанова и Столыпин16. Лестные отзывы высокопо-
ставленных особ и передававшиеся ему слова о том, что император им очень
доволен, генерал регулярно фиксировал в дневнике. Признание окружающих,
без сомнения, поднимало его в собственных глазах. Обстановка способствовала
развитию тщеславия, что подтверждается не только дневниковыми записями,
10
РГВИА, ф. 962, оп. 2, д. 136, л. 187.
11
Там же, ф. 89, оп. 1, д. 42, л. 630 об.
12
Данилов Ю.Н. Россия в Мировой войне 1914-1915 гг. Берлин, 1924. С. 47.
13
РГВИА, ф. 89, оп. 1, д. 37, л. 1-4; Сидоров А.Л. Финансовое положение России в годы Пер-
вой мировой войны (1914-1917). М., 1966. С. 56.
14
РГВИА, ф. 89, оп. 1, д. 42, л. 597.
15
Там же, л. 653 об.
16
Там же, л. 722 об.
68
но и большим количеством вырезок из газет о себе17, а также почти тысячей
листов писем с поздравлениями и сожалениями по разным поводам18.
В 1910 г. значение должности помощника военного министра неуклон-
но росло. Он часто отстаивал интересы министерства в представительных уч-
реждениях, на заседаниях правительства и согласительной комиссии. Сухом-
линов постоянно отлучался в командировки и подолгу находился на отдыхе,
Поливанов же его замещал. Так, в начале марта Алексей Андреевич «в третий
раз в 1910 г. вступил в исполнение обязанностей военного министра»19. При
этом объём рутинной работы неизменно возрастал, и Владимир Александро-
вич охотно ею делился. «Приехав к нему на квартиру, - записал Поливанов
в дневнике 27 сентября 1910 г., когда его начальник вернулся из очередного от-
пуска, - я предложил теперь же передать мне все те отрасли В[оенного] м[ини-
стерст]ва, которые по первоначальным предположениям ко мне должны были
перейти, и он тотчас же взял расписание докладов и вычеркнул все те главные
управления, которые должны перейти в ближайшее моё ведение, прибавив себе
в число докладчиков генерал-инспекторов»20.
Растущая роль в делах и признание вышестоящих особ, граничившее с ле-
стью, не могли не воздействовать на тщеславие Поливанова. Вероятно, Столы-
пин и Коковцов не случайно играли на его самолюбии. Они сообща отстаивали
право Совета министров контролировать финансирование армии и флота. Как
рассказывал Поливанову министр финансов, 16 ноября 1910 г. «председатель
Совета министров очень возбуждённо говорил военному министру, что нельзя
ему вести особую от Совета министров политику, что пусть морской и военный
министры не участвуют в Совете министров, но тогда пусть и не ищут под-
держки в Совете министров, а тогда Государственная дума, ныне к Военному
министерству благожелательная, перестанет давать ему кредиты». Сухомлинов
жаловался на это Николаю II, но, выслушав объяснения Столыпина и Коков-
цова, царь не стал обострять конфликт. Однако его заинтересовала позиция
Алексея Андреевича, и будто бы «на это Коковцов ответил, что он, как помощ-
ник военного министра, по свойственной ему корректности не выскажет дру-
гого мнения, но как ген[ерал] Поливанов, вероятно, высказал бы то же самое,
что и он, Коковцов»21.
Едва ли Поливанов уже в 1909-1910 гг. мечтал о кресле военного мини-
стра. Он дорожил мнением Сухомлинова о себе, ценил его расположение, ра-
довался, когда тот, несмотря на дождь, «с супругой прибыл к нам, на моторе,
к обеду»22. Сами Поливановы тоже не раз посещали Сухомлиновых23. В ноябре
1910 г., в годовщину свадьбы, Владимир Александрович доверительно расска-
зывал своему помощнику о злоключениях, пережитых за то время, пока жена
разводилась с Бутовичем24. Тем не менее постепенно, под влиянием Столыпи-
на и Коковцова, всё больше пользуясь авторитетом среди коллег, осознавая
собственную компетентность и всё сильнее ощущая превосходство над Сухом-
17
Там же, д. 21, л. 1-93.
18
Там же, д. 12, 20, 24, 28.
19
Там же, д. 42, л. 582 об.
20
Там же, л. 685 об.-686.
21
Поливанов А.А. Указ. соч. С. 100.
22
РГВИА, ф. 89, оп. 1, д. 42, л. 649.
23
Там же, л. 653, 714.
24
Там же, л. 710.
69
линовым, Поливанов менялся. К весне 1912 г. он, похоже, уже не считал себя
чем-либо обязанным своему непосредственному начальнику.
Характер службы обязывал Поливанова выстраивать отношения с велики-
ми князьями. И тут ему не раз удавалось отыскивать выход из затруднительных
положений. Так, 1 декабря 1910 г. под председательством Столыпина обсуж-
далось финансирование строительства укреплений Финского залива. Осенью
в штабе Петербургского военного округа, войсками которого командовал
вел. кн. Николай Николаевич (младший), разработали проект, предусматри-
вавший насыпку искусственных островов. Настойчиво продвигая его, великий
князь не считался с возражениями морского ведомства. При этом оплатить все
расходы, размер которых ещё только предстояло определить, предполагалось
из средств Военного министерства25. Ожидалось жёсткое столкновение. Од-
нако по рекомендации Поливанова решили проект не отклонять, но и деньги
в 1911 г. не выделять, поручив «Военному и Морскому министерствам между
собою договориться» в течение года об объёме и распределении сумм, необ-
ходимых для реализации задуманного26. В итоге все остались довольны. 6 де-
кабря, описывая смотр войск в манеже по случаю царских именин, Алексей
Андреевич отметил в дневнике: «Когда Государь, обходя собравшихся, увидел
меня, стоявшего за воен[ным] м[инистро]м, то сделал шаг ко мне и пожал
руку. В это время В.Н. Коковцев, стоя в группе министров, улыбался, смотря
на меня, и стал манить меня рукой; когда я подошёл, он сказал: “Все говорят
о Вашем дипломатическом поведении на совещании в присутствии в[еликого]
к[нязя] Ник[олая] Ник[олаевича] об укреплении линии Ревель-Поркалауд”.
Столыпин прибавил: “Вам надо быть м[инистро]м ин[остранных] д[ел]”, и го-
ворил, что великий князь очень доволен»27.
Сухомлинов же, видя внимание царя к своему помощнику, похоже, испы-
тал чувство ревности. Позднее он связал благодарность, выраженную импера-
тором «на одном параде», с «проделкой» Поливанова, тайно обеспечившего
будто бы, по просьбе великого князя, ассигнование «значительных средств на
устройство водопровода и канализации в Красносельском лагере»28.
В своих воспоминаниях Сухомлинов утверждал, что вел. кн. Николай Ни-
колаевич постоянно интриговал против него. Наиболее убедительно об этом
свидетельствовал, по словам мемуариста, срыв планировавшейся в конце
1910 г. военно-стратегической игры29. В историографии укрепилось мнение,
что она не состоялась из-за отказа великого князя принять в ней участие30. Но,
как свидетельствует в своём дневнике Поливанов, 7 декабря, узнав о позиции
своего дяди, «государь указал вести игру без него и докладывать ему о ходе
игры записками». Начало было назначено на 9 декабря, но затем перенесено
на год31. 11 декабря Поливанов узнал от командующего войсками Варшавского
25
Там же, л. 692, 699.
26
Там же, л. 719 об.
27
Там же, л. 722-722 об.
28
Сухомлинов В.А. Указ. соч. С. 306. Эта версия воспроизводится и исследователями, не обра-
щавшимися к оригиналу дневника Поливанова: Евдокимов А.В. Политическая борьба вокруг «дела
Сухомлинова» (1915-1917 гг.). Дис. … канд. ист. наук. Н. Новгород, 2017. С. 50.
29
Сухомлинов В.А. Указ. соч. С. 249-250.
30
Айрепетов О.Р. Участие Российской империи в Первой мировой войне (1914-1917). 1914.
Начало. М., 2014. С. 144-145; Меннинг Б.У. Пуля и штык: армия Российской империи. 1861-1914.
М., 2015. С. 361-362.
31
Поливанов А.А. Указ. соч. С. 101.
70
военного округа Г.А. Скалона, что, «оказывается, у вел[икого] князя был обед
для ком[андующих] войсками и н[ачальнико]в окружных штабов, там говорили
на ту же тему, и отсюда, вероятно, доклад в[еликого] кн[язя] государю»32. По--
видимому, утром 8 декабря вел. кн. Николай Николаевич сообщил императору
о недовольстве командующих округами принятым в июне 1910 г. мобилизаци-
онным расписанием № 19 (в феврале 1912 г. оно было изменено)33.
Сухомлинов постарался извлечь из создавшейся ситуации максимальную
пользу. «Когда мы остались одни, - записал в тот же день Алексей Андре-
евич, - воен[ный] м[инист]р рассказал, что имел сегодня разговор с государем,
где доложил, что все предположения для военной игры были разработаны по
указанию е[го] в[еличества] и теперь внезапная её отмена ставит в[оенного]
м[инистра] в неудобное положение перед ком[андующими] войсками, в по-
ложение лица, как бы потерявшего доверие е[го] в[еличества], подробности
он мне не передавал, т[ак] к[ак] не было времени»34. После произошедшего
Поливанов не раз фиксировал «случаи, указывавшие на неблагоприятное от-
ношение государя к великому князю»35. Сухомлинов же, напротив, пребывал
в приподнятом настроении, шутил и перемигивался со своим помощником,
отправлявшимся в отпуск за границу. Если Владимир Александрович и по-
давал в отставку, как уверял в мемуарах36, то ожидал он явно не увольнения,
а, наоборот, опалы своего антагониста, возглавившего оппозицию военному
министру.
С вел. кн. Александром Михайловичем Поливанова постепенно связали не
просто частые контакты, но и личная дружба, отразившаяся (причём не луч-
шим образом) на процессе создания русской авиации. Ещё 6 февраля 1905 г.
Николай II учредил Комитет по усилению военного флота на добровольные по-
жертвования, действовавший под руководством вел. кн. Александра Михайло-
вича. А 6 февраля 1910 г. при нём был создан Отдел воздушного флота (ОВФ),
собиравший средства на авиацию и открывший несколько позже лётную шко-
лу. И уже 1 марта великий князь телеграфировал Поливанову, прося о встрече
и «командировании 3 офицеров и 3 нижних чинов во Францию для обучения
полётам на аэропланах»37. 7 октября генерал «имел длинный разговор об орга-
низации нашего воздухоплавательного дела» с подполковником Генерального
штаба С.И. Одинцовым - видным членом ОВФ и одним из ближайших сотруд-
ников великого князя, возглавлявшим Севастопольскую военно-авиационную
школу (первое в России лётное училище)38. Летом 1911 г. Одинцов предложил
передать воздухоплавание из ведения Главного инженерного управления (ГИУ)
в Главное управление Генерального штаба (ГУГШ), где следовало «немедлен-
но» создать соответствующий отдел, подчинив его генерал-инспектору авиации.
При этом рекомендовалось «бесповоротно и решительно удалить от дела всех
32
РГВИА, ф. 89, оп. 1, д. 42, л. 726.
33
Дневники императора Николая II (1894-1918). В 2 т. / Отв. ред. С.В. Мироненко. Т. 2.
Ч. 1. М., 2013. С. 523; Меннинг Б.У. Указ. соч. С. 346-347; Алпеев О.Е. Сорванный «экзамен».
Несостоявшаяся стратегическая военная игра старших войсковых начальников (1910 г.) // Военно--
исторический журнал. 2019. № 9. С. 25.
34
РГВИА, ф. 89, оп. 1, д. 42, л. 726.
35
Там же, л. 726 об., 729.
36
Сухомлинов В.А. Указ. соч. С. 238.
37
РГВИА, ф. 89, оп. 1, д. 42, л. 582.
38
Там же, л. 690.
71
без исключения причастных к нему чинов ГИУ»39. 26 января 1912 г. Военный
совет одобрил образование Воздухоплавательного отдела при ГУГШ (незадолго
до этого, 11 января, сам Сухомлинов настоял «на передаче не только авиаци-
онного дела, но и заготовления аэропланов в Гл[авное] упр[авление] Ген[е-
рального] штаба»40). Тогда месяц спустя, 27 февраля, к Поливанову обратился
начальник заготовительной комиссии ОВФ инженер В.И. Ребиков. «Он живёт
обыкновенно в Париже, - отметил в дневнике Алексей Андреевич, - и являет-
ся правой рукой великого князя Александра Михайловича в заведовании возду-
хоплавательным делом». В разговоре Василий Иванович прямо заявил, что «для
упорядочения дела полезно было бы вручить его великому князю Александру
Михайловичу на правах генерал-инспектора». На следующий день помощника
военного министра о том же просил барон А.В. Каульбарс - второй человек
в ОВФ по своему статусу41. Однако в условиях острой борьбы Сухомлинова
с генерал-инспектором артиллерии вел. кн. Сергеем Михайловичем создание
такой должности для его брата совершенно исключалось.
Споры вызывал и выбор основного типа аэропланов для авиационных от-
рядов. В ГИУ предпочитали Фарман XI, а великий князь и его окружение
считали наиболее перспективным Ньюпор IV. Решающее заседание состоялось
28 марта в отсутствие военного министра, но при участии вел. кн. Александра
Михайловича, Каульбарса и ещё шести человек, из которых только начальник
ГИУ защищал Фарман XI42.
На допросе 20 сентября 1917 г. Поливанов утверждал, что, принимая ре-
шение, он не испытывал никакого давления, поскольку великий князь поддер-
живал с ним лишь поверхностное знакомство и общался в основном с Сухом-
линовым43. Но, судя по его же дневнику, всё обстояло несколько иначе. Ещё
перед совещанием Поливанову позвонил Одинцов, сообщивший, что основной
поставщик ГИУ - московская велосипедная фабрика «Дукс», имевшая авиаци-
онный отдел, - уже обладала лицензией на производство Фарманов, тогда как
с Ньюпором контракта нет. 10 апреля подполковник уже благодарил генера-
ла за сделанный выбор, добавив: «Решение Ваше заказать Ньюпоры вызывает
целый ряд шагов враждебных со стороны Глав[ного] инж[енерного] упр[авле-
ния]. Сюда вызван был [Ю.А.] Меллер (владелец “Дукса”. - А.П.), контрагент
Фармана, который, будучи оскорблён в своих чувствах наживы, хотел даже
выступить в ряде газет, “Новом времени” против Ньюпоров, но благоразумно
отказался»44. Со своей стороны, Алексей Андреевич 6 апреля записал в днев-
нике: «Во время моего отсутствия заезжал вел. кн. Александр Михайлович
и просил быть у него в 3 часа. К 3 часам я к нему приехал, и он мне сказал, что
был у Коковцева и прямо от него поехал ко мне, чтобы передать, что Коковцев
согласился разрешить в[оенному] м[инист]ру войти в Г[осударственную] д[уму]
с ходатайством об отпуске кредита теперь же на постройку воздух[оплаватель-
39
Там же, ф. 2000, оп. 2, д. 296, л. 5-6.
40
Там же, ф. 89, оп. 1, д. 42, л. 789 об.
41
Там же, л. 825 об.-826 об.
42
Там же, л. 846 об.
43
Падение царского режима. Стенографические отчёты допросов и показаний, данных
в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства / Под ред. А.Е. Щёго-
лева. Т. 7. Л., 1927. С. 181, 187. Алексей Андреевич даже уверял, будто случайно узнал о передаче
авиации в ГУГШ (Там же. С. 188).
44
РГВИА, ф. 89, оп. 1, д. 24, л. 132.
72
ной] школы в Севастополе. Я сообщил вел[икому] кн[язю] о моём решении
отклонить предложение инжен[ерного] вед[омства] о заказе Фарманов и при-
казал заказать Ньюпоры, что произвело там величайшую сенсацию, т[ак] к[ак]
говорят, что там уже на Фарманах кое-что заработало»45. Против заказа Фарма-
нов высказался и Гучков, посетивший Поливанова 21 марта 1912 г.46
Постройка Ньюпоров, отличавшихся от всех остальных типов аэропла-
нов, потребовала освоения нового производства. Именно их стали лихорадоч-
но выпускать в начале Первой мировой войны, но вскоре выяснилось, что
их конструкция перекрывает пилоту обзор и не позволяет вести наблюдение.
В 1916 г. один из крупнейших специалистов в области авиации С.А. Немченко
констатировал: «Даже в 1912 г. признать Ньюпор годным на снабжение армии
было ужасной ошибкой, повлекшей за собой весьма печальные последствия
и, в частности, затруднительное положение в начале войны»47.
В отличие от своего родного брата, вел. кн. Сергей Михайлович, куриро-
вавший в качестве генерал-инспектора деятельность Главного артиллерийского
управления (ГАУ), находился в остром конфликте с руководством военного
ведомства, что, разумеется, отразилось и в дневнике Поливанова. Так, по его
свидетельству, осенью 1910 г. жаркие пререкания вызвал заказ лафетов для
12-дюймовых орудий. Великий князь непременно желал передать его француз-
ской фирме Шнайдера, а Сухомлинов отдавал предпочтение петербургскому
Металлическому заводу. Специально созданное 6 ноября для обсуждения дан-
ной проблемы совещание отметило, что французы завышают цену, тогда как
лафеты русской конструкции имеют ряд преимуществ. В конце месяца Влади-
мир Александрович инициировал проверку готовившейся сделки. Ревизия была
поручена сенатору Н.П. Гарину, незадолго до этого разоблачившему крупные
злоупотребления в Главном интендантском управлении. Однако в ГАУ его не
подпускали к необходимым документам, пока министр не приказал выдать их
собственной властью. Тем не менее и к 8 декабря лафеты заказаны не были,
и тут уже Сухомлинов пришёл в ГАУ и «устроил всем разнос»48.
Неудивительно, что военный министр настаивал на отстранении от долж-
ности начальника ГАУ Д.Д. Кузьмина-Караваева. В начале ноября Сухомли-
нов даже говорил об этом с вел. кн. Николаем Николаевичем, «который по
поводу этой перестановки отзывался “давно пора”»49. Император то согла-
шался, то откладывал своё решение. В начале 1912 г. к атаке на ГАУ подклю-
чились думцы. «Вчера, - записал Поливанов в дневнике 21 января, - я го-
ворил по телефону с А.И. Гучковым, а сегодня с П.Н. Крупенским на тему
опасений В.Н. Коковцова, что резкая резолюция, принятая Ком[иссией по]
гос[ударственной] об[ороне] по адресу артил[лерийского] ведомства, может
произвести неприятное впечатление наверху, но он остался при своём мне-
нии»50. 25 января во время доклада Поливанова император «изволил сказать:
вот теперь хлопот с артиллерией. Поняв, что упоминание относится до по-
явившихся в газетах суровых пожеланий Комиссией г[осударственной] обо-
роны Г[осударственной] д[умы] относительно непорядков в ГАУ, я доложил
45
Там же, л. 851 об.
46
Там же, л. 842 об.
47
Цит. по: История воздухоплавания и авиации в СССР: период до 1914 г. М., 1944. С. 495.
48
РГВИА, ф. 89, оп. 1, д. 42, л. 690, 703, 717-718, 723.
49
Там же, л. 703 об.
50
Там же, л. 796-796 об.
73
в общих чертах о причинах, создавших тревожное настроение (отсутствие
прицелов к винтовкам, взрывателей к фугасным снарядам, установок для
12-д[юймовых] орудий), и высказал мнение, что при всех отличных качествах
ген[ерала] Кузьмина-Караваева, он, как незнакомый с технической сторо-
ной дела, не имеет достаточного авторитета. На последнее было сказано, что
пока нет другого, как найдётся, заменить можно, и затем мне было сказано
ласково при пожатии руки: “Вы всё это наладите”»51. Несколько дней спустя
сам Сухомлинов, обратившись к монарху, «просил помощи в смысле удале-
ния ген[ерала] Кузьмина-Караваева в Военный совет, замены его ген[ерал]--
л[ейтенантом] Маниковским52, и в смысле удаления генер[ал]-инсп[ектора]
от непосредственного управления ГАУ». Николай II обещал подумать и пере-
говорить с вел. кн. Сергеем Михайловичем53. А через месяц, 28 февраля, царь
сообщил Поливанову во время очередного доклада о том, как «у него был
пред[седатель] Г[осударственной] д[умы] Родзянко и доложил, что Г[осудар-
ственная] д[ума] вполне хорошо живёт с В[оенным] министерством по всем
вопросам, кроме артиллерийского». Как тут же отметил помощник военного
министра, «завтра государь намерен говорить с в[еликим] к[нязем] Серг[еем]
Мих[айловичем]»54.
В результате 3 марта император сказал Сухомлинову, что на Пасху (че-
рез три недели) Кузьмин-Караваев будет уволен из ГАУ и назначен генерал--
адъютантом. Однако Коковцов и Сухомлинов считали столь «славную от-
ставку» слишком почётной, Владимир Александрович даже говорил об этом
с Николаем II, но тот вновь «обещал подумать»55. Между тем в середине марта,
судя по дневнику Поливанова, в разговорах о предстоявших в ГАУ переме-
нах активно участвовал «в[еликий] к[нязь] Ник[олай] Ник[олаевич], который
очень одобряет выбор ген[ерала] Маниковского и винит в[еликого] к[нязя]
Серг[ея] Мих[айловича], который выставляет кандидатуру ген[ерала] Лихови-
ча и не одобряет выбор ген[ерала] Маниковского; в[еликий] к[нязь] Серг[ей]
Мих[айлович] в заключение высказал, что он докладывал государю и, может
быть, е[го] в[еличество] пожалует награду на Пасху, оставив его в должности,
поэтому решено обождать»56. Но и 25 марта ожидаемых отставок и назначений
не последовало. Кузьмин-Караваев руководил ГАУ до лета 1915 г. Ничего не
добившемуся председателю Совета министров весной 1912 г. пришлось сдер-
живать возмущение думцев. «Гучков готовит большое выступление по смете
В[оенного] м[инистерст]ва артиллерийской, - записал Поливанов, - В[лади-
мир] Н[иколаевич] просил ему передать, что лучше бы он этого не делал, т[ак]
к[ак] государь крайне им [не]доволен за речь по смете Свят[ейшего] синода»57.
Председатель Комиссии по государственной обороне (КГО) сперва упирался,
грозя «патриотической речью против артиллерийского ведомства», но 6 апреля
согласился уступить роль обличителя А.И. Звегинцеву58.
51
Там же, л. 798 об.
52
Впервые Сухомлинов рекомендовал назначить А.А. Маниковского начальником ГАУ ещё
в июне 1910 г. (Там же, л. 531 об.).
53
Там же, л. 811.
54
Там же, л. 826.
55
Там же, л. 831-832 об.
56
Там же, л. 839-839 об.
57
Там же, л. 842.
58
Там же, л. 846 об., 850 об.
74
Характерно, что в конфликте с вел. кн. Сергеем Михайловичем октябри-
сты встали на сторону министра. И это было отнюдь не случайно. Во всяком
случае, до 1912 г. отношения между Сухомлиновым и Гучковым оставались
вполне сносными (а осенью 1910 г. они даже вызывали ревность у Столыпи-
на). Октябристская печать поддерживала Владимира Александровича во вре-
мя скандального развода супругов Бутович летом 1909 г.59 «Союз 17 октября»
выступал за единоначалие в военном ведомстве, одобрял упразднение Совета
государственной обороны, осуждал засилье великих князей в армии. Принад-
лежавшие к нему депутаты не только не занимались сокращением сметы мини-
стерства, но и призывали к увеличению запрашиваемых у Думы кредитов. Не
ставили они под сомнение и приоритет финансирования сухопутных сил перед
военно-морским флотом.
Исследователи обычно связывают начало вражды Сухомлинова и Гучкова
с ликвидацией так называемого кружка «младотурок», ядро которого составля-
ли члены работавшей под руководством генерал-майора В.И. Гурко Военно--
исторической комиссии по описанию русско-японской войны, закрытой по
докладу министра 24 ноября 1910 г.60 Сухомлинов позднее вспоминал о том,
что «родилась ещё какая-то комиссия вне ведения военного министра, состо-
ящая из военных чинов под председательством Гучкова, при Государственной
думе». В списке её 8-10 членов будто бы «значился генерал Гурко, редактор
истории японской кампании, полковник барон [Н.А.] Корф и другие чины
военного ведомства». Получив сведения об этом, Владимир Александрович, по
его словам, убедил царя перевести всех участников «этого подпольного учреж-
дения» на открывающиеся вакансии подальше от столицы. Так, Гурко стал вес-
ной 1911 г. командиром кавалерийской дивизии, а Корф ещё в ноябре 1910 г.
получил стрелковый полк61.
Но, судя по дневнику Поливанова, высшие армейские чины, включая по-
мощника военного министра, систематически консультировали членов КГО
и при Редигере, и при Сухомлинове62. К примеру, в марте 1910 г. Алексей Ан-
дреевич приезжал к Гучкову для участия в совещании о кредитах на оборону63.
Существование «комиссии» являлось системным элементом законотворческого
процесса, а необходимость консультаций объяснялась отсутствием у большин-
ства членов КГО военного образования и опыта службы в войсках. Как вспо-
минал А.И. Деникин, это «“осведомление” шло двумя путями: при посредстве
официальных докладчиков военного и морского ведомства, которые давали
комиссии лишь формальные сведения, опасаясь, что излишняя откровенность,
59
Голос Москвы. 1909. 12 августа. № 184.
60
Дневники императора Николая II… С. 520. Подробнее о «кружке младотурок» см.: Айра-
петов О.Р. Генералы, либералы и предприниматели: работа на фронт и революцию. 1907-1917.
М., 2003. С. 13-14; Айрапетов О.Р. «Дело Мясоедова». XX век начинается… // Вестник Рязанского
государственного университета им. С.А. Есенина. 2009. № 3. С. 116; Бей Е.В. Генерал В.А. Сухом-
линов. Военный министр эпохи Великой войны. М., 2021. С. 120; Селезнев Ф.А., Евдокимов А.В.
Некоторые обстоятельства отставки военного министра Сухомлинова // Вестник СПбГУ. Сер.
История. 2017. Т. 62. Вып. 3. С. 483; Евдокимов А.В. Политическая борьба… С. 44; Хутарев--
Гарнишевский В.В. Противостояние. Спецслужбы, армия и власть накануне падения Российской
империи, 1913-1917 гг. М., 2019. С. 112.
61
Сухомлинов В.А. Указ. соч. С. 235.
62
Поливанов А.А. Указ. соч. С. 35; РГВИА, ф. 89, оп. 1, д. 42, л. 619 об., 623. См. также сви-
детельство П.Н. Крупенского: РГВИА, ф. 962, оп. 2, д. 32, л. 86 об.
63
РГВИА, ф. 89, оп. 1, д. 42, л. 585 об.
75
став известной левому сектору Государственной думы, может повредить делу
обороны, и путём частным. По инициативе А.И. Гучкова и ген[ерала] Васи-
лия Гурко, под председательством последнего, образовался военный кружок
из ряда лиц, занимавших ответственные должности по военному ведомству,
который вошёл в контакт с умеренными представителями Комиссии по госу-
дарственной обороне… Все эти лица не имели никаких политических целей,
хотя за ними и утвердилась шутливая кличка “младотурок”. На совместных
с членами Думы частных собраниях обсуждались широко и откровенно вопро-
сы военного строительства, подлежащие внесению на рассмотрение Думы. Во-
енные министры Редигер и потом Сухомлинов знали об этих собраниях и им
не препятствовали. Так шла совместная работа года два, пока в самом военном
кружке не образовался раскол на почве резкой и обоснованной критики част-
ным собранием некоторых, внесённых уже в Думу, без предварительного об-
суждения в нём, законопроектов. Об этом узнал Сухомлинов и встревожился.
Лукомский и трое других участников вышли из состава кружка. “Мы не мог-
ли, - писал мне впоследствии Лукомский, - добиваться, чтобы Дума отвергала
законопроекты, скреплённые нашими подписями”». Таким образом, кружок
себя дискредитировал и раскололся, и тогда уже «в отношении других, более
“строптивых” “младотурок”, в том числе и самого Гурко, Сухомлинов, после
доклада государю, принял меры к “распылению этого соправительства”, как
он выражался, предоставив им соответственные должности вне Петербурга»64.
Между тем после смерти Столыпина председателем Совета министров стал
Коковцов, что вскоре привело к консолидации всех сил, противостоявших гла-
ве военного ведомства, в знаменитом «деле Мясоедова». По сути, возник заго-
вор, участники которого стремились к дискредитации Сухомлинова, используя
для этого публичное разоблачение прикомандированного к нему жандармского
подполковника С.Н. Мясоедова. Владимир Александрович же считал, будто
бы всё началось с клеветы на Поливанова: «Кто-то, очевидно из сотрудников
генерала Поливанова по прежней службе, составил на основании журналов
заседаний по вопросам обороны донос с выписками из подлинных несомнен-
но документов и с утверждением того факта, что генерал Поливанов сообщил
эти государственные тайны австрийскому послу». Литографированный текст
анонимки «разослан был многим высокопоставленным лицам и членам Госу-
дарственной думы». И хотя министр, согласно его воспоминаниям, «не допу-
скал и мысли о том, что это донос не ложный; но необходимо было выяснить,
кто же мог его составить и каким образом секретные документы оказались
доступными какому-то постороннему лицу». Осведомившись у Поливанова,
«не имеет ли он подозрение на кого-нибудь», Сухомлинов поручил Мясоедову
«навести справки, нельзя ли выяснить автора доноса». По словам министра,
его помощник был «подавлен» неожиданными обвинениями и сразу же «запо-
дозрил, не направит ли Мясоедов свои розыски против него»65.
В этот день, 12 марта 1912 г., Поливанов не только узнал от министра о до-
носе, но и впервые упомянул о Мясоедове в дневнике. Второй раз его фамилия
появляется там 18 марта, когда сразу же после отъезда Сухомлинова в команди-
ровку в Туркестан в Военное министерство поступило официальное отношение,
подписанное главой МВД А.А. Макаровым, в котором говорилось о наличии
64
Деникин А.И. Путь русского офицера. М., 1990. С. 186-187.
65
Сухомлинов В.А. Указ. соч. С. 234.
76
опосредованной (через нескольких лиц) связи между Мясоедовым и агентом
германской разведки Ф. Ланцером66. Несмотря на явную шаткость и несостоя-
тельность доказательств, письмо «поразило» Алексея Андреевича, и он сообщил
его Коковцову и начальнику ГУГШ Я.Г. Жилинскому, у которого, как выяс-
нилось, также имелись «с сентября сведения, что Мясоедов был заподозрен
в шпионских сношениях с Австрией»67. Затем, 29 марта, после очередного засе-
дания Совета министров, его председатель, уже знавший об обвинениях, выдви-
нутых МВД, передал Поливанову «неблагоприятные сведения» о Мясоедове68.
А 6 апреля помощника военного министра посетил начальник штаба От-
дельного корпуса жандармов генерал-лейтенант Д.К. Гершельман, подготовив-
ший в марте справку для Макарова. «Он очень невысокого мнения о близких
министру кн. Андроникове и подп[олковнике] Мясоедове, - отметил в днев-
нике Поливанов. - Последнего ген[ерал П.Г.] Курлов долго не соглашался
принять обратно в Корпус жандармов, но когда военный министр изъявил со-
гласие принять в Оф[ицерскую] кав[алерийскую] школу однополчанина Кур-
лова Вилаамова (на жене которого Курлов женился), то тогда Курлов выразил-
ся, что хоть Мясоедов и дрянь, но, раз в[оенный] м[инист]р так хочет, пусть
его берёт; теперь вечно сидит в Европ[ейской] гостинице и частенько ездит
с прогон[ными] деньгами от Кор[пуса] жанд[армов] в Вилен[ский] округ, где
ведёт дела своего Общества по эмиграции, а в эпоху раздора с [А.З.] Мыш-
лаевским Сухомлинов был у Гершельмана и просил дать ему жанд[армского]
офицера для политич[еской] разведки, а через 31/2 недели его (был полк[овник]
Горленко) отчислили. Вероятно, и Мясоедов, по словам Гершельмана, наблю-
дает за “моей Думой”»69.
Всё это отнюдь не противоречило той одиозной репутации, которой поль-
зовались некоторые близкие к Сухомлинову лица70. Поливанов же явно дистан-
цировался от окружения своего начальника. 27 сентября 1910 г. он упомянул
в дневнике о том, как тот же кн. М.М. Андроников «вечером прислал мне
обширное письмо, что я целый месяц не мог его принять и на вокзале еле
поклонился ему и что он передаст обо мне нехорошие впечатления “нашему
высокочтимому Владимиру Александровичу”. Я ответил ему письмом же, что
никто из моих знакомых не может претендовать, если я занят службой»71. Так
или иначе, под впечатлением от обличительных разговоров весны 1912 г. По-
ливанов, не чуждый честолюбивых мечтаний о министерском портфеле, прим-
кнул к заговору и стал снабжать сведениями Гучкова.
Тем временем, вернувшись из Туркестана, Сухомлинов встретился с Ма-
каровым, который, желая «только добра», поделился «агентурными данными»
и настоятельно рекомендовал уволить Мясоедова, пока не поздно. Осенью
1915 г. Макаров не скрывал, что письма, предъявленные им для доказательства
66
Поливанов А.А. Указ. соч. С. 111. Подробнее см.: Фуллер У. Внутренний враг: шпиономания
и закат императорской России. М., 2009. С. 107.
67
Поливанов А.А. Указ. соч. С. 111.
68
РГВИА, ф. 89, оп. 1, д. 42, л. 850 об.-851 об.
69
Там же.
70
Так, в Петербурге ходили слухи о причастности к шпионажу близкого друга военного ми-
нистра - австрийского подданного А.О. Альтшиллера (Поливанов А.А. Указ. соч. С. 108). Подроб-
нее о нём см.: Фуллер У. Указ. соч. С. 65-72.
71
РГВИА, ф. 89, оп. 1, д. 42, л. 685. Подробнее о князе см.: Селезнев Ф.А., Евдокимов А.В.
Роковая женщина военного министра: генерал Сухомлинов и Екатерина Бутович. СПб., 2020.
С. 87-107.
77
шпионской деятельности Мясоедова, Сухомлинова не убедили72. И впослед-
ствии Владимир Александрович считал своего собеседника «введённым в за-
блуждение Департаментом полиции»73. Но с Макаровым его связывали хоро-
шие отношения, позволявшие говорить дружески и доверительно74. Во всяком
случае, он уступил и 12 апреля направил министру внутренних дел отношение
с просьбой «подполковника Мясоедова освободить от тех обязанностей, ко-
торые на него возложены были в отношении Военного министерства до сих
пор»75. 14 апреля Коковцов показывал эту «бумагу» Поливанову76.
А уже 13 апреля в «Вечернем времени» появилась статья, в которой, в част-
ности, указывалось, что после того, как рядом с известным «сановником» по-
явился жандармский подполковник, австрийцы многое узнали об управлении
русской армией, вплоть до бесед военного министра с императором77. Любо-
пытно, что несколько фрагментов этой статьи имели явное сходство с тем,
что рассказывал Поливанову Гершельман. Так, в газете писали: «В Петербург
несётся письмо к ген[ералу] Курлову с просьбой принять обратно на службу
в корпус, так как принимать в армию этого господина сановник не решается.
Но всё напрасно. Несмотря на желание угодить сановнику, нельзя это сделать.
Репутация не такова. Проходит время, и ген[ералу] Курлову есть надобность
в сановнике. Как ни грустно, но подполковник опять гуляет в форме, но уже
не жандармской». Как Гершельман сообщал Поливанову о поездках Мясоедова
в Виленский военный округ по делам своей конторы, так и «Вечернее время»
информировало читателей: «А в это время подполковник ездил в Либаву за счёт
жандармского корпуса для своего экспортного или эмигрантского дела. Корпус
кряхтел, но платил». Упрекая «сановника», автор недвусмысленно намекал на
мартовское письмо Макарова: «В одну из его поездок были доставлены все
документы, необходимые для того, чтобы открыть ему глаза»78. Таким образом,
дневник Поливанова показывает, что информация о Мясоедове шла от МВД
через помощника военного министра к Гучкову, а не наоборот.
В дальнейшем в историографии утвердилось представление о том, что за
интригой стояли Гучков и Поливанов79. Однако тот факт, что статья в «Вечер-
72
РГВИА, ф. 962, оп. 2, д. 32, л. 104-104 об.
73
Сухомлинов В.А. Указ. соч. С. 373-374.
74
Генерал В.А. Сухомлинов. Дневник. Письма. Документы / Отв. сост. С.А. Харитонов. М., 2014.
С. 180-181. Позднее Сухомлинов вспоминал: «Во время моей поездки в Туркестан в 1912 году По-
ливанов, при содействии редактора газеты “Вечернее время” Б. Суворина и Гучкова, пытался меня
дискредитировать в специальном памфлете, который должен был появиться от имени Мясоедова,
неизвестного мне жандармского полковника» (Сухомлинов В.А. Указ. соч. С. 232). Подобная публи-
кация могла вызвать думский запрос и громкий скандал, что, возможно, и побудило Владимира
Александровича согласиться на отчисление офицера. Не исключено, что Макаров предупредил Су-
хомлинова о подготовке такого памфлета и намекнул на предательство Поливанова.
75
РГВИА, ф. 962, оп. 2, д. 32, л. 48.
76
Там же, ф. 89, оп. 1, д. 42, л. 857.
77
Правда, в первой публикации имя Мясоедова ещё прямо не называлось, речь шла только
о «подполковнике», «жандармском офицере» и т.п. См.: Percy. Кто заведует в России военной
контрразведкой // Вечернее время. 1912. 13 апреля. № 118.
78
Там же.
79
Фрейнат О.Г. Правда о деле Мясоедова и др[угих] по официальным документам и личным
воспоминаниям. Вильна, 1918. С. 17; Шацилло К.Ф. «Дело» полковника Мясоедова // Вопросы
истории. 1967. № 9. С. 108 Фуллер У. Указ. соч. С. 105; Айрапетов О.Р. Дело Мясоедова. Предвы-
борные технологии 1912 г. // Родина. 2011. № 3. С. 79; Селезнев Ф.А., Евдокимов А.В. Некоторые
обстоятельства отставки… С. 485.
78
нем времени» появилась лишь на следующий день после «отчисления» Мя-
соедова, до сих пор ускользал от исследователей. Между тем он указывает на
то, что именно беседа Сухомлинова и Макарова оказалась важнейшим звеном
«дела Мясоедова». Фактически, отстранившись, военный министр позволил
устроить травлю своего подчинённого. Характерно, что накануне этого разго-
вора «В.Н. Коковцов был не в духе и несколько раз намекал на непрочность
якобы своего положения»80. После отставки Мясоедова и начала газетной кам-
пании его тревога рассеялась, и он стал готовиться к следующему шагу.
17 апреля Коковцов поехал в Ливадию, надеясь добиться от императора от-
ставки Сухомлинова и назначения его преемником Поливанова. При этом «сам
премьер-министр, некоторым образом глава кабинета», по словам Владимира
Александровича, «был так уверен в успехе своего дела, что на вокзале в Москве
совершенно открыто говорил о моём увольнении. Точно так же и в Ялте он был
так не сдержан на язык, что всем рассказывал о моей несостоятельности на
посту военного министра»81. Однако вслед за Коковцовым Николая II посетил
Сухомлинов, в итоге не только сохранивший свой пост, но и избавившийся от
амбициозного и ставшего неудобным помощника. Поливанов же, ещё в январе
1912 г. ставший по рекомендации Коковцова членом Государственного совета,
до 1915 г. вынужден был ограничиться этой почётной ролью. 15 мая он записал
в дневнике: «В[ладимир] Н[иколаевич] передал мне, что он видел двух лиц,
возвращавшихся из Ливадии, которые, ссылаясь на слова бар[она В.Б.] Фре-
дерикса, рассказывали о поводах, кои могли составить содержание доклада
воен[ного] министра, послужившего причиной моего увольнения: А.И. Гуч-
ков задумал совершить государственный переворот, влияя на армию, и, хотя
я к сему касательства не имел, но, поддерживая вообще отношения с Гучковым,
рассчитывал при его помощи сделаться военным министром; отсюда и неудо-
вольствие на В[ладимира] Н[иколаевича], который меня всегда хвалил»82.
После неудачной попытки дискредитировать Сухомлинова в глазах монар-
ха положение Коковцова пошатнулось. Его предшественник на посту руко-
водителя финансового ведомства (а затем и министр торговли и промышлен-
ности), член Государственного совета И.П. Шипов, говорил в июне 1912 г.,
что Коковцов «напоминает ему кучера, сидящего на козлах, но потерявшего
вожжи»83. Ещё 5 мая Поливанов отметил, что теперь председатель Совета ми-
нистров старался общаться с Гучковым «при свидетелях»84. По-видимому, ра-
нее они всё же встречались и наедине.
Дальнейшая судьба Коковцова во многом зависела от того, поддержат ли
депутаты морскую программу, предусматривавшую значительное увеличение
расходов на строительство флота. «В Думе не вполне выяснилось, - писала
24 мая А.Н. Родзянко (супруга председателя) Н.Г. Ковалевскому, - пройдут ли
500 млн на флот, а слухи ходят, что Коковцову поставлено условие - благопо-
лучное разрешение этого вопроса или его удаление»85. 6 июня думцы одобрили
законопроект и, как рассказывал Поливанову министр торговли и промышлен-
80
РГВИА, ф. 89, оп. 1, д. 42, л. 852 об.
81
Сухомлинов В.А. Указ. соч. С. 232.
82
РГВИА, ф. 89, оп. 1, д. 42, л. 885.
83
Там же, л. 907 об.
84
Там же, л. 878-879.
85
Представительные учреждения Российской империи в 1906-1917 гг. Материалы перлю-
страции Департамента полиции / Под ред. В.В. Шелохаева. М., 2014. С. 247.
79
ности С.И. Тимашев, на следующий день «в заседании Сов[ета] мин[истров]
В.Н. Коковцев сиял после своего успеха в Г[осударственной] д[уме] по ассиг-
новке на флот, и, вероятно, его положение упрочилось»86.
Тем временем уже Сухомлинов публично выступил против главы прави-
тельства. 16 июня в официальной газете «Русский инвалид» в рубрике «От Во-
енного министерства» появилась статья, обвинявшая финансовое ведомство
в возмутительной экономии при выделении средств для «выдачи сверхсроч-
ным нижним чинам выслуженных ими единовременных пособий»87. 19 июня
Коковцов попытался объясниться с генералом, о чём неделю спустя расска-
зал Поливанову. В ходе этой беседы «В[ладимир] Н[иколаевич] выразил, что
нельзя же при объединённом кабинете делать одному м[инист]ру такие вылаз-
ки в печати против другого министра». На это «Сухомлинов возразил, что он
в состав кабинета не входит», однако «в конце концов согласился напечатать
составленное в Мин[истерстве] фин[ансов] опровержение»88. Но и Коковцов
отныне, вплоть до своей отставки в январе 1914 г., уже не проявлял былой
принципиальности при рассмотрении военных смет и не настаивал на их си-
стематическом сокращении. Серьёзных столкновений между двумя сановни-
ками больше не наблюдалось89. Любопытно, что и Поливанов с июля 1912 г.
почти совсем ушёл в тень, а количество, объём и содержательность его записей
надолго сократились.
Можно лишь сожалеть о том, что дневник А.А. Поливанова дошёл до нас
не полностью. Подлинные «записные книги» 1908 и 1911 гг., пропавшие после
их фрагментарной публикации в 1920-е гг., несомненно, позволили бы лучше
понять характер и логику политической борьбы в правящих кругах Российской
империи. Во всяком случае, сохранившиеся записи существенно корректируют
сложившиеся в историографии представления. Так, «дело Мясоедова» и кон-
фликт Сухомлинова с думским большинством оказываются лишь эпизодами
борьбы между военным министром и руководством правительства (и прежде
всего - финансового ведомства и МВД). В этом противостоянии, наметив-
шемся ещё при Столыпине, но особенно обострившемся уже в 1912 г., пере-
плетались не только личные амбиции, но и проблемы, связанные с границами
прерогатив монарха, Совета министров, Думы, а также с привычными спора-
ми между военными и финансистами о размере расходов на армию. И Поли-
ванов, и октябристы лишь заняли тут сторону Столыпина и Коковцова, что
и предопределило их столкновение с Сухомлиновым, которого в конечном
итоге поддержал Николай II.
86
РГВИА, ф. 89, оп. 1, д. 42, л. 900 об.; Гайда Ф.А. Власть и общественность в России: диалог
о пути политического развития (1910-1917). М., 2016. С. 181.
87
Русский инвалид. 1912. 16 июня. № 131.
88
РГВИА, ф. 89, оп. 1, д. 42, л. 912 об.
89
Коковцов В.Н. Из моего прошлого. Воспоминания. 1903-1919. Т. 2. Париж, 1933. С. 114-115.
80