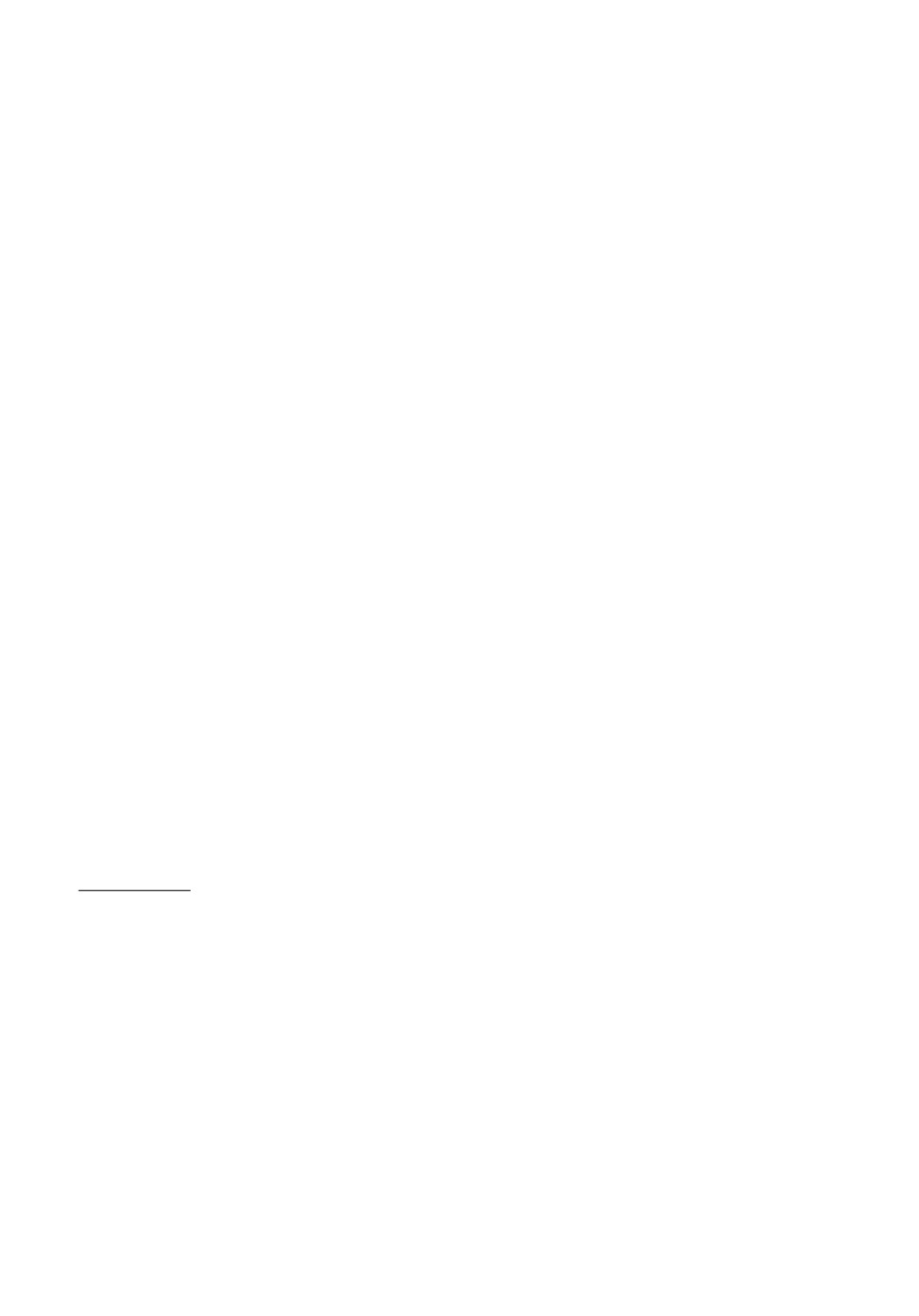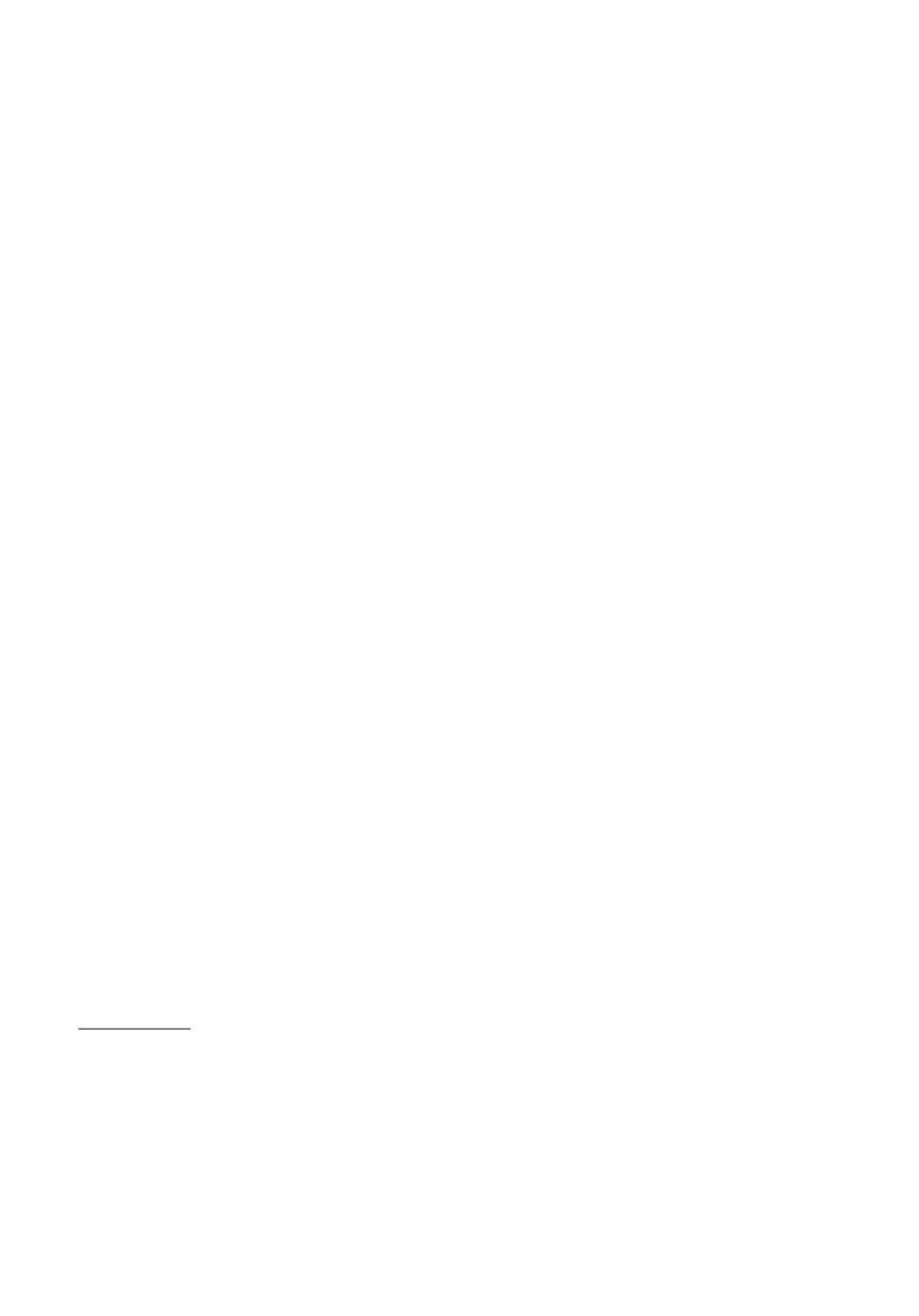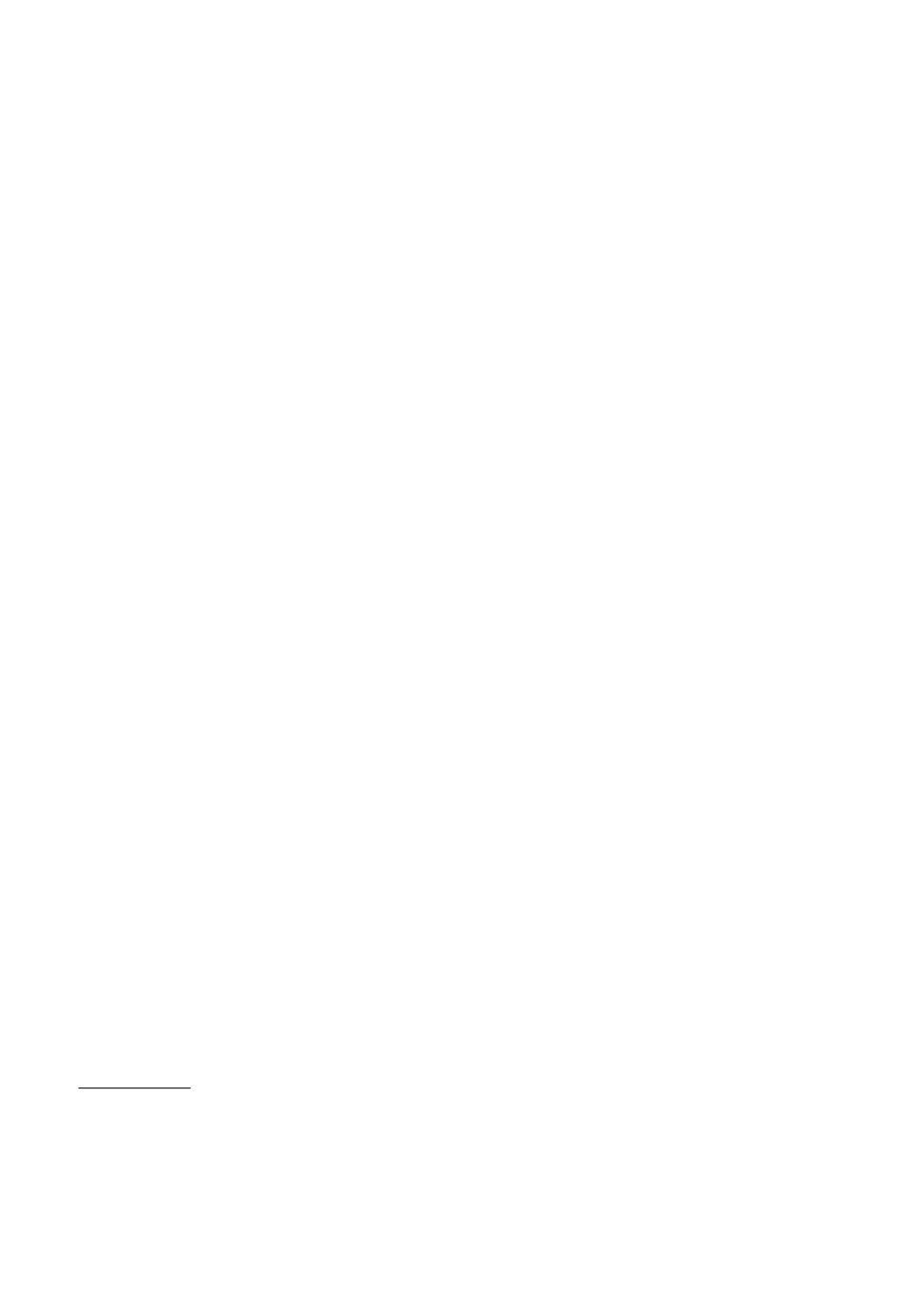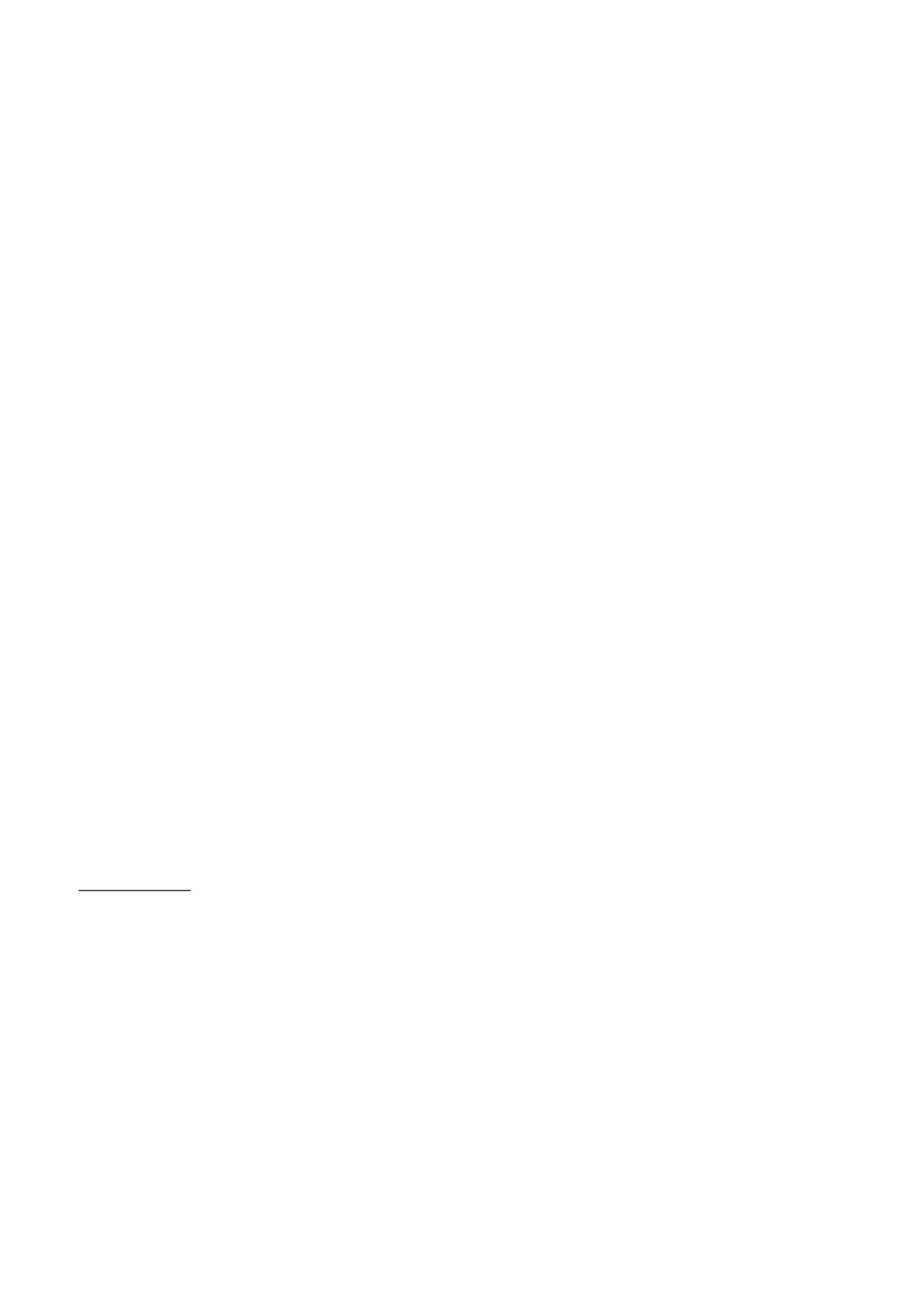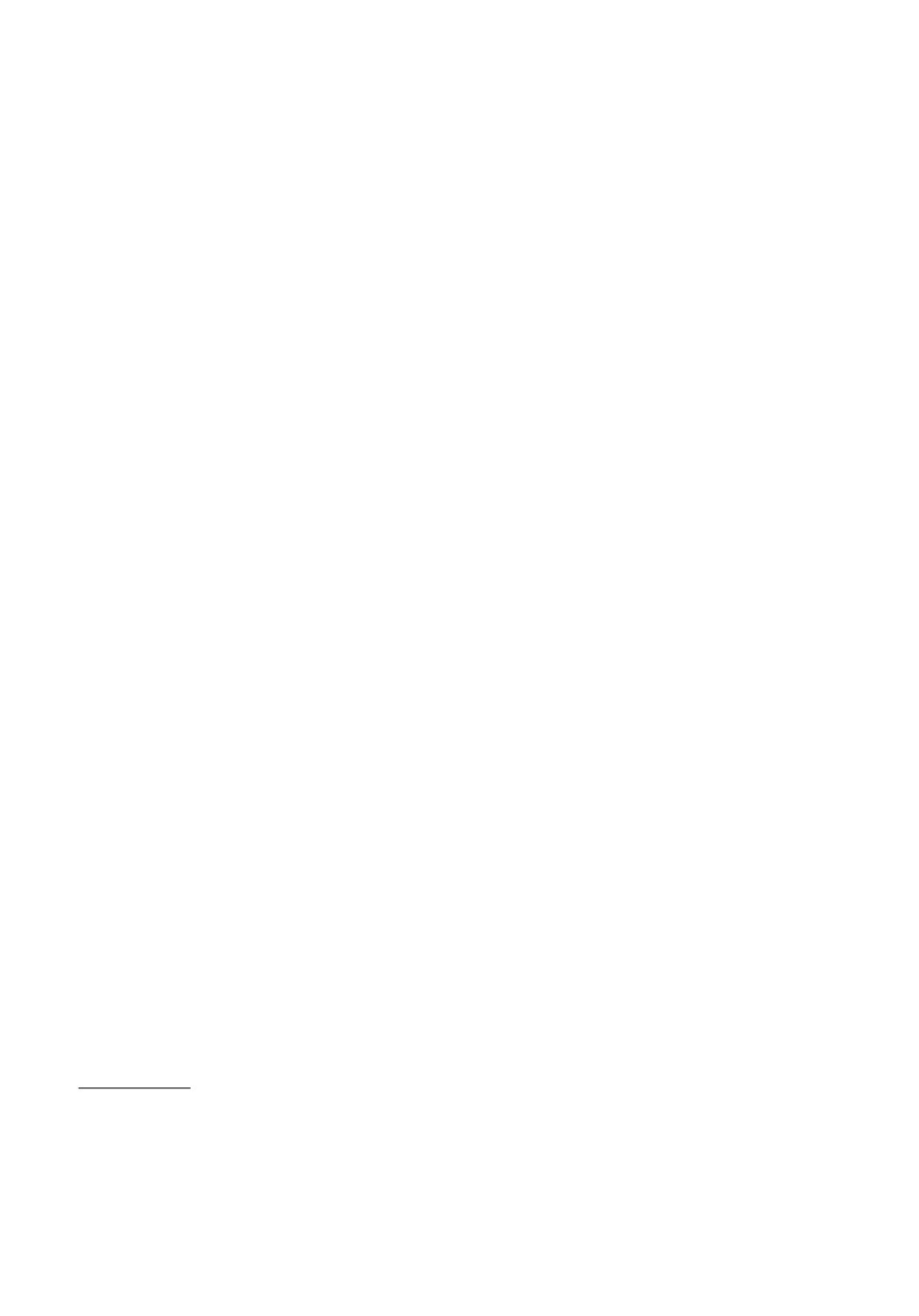Первая мировая война: геополитика и массы
Владимир Булдаков
First World War: geopolitics and the masses
Vladimir Buldakov
(Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences, Moscow)
DOI: 10.31857/S0869568722030074, EDN: FWTISL
Первая мировая война поставила перед европейской общественной мыслью
задачу непривычной трудности. Решение осложнялось инерцией ценностных
установок. Требовалось либо признать войну случайным отклонением от стол-
бовой дороги прогресса, либо попытаться найти принципиально новое, нрав-
ственно приемлемое объяснение закономерности её возникновения. В пользу
первого подхода говорил привычный образ мысли (к тому же потрясённый
пережитой катастрофой), ко второму заключению человечество попросту не
было готово. Трудно было согласиться, что несколько столетий весь «прогрес-
сивный» мир мыслил «неверно», что его материальные достижения покоились
на шатком фундаменте, а его лидеры могли стать заложниками стихийных че-
ловеческих страстей. Человеческий ум обычно впечатляется событиями, а не
историей; формой, а не содержанием, предпочитая заведомо упрощённые
представления о прошлом.
Современные исследователи соглашаются, что Первая мировая война всё
ещё не осмыслена европейской цивилизацией. Ей «не повезло» с историогра-
фией: победители не были заинтересованы ни в анализе своих ошибок, ни
в расследовании истоков войны, побеждённые болезненно нуждались в само-
оправдании, а многие авторы (и не только советские) застряли в тисках преслову-
того «классово-формационного» подхода (или его вульгарно-детерминистского
подобия). Над всем этим господствовали «благородные» эмоции и политиче-
ские пристрастия. Со временем на Первую мировую войну пришлось взглянуть
сквозь призму событий и итогов Второй - ещё более разрушительной - ми-
ровой войны. Чем сложнее событие, тем сильнее соблазн примитивизации его
истоков. Отсюда непреходящее недоумение перед «катастрофой», периодиче-
ски пронизываемое легковесными «открытиями».
Решение проблемы следовало искать в иной - культурно-антропологиче-
ской - плоскости, не игнорируя область бессознательного. Между тем евро-
пейский интеллектуализм всё ещё тяготеет к тому, чтобы считать наиболее
действенным фактором жизни и истории сознательное начало. В объяснении
причин мировой войны исследователи по-прежнему следуют логике поверх-
ностных причинно-следственных зависимостей. В результате доминирующие
представления о войне (а вслед за тем и о революции) по-прежнему отмече-
ны методологическими слабостями позапрошлого века. При этом сказываются
ментальные предпочтения «своего» времени. Историческое событие и его исто-
риографические отражения хронологически разделены, однако люди воспри-
© 2022 г. В.П. Булдаков
Статья подготовлена в рамках проекта Института российской истории РАН по написанию
многотомного академического труда «История России». Публикуется в целях апробации.
95
нимают их как нечто целостное в доступной им системе координат. Собствен-
но история слишком основательно сопряжена с мифом - отсюда все прошлые
и нынешние мнемонические заблуждения.
Считается, что определяющим фактором, приведшим к Первой мировой
войне, стало экономическое и военно-экономическое соперничество двух европей-
ских группировок - австро-германского блока, оформленного ещё в 1882 г.,
с франко-британским соглашением, заключённым в 1904 г. и более известным
как «сердечное согласие» (Entente Сordiale - Антанта)1. Такова хрестоматийная
«истина», продиктованная ментальностью XIX в. Особо отмечается маринист-
ский фактор: борьба за колонии (источник ресурсов) требовала контроля над
путями сообщения. Так или иначе, люди верят, что заряженное ружьё рано
или поздно выстрелит. Но кто его зарядил? И кто, когда, где и почему нажмёт
на спуск, если учитывать, что это всегда рискованно даже для победителей?
Войны всегда обходились дорого, а потому существовала опасность, что даже
военный успех чреват опустошением казны, что, в свою очередь, приводит
к народному недовольству.
Трудно поверить, что в начале ХХ в. европейские правители не догады-
вались об этом. «Не нужно было быть Бисмарком для того чтобы предотвра-
тить эту глупейшую из всех войн»2, - отмечал германский предприниматель
А. Баллин, близкий к кайзеру и по иронии судьбы составивший себе капитал,
обеспечивая миграционные связи между будущими непримиримыми врагами.
Что же толкало людей в абсурднейшую по своим всеобщим, ближайшим и дол-
говременным последствиям войну?3 Как они оправдывались и какие объяс-
нения придумывали? И могли ли они понять, чтó сделало европейский мир
безрассудным, заставив его совершить «прыжок в темноту»?4 Историографиче-
ское недоумение сквозит даже в названиях многочисленных научных исследо-
ваний, где упорно фигурируют такие метафоры, как катастрофа, Апокалипсис,
Армагеддон5.
А между тем возможные причины назревавшей войны были обговорены
ещё до её начала. Так, лидер российских либералов П.Н. Милюков, активный
деятель петербургского Общества мира и позднее известный как воинствен-
ный «империалист», доказывал, что «высоко развитая военная индустрия сама
становится пружиной, автоматически действующей в сторону войны». Он не
забывал напомнить давнее высказывание О. Мирабо о том, что «война есть на-
циональная промышленность Пруссии», а в нынешнее время «на арену между-
народного состязания явилось новое государство, заражённое военным духом
1
Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, социальные процессы,
политический кризис / Отв. ред. Ю.А. Петров. М., 2014. С. 38.
2
Это высказывание стало эпиграфом к книге известного журналиста Э. Людвига. См.: Люд-
виг Э. Июль 1914. Рига, 1929.
3
Foerster S. Im Reich des Absurden. Die Ursachen des Ersten Weltkrieges // Die Kriege entstehen.
Zum historischen Hintergrund von Staatenkonflikten / Hrsg. B. Wegner. Paderborn, 2000. S. 211-250.
4
The Origins of World War I / Ed. by R.F. Hamilton and H. Herwig. Cambridge, 2003.
5
См.: Lincoln W.B. Passage through Armageddon: The Russians in War and Revolution, 1914-
1918. Oxford, 1986; Facing Armageddon: The First World War Experienced / Ed. by H. Cecil, P. Liddle.
L., 1996; Mommsen W. Die Urkatastrophe Deutschlands. Die Erste Weltkrieg 1914-1918. Stuttgart, 2002;
Stevenson D. Cataclysm. The First World War as Political Tragedy. N.Y., 2004; Hastings M. Catastrophe
1914: Europe Goes to War. L., 2013; Sanborn J. Imperial Apocalypse: The Great War and the Destruction
of the Russian Empire. Oxford, 2014.
96
в самой острой форме»6. Милюков был прав лишь отчасти, дело не в «агрессив-
ности» одних и не в «миролюбии» других стран - изменилось само европейское
социокультурное пространство, формировавшее качественно иные предпосыл-
ки возникновения войн. Беда идеологов и политиков старого склада состояла
в том, что они не замечали перспективы «столкновения культур»7, связанного
не только с процессами глобализации, но и внутринационального раскола8.
Хрупкость существующего мира ощущали многие. Ещё в XIX в. стали рас-
пространяться общества и ассоциации, призывавшие объявить войны вне зако-
на и заменить их альтернативными инструментами в виде межнационального
арбитража. Известные богачи, такие как Э. Карнеги и А. Нобель, жертвовали
огромные суммы на развитие международного диалога9. Но эти инициативы не
могли сдержать совсем иных, менее заметных, но куда более опасных тенден-
ций. Г. Уэллс ещё в 1903 г. отмечал, что прогресс техники и рост народонаселе-
ния приведут не только к интенсивной вертикальной мобильности, но и к по-
явлению «свободных радикалов» внутри среднего класса: «Эта пёстрая масса
пытается то пристать к имущим, то к самостоятельным людям, то теряет почву
под ногами и идёт ко дну». Вместе с тем он указывал на «словно на дрожжах
выросшие хаотические силы», способные вызвать «крупный переворот, кото-
рый исковеркает все человеческие построения»10. Действительно, демографи-
ческий бум стимулировал урбанизацию. Она в свою очередь увеличивала слой
лиц наёмного труда, которым в условиях индустриального прогресса стало тес-
но в рамках своего зависимого состояния. Шанс на тотальное преображение
статуса последнего давала именно мировая война.
Социалисты пытались направить общественные настроения в нужное
русло, придав им заряд революционной бодрости. В 1911 г. ведущий теоре-
тик II Интернационала К. Каутский в статье, символично названной «Война
и мир», предсказывал, что вслед за европейской войной последует междуна-
родная социальная революция. Даже если она поначалу ограничится преде-
лами одного государства, то «при современных условиях такое положение не
может продлиться долго». Она неизбежно перебросится и на другие страны,
«возникнут Соединённые Штаты Европы, а затем и Соединённые Штаты всего
цивилизованного мира»11. И в наше время возникает желание увидеть в войне
не только всеобщую катастрофу, но и катализатор прогресса12. Шок от мировой
6
Милюков П.Н. Вооружённый мир и ограничение вооружений. М., 2003. С. 13, 19, 37.
7
См.: Guerres et Cultures 1914-1918. P., 1994; The First World War as a Clash of Cultures / Ed. by
F. Bridgham. Rochester; N.Y., 2006.
8
К 100-летию с начала войны, по мнению исследователей, доминировали три концепта,
характеризующих войну: «катастрофа, породившая столетие», «европейская гражданская война»,
«человеческая бойня» (Нагорная О.С, Нарский И.В. Проигранная война, поиск виновников и тень
нацизма: Первая мировая война в немецкой историографии // Российская история. 2014. № 5.
С. 14-15). Представляется, что для понимания экзистенциональной сущности войны данных «кон-
цептов» (на деле - смешения формально-описательных и эмоционально-метафорических дискур-
сов) недостаточно.
9
Макмиллан М. Война, которая покончила с миром. Кто и почему развязал Первую миро-
вую. М., 2016. С. 21.
10
Уэллс Г. Предсказания о судьбах, ожидающих человечество в ХХ столетии. СПб., 1903.
С. 61-62, 104, 109.
11
Цит. по: Тютюкин С.В. Г.В. Плеханов. Судьба русского марксиста. М., 1997. С. 303.
12
Reinmann A. Der Erste Weltkrieg - Urkatastrophe Katalisator? // Aus Politik und Zeitgeschichte.
Bd. 29-30. 2004. S. 30-38.
97
войны настолько основательно впитался в память поколений13, что историки
готовы следовать за эмоциями столетней давности.
Приближение «роковой» ситуации ощущали по-разному. В сентябре 1912 г.
австрийская газета «Нойе Фрейе Прессе» писала: «При существующем поло-
жении вещей никем из великих народов не желаемая общеевропейская война,
беспримерная по своим размерам… чреватая неисчислимыми последствиями,
может возникнуть по воле и капризу ничтожной горсти людей, по знаку, по-
данному из какого-нибудь маленького центра, вроде столицы балканских го-
сударств»14. Весьма проницательно высказался и Ж. Жорес: «Самая большая
опасность в настоящую минуту кроется… даже не в реальных намерениях госу-
дарственных канцелярий, как бы преступны ни были эти намерения, и даже
не в реальной воле народов. Опасность - в растущем возбуждении, в распро-
страняющейся тревоге, в безотчётных поступках, подсказанных страхом, мучи-
тельной неуверенностью, длительным смятением. Панике поддаётся не только
толпа, против неё не застрахованы и правительства»15. Австрийский писатель
К. фон Ланг писал в начале 1914 г.: «Что-то надвигается, но когда оно начнёт-
ся, предсказать невозможно. Быть может, нас ждут ещё несколько мирных лет,
однако с такой же вероятностью гром может грянуть уже сегодня»16.
Обнаружилось, что даже люди творчества на Западе и в России подходили
к причинам войны с разных сторон. Австрийский писатель С. Цвейг видел
её причины в национальном эгоизме: «Каждая страна вдруг пожелала стать
могущественной, забывая, что другие хотят того же; каждому хотелось пожи-
виться ещё чем-нибудь за чужой счёт», рассчитывая, что «в последнюю минуту
противник всё же струсит»17. Такой взгляд отражал влияние политики и поли-
тиков. Напротив, русский писатель и поэт Ф. Сологуб утверждал: «Мировая
катастрофа… началась не 19 июля 1914-го года, а гораздо раньше. Война только
выявила накопившуюся мировую энергию, только освободила глухо клокотав-
шие подземные силы»18. Известный публицист Г. Ландау добавлял: «Месяцами
народы Запада воспитываются в глубочайшей ненависти», ложные взаимные
представления народов становятся их «правдой»19. В результате правители,
страны, народы продолжали жить на грани катастрофы, стараясь не замечать
признаков её приближения и не задумываясь над её последствиями. «Немцы,
французы, англичане и австрийцы, русские и бельгийцы - все подпадали под
власть психоза разрушения, предтечами которого были убийства, самоубийства
и оргии предшествовавшего года, - писал вел. кн. Александр Михайлович. -
В августе 1914 года это массовое помешательство достигло кульминационной
точки»20.
Считается, что наиболее точное обоснование опасности для России от
столкновения с Германией высказал накануне войны лидер группы правых
13
Winter J.M. Remembering War: the Great War between Memory and History in the Twentieth
Century. New Haven, 2006.
14
Цит. по: Вишняков Я.В., Тимофеев А.Ю., Милорадович Г. На дальних рубежах. Россия и Сер-
бия в годы Первой мировой войны. 1914-1917. М., 2018. С. 161.
15
Жорес Ж. Против войны и колониальной политики. М., 1961. С. 235.
16
Цит. по: Хейстингс М. Первая мировая война: Катастрофа 1914 года. М., 2020. С. 33.
17
Цвейг С. Вчерашний мир. Воспоминания европейца. М., 2004. С. 160.
18
Клейнборт Л.М. Встречи. Фёдор Сологуб // Русская литература. 2003. № 2. С. 119.
19
Ландау Г.А. Сумерки Европы. М., 2022. С. 23.
20
Великий князь Александр Михайлович. Воспоминания в двух книгах. М., 2017. С. 246.
98
Государственного совета германофил П.Н. Дурново. В представленной в фев-
рале 1914 г. Николаю II специальной «Записке»21 он предупреждал, что глав-
ная опасность - ввязаться в противоборство с Германией на стороне Англии,
которая всегда решала свои задачи чужими руками. Поскольку основная тя-
жесть европейской борьбы ляжет на Россию, возникнет ситуация, известная
по русско-японской войне: активизируется оппозиция, провоцирующая ре-
волюционную стихию. В результате, писал Дурново, «Россия будет ввергнута
в беспросветную анархию, исход которой не поддаётся даже предвидению»22.
Нечто подобное отмечал и П.А. Столыпин в июле 1911 г.: война будет гибельна
для России и династии23. Бывший премьер С.Ю. Витте считал, что «нынешняя
война - это единоборство Великобритании и Германии за мировую гегемо-
нию», «остальным державам суждено сыграть роли статистов в этой схватке»24.
По некоторым данным, в 1912-1913 гг. руководство полиции и жандармерии
пришло к заключению: революция в виде массового вооружённого восстания
неизбежна и состоится в ближайшие годы. Она может произойти при актив-
ном участии и поддержке войск - не только нижних чинов, но и офицерского
состава, по типу революций в Турции (1909) и Португалии (1910)25. Одна-
ко для известного экономиста и предпринимателя П.П. Мигулина растущая
экономическая мощь была гарантией от всех бед: он не допускал даже воз-
можности экономического кризиса, а алармистские заявления Витте считал
«смехотворными»26.
Между тем перспективы «большой» войны для России определялись не
абстрактными «темпами роста» её экономики, а органичностью её внутреннего
развития, с одной стороны, и характером её взаимосвязи с мировым хозяй-
ственным целым - с другой. В этом смысле дисбаланс между сырьевым и инду-
стриальным секторами экономики, между соотношением экспорта и импорта,
между «недорыночной» финансовой системой и низкими доходами населения
должен был вызывать скорее тревогу, нежели оптимизм. Тем не менее неко-
торые авторы тешили национальное самолюбие тем, что западные страны не
смогут жить «без нашей твёрдой пшеницы». К этому добавлялись не только
железная и марганцевая руда, но и отруби, жмыхи, конский волос и щетина
и даже «коконы, меха невыделанные, кожи невыделанные»27.
Как бы то ни было, и Витте, и Столыпин, и Дурново исходили из ре-
волюционных последствий русско-японской войны, неудачи которой возбу-
дили общественное негодование. По тому же шаблону мыслил и действовал
революционный авантюрист Парвус (А. Гельфанд). Считая себя истинным
социал-демократом, он полагал, что революционное поражение царизма следу-
21
Некоторые исследователи сомневаются в подлинности этого документа (Олейников Д.И.
Пророчество: вперёд или назад? // Василий Фёдорович Антонов. Памяти учителя. М., 2015.
С. 215-231).
22
Дурново П.Н. Записка // Красная новь. 1922. № 6(10). С. 187, 188, 196.
23
Столыпин П.А. Переписка. М., 2004. С. 425.
24
Барк П.Л. Воспоминания последнего министра финансов Российской империи. 1914-1917.
В 2 т. Т. 1. М., 2017. С. 274, 275.
25
Хутарев-Гарнишевский В.В. Противостояние. Спецслужбы, армия и власть накануне паде-
ния Российской империи, 1913-1917 гг. М., 2020. С. 557-558. Как видно, российские охранители
руководствовались «прецедентным мышлением», совершенно не понимая природы российской
революционности.
26
Новый экономист. 1914. 17 мая.
27
Ланговой Н.П. Во имя чего мы сражаемся? Пг., 1915. С. 14-15.
99
ет подтолкнуть с помощью Германии, которой надлежит использовать для это-
го всевозможных пацифистов, максималистов и сепаратистов. План оказался
одной из химер воспалённого воображения тех лет, что не мешает различного
рода конспирологам воспринимать его всерьёз. Разумеется, враждующие пра-
вительства не прочь были заплатить за разрушение тыла противника, однако из
этого ничего серьёзного не могло получиться. Тем не менее привычное соотно-
шение войны, революции и освободительного движения спуталось. Геополи-
тический баланс сил, а равно и сама сложившаяся «мир-система» стала в куда
большей степени зависеть от «факторов непредсказуемости» вроде Балканских
войн.
В мае 1914 г. в парижском кафе известный искусствовед барон Н.Н. Вран-
гель (брат известного генерала) в разговоре с другим деятелем культуры
гр. В.П. Зубовым заявил: «Мы стоим перед событиями, подобных которым
свет не видал со времён переселения народов. Культура, пришедшая как наша
в футуризме к самоотрицанию… подходит к концу. Скоро всё, чем мы живём,
покажется миру ненужным, наступит период варварства». Поначалу Зубов счёл
слова Врангеля парадоксом: «в мире царило спокойствие»28. Но, возможно, тот
был способен улавливать то, что не дано другим - «затишье перед бурей».
Чем больше люди страшились войны, тем основательней готовились к ней.
Российский «Вестник Европы» вопрошал: «Куда ведут Европу правительства
и парламенты? Никто этого не знает; все ссылаются на какие-то неведомые
таинственные опасности, которые могут обрушиться на народы… Ни францу-
зы, ни немцы не хотят воевать… Едва ли правильно поступают парламенты,
поддающиеся гипнозу запугивающих военных тайн и пассивно принимающие
разорительные законопроекты»29. С тех пор убедительное представление о при-
чинах войны всё ещё отсутствует. Стараются найти «виновников», что совсем
не ново.
Уже в первой декаде августа 1914 г. правительства основных европейских
держав поспешили с публикацией самооправдательных документов. И гер-
манская «Белая книга», и британская «Синяя книга», и французская «Жёлтая
книга», и российская «Оранжевая книга» были призваны убедить, что война
их странам была навязана извне. В «Белой книге» даже утверждалось, что
Россия сначала объявила мобилизацию, а затем, не дожидаясь объявления
войны со стороны Германии, перешла границу. В других книгах также не
обошлось без передёргивания фактов30. В общем, в развязывании войны ока-
зывались виноваты «чужие» правительства, а «свои» отвечали сугубо оборони-
тельными мерами. Так свои действия аргументировали политики, опиравши-
еся на дипломатов старой школы. Подобный подход, взятый на вооружение
историками, мог лишь увести в сторону от понимания проблем войны и мира
в новую эпоху.
На деле ситуация в мире качественно изменилась. В ХХ в. к роковой чер-
те правителей стали подталкивать сами массы, точнее та социально неудов-
летворённая их часть, которая связывала (и не только символически) побе-
ду над внешним врагом с разрешением своих внутренних проблем. Но это
начали понимать уже после того, как исправить положение оказалось невоз-
28
Зубов В.П. Страдные годы России. М., 2004. С. 41.
29
Вестник Европы. 1914. № 7. С. 414.
30
Людвиг Э. Указ. соч. С. 201-206.
100
можно. «Неизбежной эта война стала только в тот момент, когда она была
признана неизбежной. Когда повод неясен, а цели туманны, нужна та энер-
гия, которая наполнит собой смачные, аппетитные слова», - писали немногие
«прозревшие»31.
Существовало ещё одно основание для тотальных заблуждений. С незапа-
мятных времён принято считать, что деньги - это кровь войны. В век «финан-
сового капитала» такое представление породило подозрение: именно капитал
развязал войну и именно его ожидает крах. Под видом марксистского «прозре-
ния» проблема оказалась мистифицирована.
Во всех странах воинственным радикалам стали по-своему, обычно не-
вольно, подыгрывать социалисты. Возникла общеевропейская ситуация, ког-
да идеологизированные массы превратились в «государственный двигатель»32.
Позднее это было названо «восстанием масс» (Х. Ортега-и-Гассет). В.И. Ле-
нин не случайно заговорил сперва о «революционном оборончестве», а затем
о «революционном шовинизме». Подобные эмоции (никак не вписывающиеся
в ортодоксально-марксистские представления) действительно сопровождали
весь ход войны.
Произошло смешение всех устоявшихся понятий «просвещённого» XIX в.
Кое-кто по-своему оценил открывшиеся перспективы. В. Серж, радикальный
социалист, утверждал, что для него война «предвещала другую, очистительную
бурю, которая отныне становилась неизбежной, - русскую революцию». Он
уверял, что «революционеры прекрасно знали, что самодержавная империя со
всеми своими вешателями, погромами, безвкусной роскошью галунов, голо-
дом, сибирской каторгой, застарелым беззаконием не имела шансов пережить
войну»33. Впрочем, столь однозначные представления обычно появляются зад-
ним числом. Между тем в ноябре 1916 г. военный радиотелеграфист и будущий
советский академик С.И. Вавилов считал, что «война [это] непонятная, сокру-
шительная и божественная революция, которая мир перевернёт»34.
Вглядеться в глубинные причины невиданной «перетряски» мира мешал
позитивистско-рационалистический образ мысли. «Наука запрещает себе всту-
пать в ту область, которую она называет непознаваемой», - не без оснований
заявлял Г. Лебон ещё перед войной35. Он и сам был позитивистом, утверждая,
что наука и вера, разум и чувство принадлежат областям, независимым друг от
друга и никогда не будут в состоянии смешаться. Здесь он ошибался: в предво-
енные годы логическое и эмоциональное, теоретическое и эмпирическое в со-
знании европейцев настолько основательно смешались, что смысл и содержа-
ние событий оказались надолго потеряны.
Никто (или почти никто) не задумывался над тем, какова психосоциаль-
ная генетика скрытых от «просвещённых» умов мутаций сознания «среднего»
европейца. Впрочем, отчётливого понимания этого феномена нет до сих пор.
Исследователи по-прежнему оглядываются на политиков, игнорируя сознание
31
Энглунд П. Восторг и боль сражения. Первая мировая война в 211 эпизодах. М., 2012. С. 43.
32
Ландау Г.А. Сумерки Европы. С. 55-56.
33
Серж В. От революции к тоталитаризму: Воспоминания революционера. М.; Оренбург,
2001. С. 60.
34
«Война стала противна, исчезло всякое представление о её нужности». Из военных дневни-
ков С.И. Вавилова. 1914-1916 гг. // Исторический архив. 2014. № 4. С. 140.
35
Лебон Г. Современная магия и наука. СПб., 1910. С. 58.
101
и психику «маленького человека», всё основательнее задающего незримые им-
пульсы глобальному движению масс36.
Интерес к Первой мировой войне, особенно к её причинам и, особен-
но, «виновникам», никогда не ослабевал. По некоторым данным, к 2000 г. на
эту тему было публиковано свыше 619 тыс. книг и статей37. Об этом писали
в первую очередь европейские авторы38, при этом на колеблющееся состоя-
ние умов мощное влияние оказывала беллетристическая рефлексия39. Колос-
сальным стимулятором явилась политическая пропаганда. Так, в 1926-1927 гг.
появилась 40-томная публикация документов германского МИД, призванная
продемонстрировать миролюбивую политику кайзеровского правительства40.
Характерно, что в межвоенный период мнения о «виновниках» войны раздели-
лись почти поровну, с заметным стремлением обвинить Францию и Россию41.
Вместе с тем движение исторической мысли было малозаметным. Подавляю-
щее большинство историков, вслед за многочисленными мемуаристами, слов-
но скользили по внешней поверхности событий, опасаясь заглянуть в глубины
коллективного человеческого грехопадения. Это можно понять, однако это не
оправдывает малодушных исследователей, следующих за нескончаемой поли-
тической риторикой и занудливыми моральными сентенциями. Понять про-
шлое невозможно без проникновения в глубины людской психики. В против-
ном случае оно может напомнить о себе ещё более неожиданными и суровыми
уроками. В сущности, для того чтобы избежать подобных сюрпризов, и был
востребован психоанализ.
С поиском причин того, что со временем кажется ненужным, всегда воз-
никают трудности. «В войне виновата вся Европа: это доказано исследованием
во всех странах. Единственная виновность Германии, а также полная невино-
вность Германии, - сказка для детей по ту и другую сторону Рейна», - писал
знаменитый журналист Э. Людвиг. Сам он был убеждён, что «повсюду низшие
классы боялись войны и боролись с ней до последнего дня». Напротив, «мини-
стры, генералы, адмиралы, поставщики военного материала, редакторы, под-
гоняемые честолюбием и страхом, неспособностью и жаждой наживы, гнали
массы вперёд»42. В подобных заявлениях присутствовала доля обычной социа-
листической демагогии. Между тем в Германии о неизбежности столкновения
германской и славянской рас говорили уже давно, причём не только безответ-
ственные журналисты, но и представители университетской науки43, и даже
36
Милюков отмечал, что для понимания причин войны «логики» недостаточно, в развёр-
тывание событий вмешалась «психология». Однако он имел в виду лишь кайзера и российского
императора (Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1991. С. 382, 384).
37
Uncovered Fields. Perspectives in First World War Studies / Ed. by J. MacLeod, P. Purseigle.
Leiden; Boston, 2004. Р. 7.
38
См.: Виноградов К.Б. Буржуазная историография первой мировой войны. Происхождение
войны и международные отношения 1914-1917 гг. М., 1962; Россия в годы Первой мировой вой-
ны… С. 83-89.
39
Trott V. Publishers, Readers and the Great War. Literature and Memory since 1918. L.; N.Y.; etc.,
2017. Р. 2, 205.
40
Die Große Politik der Europäischen Kabinette 1871-1914. Sammlung der Diplomatische Akten
des Auswärtigen Amtes / Lepsius J. u.a. Bd. 1-40. Berlin, 1926-1927.
41
Петров Ю.А., Павлов Д.Б. Первая мировая война: кто виноват? (Историографический
этюд) // Российская история. 2014. № 5. С. 5-6.
42
Людвиг Э. Указ. соч. С. 5.
43
О германских расово-характерологических исследованиях см.: Гурный М. Великая война
профессоров. Гуманитарные науки. 1912-1923. СПб., 2021. С. 72-92.
102
политики уровня Х. фон Мольтке. Более взвешенно, казалось бы, высказывал-
ся германский канцлер предвоенных и военных лет Т. Бетман-Гольвег: «Без-
граничное взаимное недоверие, навязчивая мания империализма и ограничен-
ный материальными стремлениями наций патриотизм взаимно взвинчивали
друг друга всё в большей степени, и невозможно установить, какая народ-
ность всего больше поддавалась этому во всём мире царящему настроению»44.
Это убеждение не помешало ему в конечном счёте обвинить во всём Россию,
поддержанную Великобританией. Как и все политики того времени, он обма-
нывался и обманывал. С.Д. Сазонов, российский министр иностранных дел,
свидетельствовал, что ещё весной 1913 г. Бетман-Гольвег публично рассуждал
о возможном «европейском пожаре, который бы поставил друг против друга
славян и германцев»45. Наступило время, когда в сознании людей метафора
побеждала логику - потоки информации превосходили возможности не только
коммуникативного разума, но и трезвых мыслителей.
Некоторые считали, что книга Людвига построена «на полном невежестве
в русских делах»46, однако первыми историографами мировой войны, искав-
шими её истоки в правящих верхах, были именно последователи подобных
журналистов, заранее «знавших» истинного «виновника». Подобные установки
фактически парализовали изучение глубинных истоков тотальной катастрофы.
При этом периодически возникает тема особой заинтересованности в ней Рос-
сии, с её славянофильскими амбициями и империалистическими проектами47.
Искать виновных и публично распинать их - обычное «историографическое»
занятие, в котором исследователи находят подобие эвристического самоудов-
летворения. Даже выдающийся фантаст Г. Уэллс оказался во власти само-
обольщений. Став в годы войны штатным сотрудником британского пропа-
гандистского ведомства, он уверял, что это «последняя война», «война во имя
мира». Он подметил, что «англичане считают Россию гораздо более расчётли-
вой, чем она есть на самом деле», они «боятся, что панславизм займёт место
пангерманизма»48.
Впрочем, заблуждения эпохи не исключают прозрений одиночек. Через
день после вступления Великобритании в войну Г. Джеймс - писатель, серьёз-
но озабоченный проблемой «столкновения культур» - писал другу: «Сполза-
ние цивилизации в эту пропасть мрака и крови… является таким очевидным
развенчанием всей долгой эпохи, на протяжении которой нам представлялось,
что мир… постепенно совершенствуется»49. Однако «разочарование в прогрес-
се» испытали немногие. Уже в 1917 г. русский литератор Р.В. Иванов-Разумник
задался вопросом: откуда взялся империализм, «что заставило демократию
в 1914 году пойти по дороге создания мировых колониальных империй?». Сам
он полагал, что для понимания этого надо разглядеть «сложное зерно, религи-
озное, этическое, социальное, которое таится за грубой политической и эко-
номической скорлупой и даст в будущем плоды, совершенно неожиданные для
провозвестников империализма». Иванов-Разумник не склонен был «мерить
44
Бетман-Гольвег Т. Мысли о войне. М.; Л., 1925. С. 115, 117.
45
Сазонов С.Д. Воспоминания. Париж, 1927. С. 185.
46
Великий князь Александр Михайлович. Воспоминания… С. 247.
47
Barnes H.E. The Genesis of the World War: An Introduction to the Problem of War Guilt. N.Y.,
1926.
48
Уэльс Г. Война против войны. М., 1915. С. 11-12, 102-103.
49
Цит. по: Фассел П. Великая война и современная память. СПб., 2015. С. 31.
103
мировые явления кургузым марксистским аршинчиком», напротив, он хотел
разглядеть в войне ту «неприкрашенную» её сторону, «которую со всех сторон
старательно прикрывают разными знамёнами - либеральными, славянофиль-
скими, социалистическими»50. Но ничего подобного не удалось достичь до сих
пор. Французские историки Ж.Б. Дюрозель и Ф. Фюре считают, что Первая
мировая война остаётся событием необъяснимым «с точки зрения происхожде-
ния, масштабов и деструктивных последствий»51.
Представления о том, что от войны можно было «отказаться», имеют хож-
дение и в наше время как в западной, так и в российской историографии52.
Фантазии такого рода, порождённые поверхностным «рационалистическим»
подходом, неизбежны. Всякие новейшие явления системно-деструктивного
порядка нельзя оценивать мерками прошлых веков.
Для понимания «решающих» событий прошлого необходимо выбраться из
избитой колеи прежних интеллектуальных самообольщений. Так, Ортега-и--
Гассет связал мировую войну с надломом всей европейской культуры. «Интел-
лектуализм тяготеет к тому, чтобы считать самым эффективным в жизни со-
знательное начало, - писал он. - Ныне мы убеждается в противоположном»53.
Чтобы понять прошлое, мало скользить по поверхности высокой культуры,
важно проникнуть в глубинный слой прежних верований и скрытых страстей.
К «восстанию масс» были совершенно не готовы ни европейские правители,
ни даже тогдашние элиты. А социалисты с упорством, достойным лучшего
применения, зауживали этот культурно-антропологический феномен пресло-
вутой «борьбой классов». Периодически историографические горизонты за-
слонялись политико-пропагандистскими интенциями. В значительной степени
эта ситуация оказалась законсервирована исторической наукой, тяготеющей
к позитивистским методам исследования.
Некоторые историки исходили и исходят из того, что инерция длительной
гонки вооружений, начатой ещё в конце XIX в., оставалась настолько силь-
ной, что война делалась неизбежной54. Были и авторы, которые давно обратили
особое внимание на интенсивность моральной подготовки населения великих
держав к «большой» войне. В результате ощущение тревоги по поводу её по-
следствий уступало место легкомысленным надеждам55. Однако надо учитывать
и одновременный рост пацифистских настроений56, оказавшихся, в конечном
счёте, подавленными милитаристским психозом.
Характерно, что среди доминирующих самооправдательных текстов на За-
паде появлялись и «покаянные» сочинения. «Ответственность за войну в пер-
вую очередь несёт дуалистическая монархия», - утверждал венгерский политик,
подчёркивавший недооценку Австро-Венгрией национального вопроса. По его
50
Иванов-Разумник Р.В. Испытание огнём // Скифы. СПб., 2018. С. 338.
51
Цит. по: Сергеев Е.Ю. Первая мировая война: Трагические уроки глобального конфликта.
М., 2016. С. 30.
52
См.: Киган Дж. Первая мировая война. М., 2002. С. 11; Молодяков В.Э. Первая мировая:
война, которой могло не быть. М., 2012.
53
Ортега-и-Гассет Х. Запах культуры. М., 2006. С. 233.
54
См.: Luntinen P. French Information on the Russian War Plans, 1880-1914. Hеlsinki, 1984;
Herrmann D.G. The Arming of Europe and the Making of the First World War. Princeton, 1996.
55
Renouvin P. La crise européenne et la Grande guerre (1904-1918). P., 1934. P. 152-156.
56
См.: Brock P. Pacifism in Europe to 1914. Princeton, 1972; Chickering R. Imperial Germany
and a World without War. The Peace Movement and German Society, 1892-1914. Princeton, 1975;
Carsten F.L. War against War: British and German Radical Movements in the First World War. L., 1992.
104
мнению, Австро-Венгерская империя действительно не хотела откладывать
войну. Он напоминал, что в июле 1914 г. престарелый Франц-Иосиф заявлял:
«Если монархии суждено погибнуть, она, по крайней мере, должна сделать это
достойно»57. Поразительно, что в Турции также находились деятели, отчаянно
заявлявшие нечто подобное: «Мы, турки, будем воевать! Или все совершенно
погибнем, или отыграем великую славу Дома Османов! Война, война! Скорее!
Русские уже на Босфоре!»58.
Итак, первая в истории, как стало принято считать59, тотальная вой-
на включала в себя и войну «старых» и «новых» империй (организационный
и геополитический аспект), и войну народов, впервые ощутивших свою силу
в качестве наций (субъектов мировой истории), и войну машин (включая со-
стязание экономик и технологий). Совокупность этих аспектов складывалась
в войну культур - как способных к интенсивной модернизации под воздей-
ствием экстремальных условий, так и слабеющих под грузом «непреодолимых»
обстоятельств.
Что делало войну объективно неизбежной? Лишь со временем исследова-
тели стали догадываться, что опасность таилась в самом устройстве современ-
ных государств, становящихся всё более беспомощными перед вызовами эпохи
в силу своей «переусложнённости» демократией, с одной стороны, бюрократи-
ей - с другой. Такая государственность не могла ни предотвратить войну, ни -
и это самое страшное - остановить её. Казалось, что индустриальный прогресс
делал власть «сильной», что порождало соответствующий культ, не сдерживае-
мый рамками старой морали. Более того, вера в такую власть потеснила веру
в Бога. Складывающееся соотношение власти и людской массы словно взывало
к харизматическим лидерам нового, точнее, старого, воинственного типа. «Раз-
мах Власти (или способности управлять национальной деятельностью в более
полной мере), таким образом, стал причиной размаха войны»60, - такое смогли
признать лишь со временем, ибо «демократически-бюрократическая» власть
казалась анонимной. Впрочем, подобные прозрения и сегодня большая ред-
кость. Чем более сложным является историческое явление, тем сильнее исто-
рики тяготеют к конвенциональности на основе заведомо упрощённых пред-
ставлений и якобы универсальных законов.
Объективно, ввязываясь в войну, режим Николая II ставил перед собой
заведомо невыполнимые задачи, противоречившие «нуждам и состоянию Рос-
сии»61. Однако в то время мало кто мог разглядеть подобную перспективу. Под-
ключение России к мировому конфликту, окажись он кратковременным, нельзя
относить к разряду роковых факторов, ведущих империю к краху. Война могла
сплотить подданных империи, пробудить дух внесословной гражданственно-
сти и подтолкнуть тем самым совершенствование социально-хозяйственного
организма. Более того, многим - вполне в духе времени - ситуация каза-
лась оптимистичной. Даже специалисты надеялись на способность государства
57
Яси О. Распад Габсбургской монархии. М., 2011. С. 533-534.
58
Цит. по: Шеремет В.И. Босфор: Россия и Турция в период Первой мировой войны. По
документам военной разведки. М., 2007. С. 54.
59
Некоторые авторы отрицают саму возможность тотальной войны. См.: Фёстер С. Тотальная
война. Концептуальные размышления к историческому анализу структур эпохи 1861-1945 гг. //
Опыт мировых войн в истории России. Челябинск, 2007. С. 24.
60
Жувенель Б., де. Власть: Естественная история её возрастания. М., 2011. С. 32.
61
Шацилло К.Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. М., 2000. С. 8-12.
105
к стабилизации финансов, на независимость страны от импорта сырья, на обе-
спеченность города и фронта рабочей и военной силой за счёт перенаселённой
деревни и на удешевление продовольствия в силу свёртывания экспорта хле-
ба. На деле будущая ситуация зависела от гибкостей хозяйственной системы,
прежде всего от возможностей её инфраструктуры и от способности верхов
к управлению в экстремальных ситуациях. Но для этого требовалась известная
степень взаимного доверия между верхами и низами, а равно и внутри них.
Возможности достижения этого были, однако, сомнительны.
Применительно к истории России нет источника более коварного, чем
статистика, легкомысленно игнорирующая человеческое измерение прошлого
и настоящего. Тем не менее на её основании не раз строились ложные футу-
ристические прогнозы и легкомысленные историографические конструкции.
Между тем даже из бюрократической статистики можно уловить, что представ-
ления о великом будущем самодержавной империи строились на песке. В на-
чале ХХ в. неуклонно сокращался хлебный экспорт, Россия уступила мировое
первенство в производстве зерна США. Рост урожайности стал отставать от
темпов прироста народонаселения, а душевое потребление такого важного про-
дукта, как мясо, снижалось. Денежные доходы россиянина были ниже средне-
европейского в 3-5 раз, а внутри страны доход рабочего превышал доход сель-
ского жителя почти в 2,5 раза. Разумеется, Россия отнюдь не голодала (хотя
региональные голодовки не исключались). Однако существовавшие «ножницы
цен» на «городскую» и «сельскую» продукцию таили в себе социальный кон-
фликт между городом и деревней62. Если в Аргентине, США, Канаде (ведущих
хлебовывозящих странах) после экспорта оставалось в среднем 60 пудов на
душу населения, то в России - вдвое меньше. Однако статистики, а за ними
и историки, редко учитывают тревожный характер подобных тенденций.
Обычно предпочтение отдаётся иным показателям. Так, до сих пор кажется
убедительным статистический обзор российской экономики, подготовленный
перед войной Э. Тэри по заданию французского правительства. Однако само
происхождение документа позволяет усомниться в адекватности приводимых
в нём показателей тогдашним реалиям. Не учитывается, например, что фран-
цузская сторона предпочитала видеть в России экономически сильного союз-
ника, а потому готова была принять на веру плоды ведомственного усердия
российских чиновников63. Последним подыгрывали известные экономисты.
Так, профессор П.П. Мигулин утверждал, что «в смысле продовольствования
армий Россия в наиболее благоприятном положении, чем любая европейская
держава: мы не привозим, а вывозим продукты питания». Поэтому он счи-
тал, что «закрытие вывоза из России - уже удар для Германии», которой (при
присоединении к продовольственной блокаде Англии) «грозит голод», а также
«полное разорение германской промышленности», ибо она «работает главным
образом на вывоз». А за разгромом промышленности неминуемо последует «де-
нежное разорение». Нет ничего опаснее надежд на победу, исходящих из слабо-
стей противника, а не из собственной силы. Не стоило впадать и в патриоти-
ческий «оптимизм». Между тем Мигулин заявлял: «Преуменьшать свои силы
62
См.: Gregory P. Russian National Income, 1885-1913. Cambridge; L.; N.Y., 1982. P. 131, 156,
166; Россия, 1913 год. Статистико-документальный справочник. СПб., 1995. С. 308, 309, 311; Анфи-
мов А.М. Царствование императора Николая II в цифрах и фактах (опыт подтверждения и опровер-
жения) // Из истории экономической мысли и народного хозяйства России. Ч. 1. М., 1993.
63
Тэри Э. Россия в 1914 г.: Экономический обзор. Париж, 1986. С. 8-9.
106
[и] преувеличивать силы противника - самоуничижение, продукт трусости.
Побольше бодрости духа, побольше веры в свой народ и его силы»64. Преуве-
личенным представлениям о предвоенной мощи России способствовала и чис-
ленность её людских ресурсов.
Историки склонны следовать за реальными или мнимыми победителями
(это делает их труды не только «понятнее», но и «патриотичнее») и назначать
«виновников» побед, не считаясь с мнениями побеждённых. Между тем для тех
и для других характерны самообольщения и самоутешения. Из этого следует,
что истина скорее обнаружится в принципиально ином измерении, остаётся
лишь преодолеть привычный скепсис.
Первая мировая война возникла в условиях информационной революции,
обрушившейся на «помолодевшие» в результате демографического бума мас-
сы людей. В результате урбанизации и усиления миграций возник гендерный
перекос, поднявший градус агрессивности в новообразующихся социумах.
Произошёл разлив ресентиментных настроений, противоречивых вожделений
и социальных фантазий, взвинтивших людскую психику. Рациональность эпо-
хи Просвещения померкла под давлением пробудившихся первозданных эмо-
ций. Человечество столкнулось с феноменом гиперсемиотизации: в условиях
моральной паники случайные и разрозненные факты противоречивой действи-
тельности стали восприниматься как отчётливые «знаки судьбы». Под «неви-
димым» давлением масс правители решались на действия, прежде считавшиеся
неоправданными. В сущности, именно такое состояние умов терзало «просве-
щённую» Европу на протяжении всей первой половины ХХ в.
Помимо всего, ни идеологами, ни политиками, ни даже военными начала
ХХ в. не принимался в расчёт малозаметный фактор, способный незримо лечь
на чашу весов в европейской войне. Имеются в виду фактор технологий в са-
мом широком смысле слова - от технологий массового производства новей-
ших вооружений до «технологий» управления общественным пространством,
вплоть до умения вдохновить на подвиг (или, хотя бы, долготерпение) «малень-
кого человека». На практическом уровне речь шла о способности государствен-
ных и общественных структур воспользоваться плодами научно-технического
прогресса для достижения военной победы. При всей видимой когнитивной
оснащённости современной историографии этот фактор ускользнул от внима-
ния исследователей.
Мы живём в «комфортном», хотя и неспокойном мире. Однако для того
чтобы понять иной мир, надо прочувствовать, в известной степени пере-
жить, его боль. Но способен ли на это современный человек? Очевидно, что
излишняя «цифровизация» и соответствующая «социологизация» прошлого
в ущерб «человеческой» истории лишь уведёт от смыслов прошлого. Ещё до
Первой мировой войны звучали упрёки в адрес тех, кто «целиком перенёс
в область истории научные методы, заимствованные из наук, не являющихся
историческими», что вело к «мумификации реальности»65. Уже тогда у мно-
гих зародилось понимание того, что привычные пути осмысления мировой
катастрофы становятся бесплодными. В связи с этим и возникла идея вза-
имосвязанности «высокой цены» войны и попыток найти выход на путях
мировой революции.
64
Мигулин П.П. Возрождение России. Харьков, 1910. С. 325, 327.
65
Пеги Ш. Избранное: Проза. Мистерии. Поэзия. М., 2006. С. 46, 135.
107
Конечно, в начале войны превалировали иные представления. В сентябре
1914 г. в частной переписке можно было встретить такие мнения: «Начина-
ется какая-то совсем новая глава в истории России и… сила вещей двинет
её на новую дорогу»66. Но какую? Мировая война была слишком масштаб-
ным событием; её приближение современники могли ощутить, но последствия
невозможно было предугадать. «Война и революция до сих пор составляют
две центральные темы политической жизни ХХ века, - отмечала ещё в 1963 г.
Х. Арендт. - Эти события пережили свои идеологические основания»67. Ход
истории раскручивается отнюдь не по тем законам, по которым движется «ди-
алектическая» человеческая мысль, предпочитающая эволюционное развитие.
Отсюда феномен «предательства интеллектуалов», подгоняющих действитель-
ность под свои умозрительные теории68. Рано или поздно подобные установки
предстоит преодолеть.
В своё время Э. Хобсбаум задался вопросом: «Почему талантливые дизай-
неры, явно не отличающиеся склонностью к анализу, иногда могут предугадать
форму вещей завтрашнего дня лучше, чем профессиональные аналитики?»69.
По его мнению, это «один из самых неясных вопросов истории». Представля-
ется, что нужно отталкиваться от эмоциональной природы человека, для по-
нимания динамики которой не придумано ничего лучшего, кроме литературы
и искусства. Именно они умеют проникать в «коллективное бессознательное»
эпохи, тогда как наука в силу своей позитивистской праосновы расчленяет
их. В любом случае, с помощью «рациональных» симулякров культуры XIX в.
невозможно проникнуть в «иррациональную» суть турбулентных периодов по-
следующей истории. Нелепо с помощью причинно-следственной методологии
анализировать стохастически-синергетические процессы.
Так или иначе, к настоящему моменту очевидны как достижения, так
и слабости подхода к осмыслению природы мировой войны. Предпочтение всё
ещё отдаётся политической истории, в которой центральное место занимают
преемственные мнения представителей власти. Между тем ни одну проблему
нельзя решить на том уровне, на котором она возникла. История - это всегда
«внутренняя» история человека, а не повторение самооценок бесславно ушед-
ших элит.
66
ГА РФ, ф. 102, оп. 265, д. 990, л. 933.
67
Арендт Х. О революции. М., 2011. С. 5.
68
Бенда Ж. Предательство интеллектуалов. М., 2009.
69
Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: короткий двадцатый век (1914-1991). М., 2004. С. 195.
108