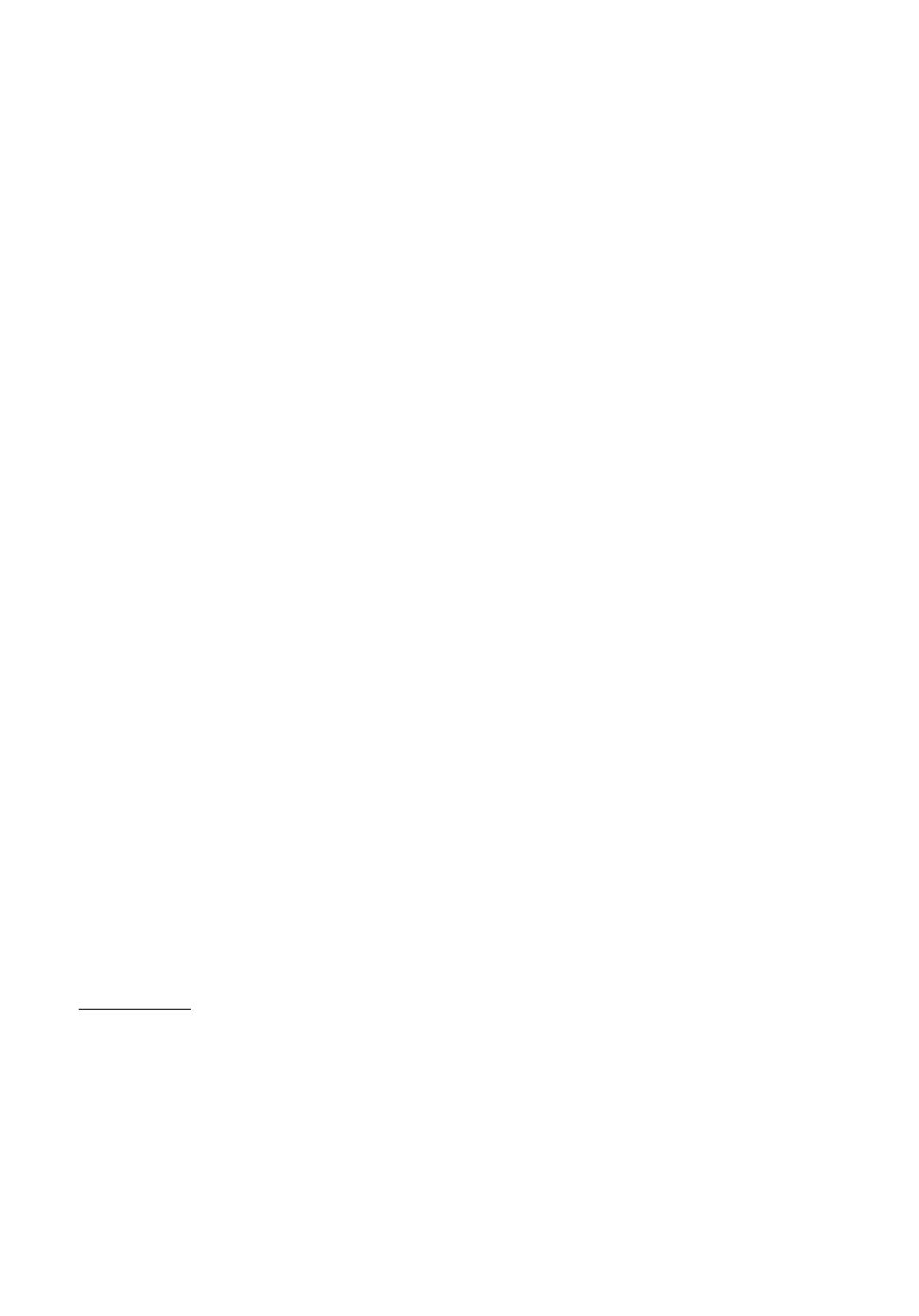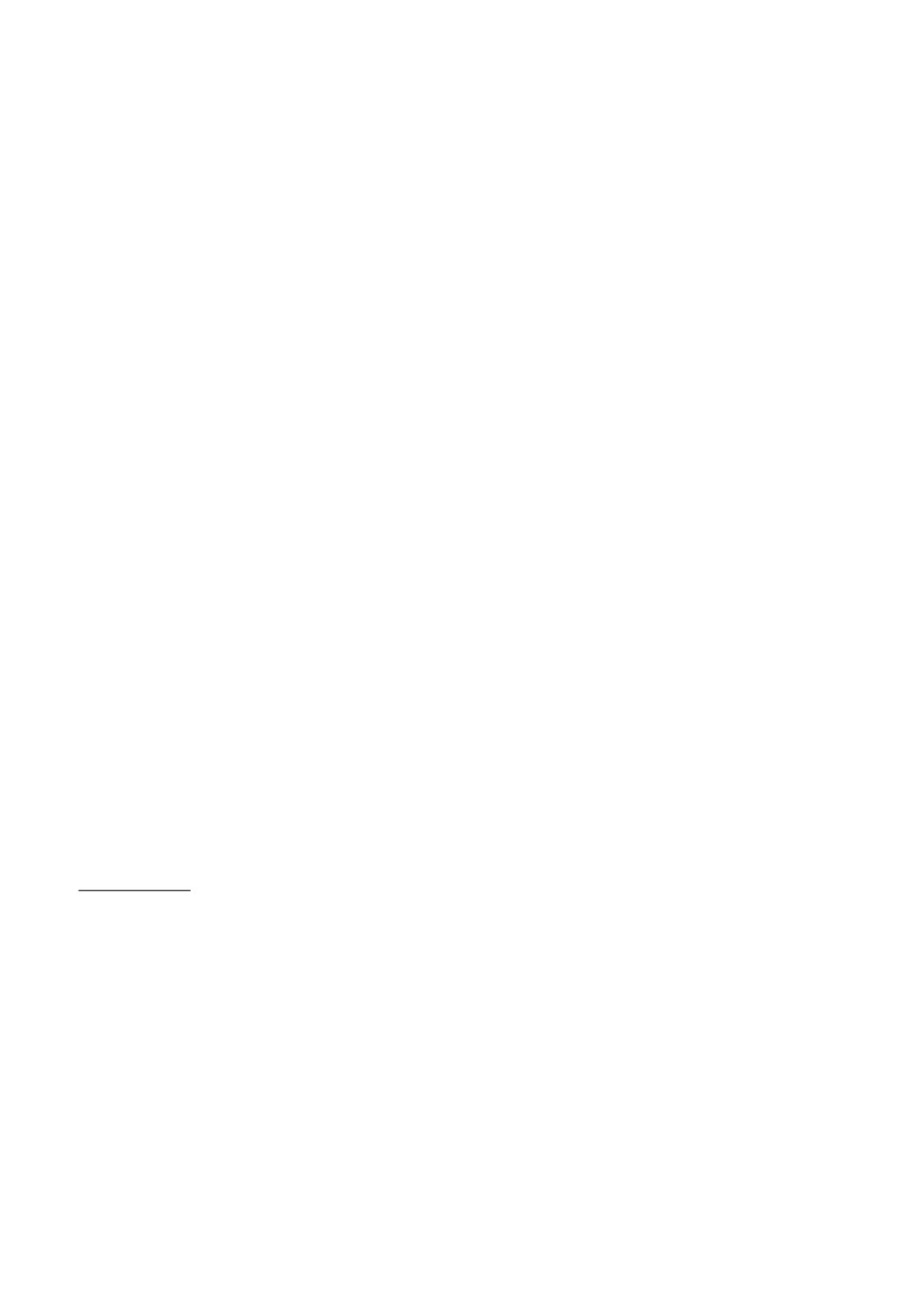Советский тыл в годы Великой Отечественной войны.
Исследования о характере и эволюции
мобилизационной системы
Олег Хлевнюк
The Soviet home front during the Great Patriotic War.
Research on the nature and evolution
of the mobilization system
Oleg Khlevniuk
(HSE University, Moscow, Russia)
DOI: 10.31857/S0869568722030098, EDN: FWZFJV
Данный обзор не претендует на систематическое освещение значительной
и динамично развивающейся историографии советского тыла в годы Великой
Отечественной войны1. Его задача заключается в том, чтобы зафиксировать
некоторые новые её аспекты, которые позволяют изучать феномен предельного
состояния советской мобилизационной системы2. Нацеленная на сверхвысокое
использование ресурсов страны в интересах фронта, предельная мобилизация
порождала многочисленные противоречия, требовавшие оперативного разре-
шения. По этой причине её неотъемлемой чертой стал комплекс корректи-
ровок частного и принципиального характера, которым система подвергалась
сознательно (сверху) или стихийно (снизу). Именно в таком изменённом со-
стоянии, повышавшем её действенность, она обеспечила победу в войне и ока-
зала значительное влияние на последующую эволюцию СССР.
Обращение к истории советского тыла как составной части изменения
модели развития в военный период - характерная черта современной исто-
риографии. Такой подход лежит в основе нового обобщающего труда, под-
готовленного двумя специалистами, имеющими общепризнанные достижения
в исследованиях социально-экономической истории советского периода в це-
лом и Великой Отечественной войны в частности, и отражающего современ-
ные достижения историографии вопроса3. Публикация этой значительной ра-
боты побудила меня к подготовке данного обзора.
© 2022 г. О.В. Хлевнюк
Статья подготовлена в рамках программы фундаментальных исследований Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики».
This article was prepared within the framework of the HSE University Basic Research Program.
1
В связи с этим в ссылках приводятся лишь некоторые характерные исследования, отра-
жающие тематическое и региональное многообразие. Многие достойные работы по причине их
большого количества в рамках короткого обзора нет возможности даже назвать.
2
О феномене мобилизационного развития см.: Гончаров Г.А., Баканов С.А., Гришина Н.В.,
Пасс А.А., Фокин А.А. Мобилизационная модель развития российского общества в XX веке. Че-
лябинск, 2013. В связи с кризисным состоянием промысловой кооперации в годы войны Пасс
поставил проблему «сверхмобилизационного эффекта» (Пасс А.А. К вопросу о пределах советской
мобилизационной экономики 1941-1945 годов: региональный аспект // Вестник Челябинского
государственного университета. Сер. 1. История. 2008. Вып. 27. № 34. С. 71-84).
3
Goldman W.Z., Filtzer D. Fortress dark and stern: the Soviet home front during World War II. N.Y.,
2021. Широко известны другие работы этих авторов, из которых постепенно вырастал данный труд:
122
Традиционно в рамках проблематики советского тыла рассматриваются
такие темы, как эвакуация, экономическое развитие, начало восстановления
освобождённых территорий, регулирование трудовой сферы и подготовка кад-
ров, быт и уровень жизни населения, пропаганда и массовые настроения и т.д.4
В историографии последнего времени не просто расширяется список тем, но
углубляется анализ каждой из них. Происходит это на основании новых источ-
ников, прежде всего архивных. Книга В. Голдман и Д. Фильцера - как раз из
таковых. В её основе, помимо тщательного обобщения результатов исследова-
ний предшественников, лежит значительный комплекс новых документов, вы-
явленных в течение длительных поисков в фондах партийно-государственных
структур военного периода. Активно использованы также различные источни-
ки личного происхождения. Благодаря этому авторы перенесли акцент иссле-
дования с институционально-структурных аспектов проблемы на особенности
подготовки и реализации директив, результаты работы многочисленных моби-
лизационных механизмов.
Такой подход применяется исследователями всё шире. Его возможности
демонстрирует уже первая глава книги, посвящённая эвакуации. Уникальное
по масштабам и темпам спасение миллионов людей и материальных ценностей
от быстро наступающего врага - важнейшее явление начального этапа вой-
ны, которое в значительной мере заложило основы будущей победы. Историо-
графия эвакуации прошла те же этапы, что и историография других аспектов
советского тыла. Она начиналась с изучения директивных документов, введе-
ния в оборот некоторых отчётных данных5. В последние десятилетия на осно-
ве новых архивных материалов происходил важный поворот к исследованию
практик эвакуации, её экономических и социальных аспектов. В соответствии
с общим социально-культурным поворотом гуманитарных исследований изу-
чались условия жизни и судьбы эвакуированных, их взаимодействие с населе-
нием восточных регионов страны, культурные обмены и т.д.6
Filtzer D. The hazards of urban life in late Stalinist Russia. Health, hygiene, and living standards, 1943-
1953. Cambridge, 2010 (Фильцер Д. Опасности городской жизни в СССР в период позднего стали-
низма. Здоровье, гигиена и условия жизни. 1943-1953. М., 2018); Hunger and war: food provisioning
in the Soviet Union during World War II / Ed. by W.Z. Goldman, D. Filtzer. Bloomington, 2015.
4
Barber J., Harrison M. The Soviet home front, 1941-1945: a social and economic history of the
USSR in World War II. L.; N.Y., 1991; Война и общество. 1941-1945. В 2 кн. / Отв. ред. Г.Н. Сево-
стьянов. М., 2004; Народ и война: очерки истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. /
Отв. ред. А.Н. Сахаров, А.С. Сенявский. М., 2010; Великая Отечественная война 1941-1945 годов.
В 12 т. Т. 10. Государство, общество и война / Рук. авт. колл. С.В. Журавлёв. М., 2014; Зинич М.С.
Повседневная жизнь народа в годы Великой Отечественной войны. М., 2019; Советский тыл,
1941-1945: повседневная жизнь в годы войны / Сост. Б. Физелер, Р.Д. Марквик. М., 2019; Крин-
ко Е.Ф., Тажидинова И.Г., Хлынина Т.П. Повседневный мир советского человека 1920-1940-х гг.:
жизнь в условиях социальных трансформаций. Ростов н/Д, 2011.
5
См.: Куманёв Г.А. Война и эвакуация в СССР. 1941-1942 годы // Новая и новейшая исто-
рия. 2006. № 6. С. 7-27.
6
Потёмкина М.Н. Эвакуация в годы Великой Отечественной войны на Урале: люди и судьбы.
Магнитогорск, 2002; Manley R. To the Tashkent station: evacuation and survival in the Soviet Union at
war. Ithaca, 2009; Holmes L. Stalin’s World War II evacuations: triumph and troubles in Kirov. Lawrence,
2017; Мозохин О.Б. Эвакуация населения, объектов промышленности и культурных ценностей из
прифронтовой зоны в годы Великой Отечественной войны // Журнал российских и восточноевро-
пейских исторических исследований. 2018. № 1. С. 20-38; Потёмкина М.Н., Климанов А.Ю. Совре-
менная отечественная историография и перспективы изучения промышленной эвакуации периода
Великой Отечественной войны // Новейшая история России. 2020. Т. 10. № 3. С. 757-772.
123
Вместе с тем массовая эвакуация оказалась важной частью советской моби-
лизационной системы, определила многие её характерные черты. Бытовавший
ранее акцент на централизованно-организованный характер эвакуации, прио-
ритетное обращение к деятельности Совета по эвакуации и других аналогичных
институтов сейчас явно недостаточны для понимания сути этого явления. Как
показано в литературе, в том числе в рассматриваемой книге, отход в тыл во
многих случаях происходил в условиях паники и сопровождался значительны-
ми потерями. До сих пор нет общепризнанной количественной и качественной
оценки эвакуированных ресурсов. Голдман и Фильцер использовали предвари-
тельные оценки историков советской экономики, сделанные много лет назад.
Согласно им, из зон, попавших под оккупацию, удалось эвакуировать порядка
37% промышленных мощностей7. В тех условиях это немало. Кроме того, необ-
ходимо учитывать, что удельный вес спасённых военных заводов мог быть ещё
выше в силу приоритетности их эвакуации. Все эти вопросы, однако, требуют
дальнейших исследований.
Перемещение предприятий на Восток и их освоение на новом месте тре-
бовали существенной реорганизации производства, слияния заводов и их пе-
репрофилирования, причём в экстремально сложных условиях и в кратчайшие
сроки8. Подобные задачи не могли решаться лишь распоряжениями сверху.
Как свидетельствуют многочисленные факты, эвакуация неизбежно оказалась
как централизованным, так и центробежным процессом, значительную роль
в успехе которого играли делегирование полномочий и инициатива низовых
исполнителей. Характерный пример - регулирование «бездокументных гру-
зов», накапливавшихся в результате экстренного массового вывоза ресурсов.
Не имевшие пунктов назначения и применения, они в большом количестве
передвигались с Запада на Восток. Уже 15 июля 1941 г. СНК СССР принял
постановление о создании баз для их разгрузки и хранения9. Установленный
постановлением правительства от 20 сентября порядок реализации этих ма-
териальных ценностей предполагал самостоятельность региональных властей
и отраслевых ведомств в их использовании10. Этот неисследованный механизм
регулирования (наряду с другими аналогичными явлениями) показывает, что
эвакуация привела к вынужденной децентрализации процесса распределения
ресурсов, повышения в нём роли низовых структур управления, оказалась
«противоречивой смесью планирования и импровизации, своевременной от-
правки и лихорадочных погрузок в последнюю минуту. Процесс, опиравшийся
на централизованные команды и сложную координацию, но в то же время на
решительность и инициативу работников и местных активистов, был вряд ли
совершенным, но он действовал»11.
Эта характеристика вполне применима и к другим звеньям советской
военно-мобилизационной системы. Как показывают исследования, формаль-
7
Goldman W. Z., Filtzer D. Op. cit. Р. 12.
8
Особенно подробно эти процессы изучались на материале оборонных отраслей промышлен-
ности. См., например: Симонов Н.С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920-1950-е годы:
темпы экономического роста, структура, организация производства и управление. М., 1996;
Мухин М.Ю. Советская авиапромышленность в годы Великой Отечественной войны. М., 2011;
Мельников Н.Н. Танковая промышленность СССР в годы Великой Отечественной войны. М., 2019.
9
ГА РФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 194, л. 393-395.
10
Там же, оп. 106, д. 26, л. 64-67.
11
Goldman W.Z., Filtzer D. Op. cit. Р. 56.
124
ная и фактическая автономизация руководства экономикой приобретала всё
большее значение в деле корректировки централизованного планирования.
Важную роль посредников и координаторов взаимодействия ведомств играли
региональные власти, либо получавшие дополнительные полномочия от цен-
тра, либо бравшие их самостоятельно для выполнения всё нараставших зада-
ний военного производства12.
Столь же сложный, многослойный характер имела система нормирования
снабжения населения продовольствием и промышленными товарами, играв-
шая ключевую роль в мобилизации ресурсов на военные нужды. Введённая
уже в первые месяцы войны, она опиралась на опыт карточного распределения
1930-х гг.13 На пике распространения нормированное снабжение охватывало
подавляющее большинство населения страны (кроме крестьян, которые тради-
ционно должны были кормить себя сами). Хлебные карточки в конце 1942 г.
получали около 62 млн человек, а к концу 1945 г. - 80,6 млн14. Авторы отме-
чают принципиальное значение нормирования как стабилизатора социально--
экономической ситуации в условиях острого дефицита ресурсов. Наличие кар-
точек, несмотря на перебои в их реальном обеспечении, позволяло государству
поддерживать приоритеты развития военной экономики за счёт невоенных от-
раслей и социальной сферы. При этом даже относительно гарантированный
минимум снабжения выступал для населения важным и понятным способом
приобретения продовольствия (прежде всего хлеба), вселял надежды на ста-
бильность государственной системы в экстремальных условиях.
Изучение этих аспектов нормирования как инструмента мобилизации не
отрицает, однако, важности понимания механизмов распределения продоволь-
ствия и промышленных товаров. Голдман и Фильцер сосредоточили внимание
на этом недостаточно исследованном вопросе15 и показали, что карточная си-
стема как метод централизованного управления государственными фондами
существенно корректировалась низовыми практиками, выходившими за рамки
формальных предписаний. В условиях дефицита ресурсов местные админи-
страторы нередко перераспределяли карточки и обеды в заводских столовых,
исходя из собственного понимания целесообразности. Дополнительные воз-
12
Данилов В.Н. Советское государство в Великой Отечественной войне: феномен чрезвычай-
ных органов власти, 1941-1945 гг. Саратов, 2002; Коновалов А.Б. История Кемеровской области
в биографиях партийных руководителей (1943-1991). Кемерово, 2004; Gorlizki Y. Governing the
interior. Extraordinary forms of rule and the regional party apparatus in the Second World War // Cahiers
du Monde Russe. 2011. № 52. Р. 321-339; Репников Д.В. Институт уполномоченных ГКО: функции
и положение в системе органов государственной власти и управления СССР периода Великой От-
ечественной войны // Вестник Поморского университета. Сер. Гуманитарные и социальные науки.
2008. № 11. С. 56-59; Khlevniuk О. Decentralizing dictatorship: Soviet local governance during World
War II // Russian Review. 2018. № 77. Р. 455-469; Хлевнюк О.В. Советские наркоматы и децентра-
лизация управления экономикой в годы Великой Отечественной войны // Российская история.
2018. № 4. С. 58-72; Болдовский К.А. Актуальные вопросы исследований управленческих кадров
Ленинграда периода обороны и блокады города // Петербургский исторический журнал. 2019. № 3.
С. 110-116.
13
Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия»: распределение и рынок в снабжении
населения в годы индустриализации. 1927-1941. М., 2008.
14
Goldman W.Z., Filtzer D. Op. cit. Р. 106.
15
Одним из важных исключений является значительная историография блокады Ленинграда:
Ломагин Н.А. Неизвестная блокада. Кн. 1-2. СПб., 2004; Соболев Г.Л. Ленинград в борьбе за выжи-
вание в блокаде. Кн. 1-3. СПб., 2013-2017; Ходяков М.В. Иерархия продовольственного снабжения
в блокадном Ленинграде // Российская история. 2019. № 3. С. 163-166; и др.
125
можности за счёт общего котла получали партийно-советские и хозяйственные
работники. На довольствие ставились те слои населения, которые по разным
причинам не получали достаточных пайков и находились на грани голода. Часто
такие действия делали нормирование более гибким, приспособленным к реа-
лиям жизни. Вместе с тем грань между позитивными «перебросками» фондов
и злоупотреблениями оказывалась тонкой. Широко распространились «само-
снабжение» руководителей различных уровней, их достаточно щедрое полуле-
гальное обеспечение за счёт других потребителей. Отрицательным следствием
таких действий явился рост общественного недовольства. Стоит отметить, что
эти вопросы, позволяющие понять характер мобилизационной системы че-
рез изучение её разных компонентов, привлекают внимание и отечественных
исследователей16.
Частным случаем нарушения монополии государства на основную часть
фондов продовольствия и промышленных товаров выступали многократные
хищения в аппарате карточного распределения и торговле. В последние годы
эта тема изучается на основе более широкого круга источников17. Многочис-
ленные примеры свидетельствуют о значительных масштабах «чёрного рынка»,
хотя и не позволяют определить общие объёмы оборота похищенных ресур-
сов. Голдман и Фильцер показывают, что преступления в сфере распределения
понижали уровень потребления основной массы рядовых граждан, усугубля-
ли дефицит18. Этот тезис выглядит убедительным, хотя и требует дальнейшего
обоснования.
Вместе с тем, даже если бы система нормированного распределения рабо-
тала без сбоев и злоупотреблений, она всё равно не смогла бы обеспечить пол-
ноценный уровень потребления. К концу войны он снизился на 40% по срав-
нению с неблагополучными предвоенными годами. Из этого полуголодного
пайка, по расчётам авторов, государство могло обеспечить около трёх четвертей
необходимых калорий19. Эти данные, как и любые обобщающие оценки, не ох-
ватывают всю сложность повседневной жизни. Наиболее очевидный разрыв -
между нормативным и реальным обеспечением при карточном снабжении.
Резкое ухудшение материального положения заставляло встраивать в моби-
лизационную систему, представленную прежде всего государственным снабже-
нием, своеобразные инородные элементы. Вопреки идеологическим предубе-
ждениям против частной хозяйственной деятельности, в годы войны всё более
значительную роль играли личные хозяйства колхозников и огороды горожан.
16
Твердюкова Е.Д. «Немедленно отменить все незаконные формы снабжения»: обеспечение
советской региональной номенклатуры товарами широкого потребления (1943-1947 гг.) // Труды
исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2015. Т. 21. С. 254-271; Твердюко-
ва Е.Д. Борьба со злоупотреблениями в сфере карточного снабжения населения в СССР. 1941-
1947 гг. // Вестник СПбГУ. Сер. 2. История. 2010. Вып. 2. С. 32-41; Шалак А.В. Карточная система
распределения как источник социальной напряжённости: 1941-1947 гг. (на примере Восточной
Сибири) // Иркутский историко-экономический ежегодник: 2001. Иркутск, 2001. С. 39-49.
17
Орлов И.Б. Советская повседневность. Исторический и социологический аспекты станов-
ления. М., 2008; Пушкарёв В.С. «Чёрный рынок» в СССР в годы Великой Отечественной войны
и его влияние на состояние внутреннего рынка страны // Экономический журнал. 2008. № 2.
С. 212-225; Пасс А.А. Русскоязычная историография об экономической преступности в СССР
в годы Великой Отечественной войны // Гуманитарно-педагогические исследования. 2019. Т. 3.
№ 3. С. 26-45.
18
Goldman W.Z., Filtzer D. Op. cit. Р. 129, 130, 143-148.
19
Ibid. P. 99, 100.
126
Наблюдался рост частной инициативы и в сфере производства ширпотреба
и услуг, причём настолько значительный, что сразу после войны руководители
финансовых органов предложили провести легализацию этого рынка с целью
увеличения налоговых поступлений20. Колхозные рынки, на которых прода-
валась или обменивалась часть продукции личных хозяйств, давали важную
прибавку к калорийности среднего рациона и отчасти восполняли дефицит
одежды, обуви и необходимых в быту изделий. Отмечу, что вопросы взаимо-
действия централизованного снабжения и свободного рынка, частной инициа-
тивы в сфере потребления представляют собой важную часть советской модели
мобилизации и требуют дальнейшего исследования.
В целом ни использование различных внутренних ресурсов, ни продоволь-
ственная помощь союзников не могли в необходимой мере обеспечить стра-
ну. Главную проблему создало, прежде всего, обострение кризиса в сельском
хозяйстве. Как бы ни рассматривались соответствующие вопросы - с точки
зрения добровольной жертвенности усилий крестьянства или его беспощадной
эксплуатации государством, - резкое падение сельскохозяйственного произ-
водства в годы войны - общепризнанный факт21. Как показывают многочис-
ленные свидетельства и документы, ставшие доступными в архивах, в годы
войны широкое распространение получили голод и повышенная смертность,
вызванная истощением и болезнями.
Общее снижение уровня жизни существенно ограничивало возможности
экономического стимулирования трудовой деятельности и воспроизводства ра-
бочей силы. Заработная плата и условия труда и быта часто не могли удержать
работников на том или ином предприятии, что потенциально повышало угрозу
текучки кадров. Подобное уже наблюдалось в период довоенного индустриаль-
ного скачка, сопровождавшегося голодом. В силу этого чрезвычайно широкое
распространение получили внеэкономические методы как стимулирования, так
и принуждения к труду, которые рассматриваются сейчас в качестве комплекс-
ного явления22.
На протяжении десятилетий основное внимание советские историки уде-
ляли вопросам патриотических трудовых движений, социалистического со-
ревнования и моральных стимулов, подготовки квалифицированных кадров
и рабочих массовых профессий и т.д.23 Выполненные в ярко выраженном иде-
ологическом ключе, такие исследования оказались скомпрометированы после
открытия архивов и ослабления цензурного контроля. Но это не означает, что
названные проблемы утратили значение. Представляя весомую часть набора
трудовых мотиваций в мобилизационной системе, они требуют дальнейшего
20
Hessler J. A social history of Soviet trade policy, retail practices and consumption, 1917-1953.
Princeton, 2004; Чуднов И.А., Осипов В.А. К 60-летию несостоявшейся налоговой реформы // ЭКО.
2008. № 9. С. 166-175.
21
Анисков В.Т. Крестьянство против фашизма, 1941-1945: история и психология подвига.
М., 2003; Вылцан М.А., Кондрашин В.В. Патриотизм крестьянства // Война и общество. 1941-1945.
Кн. 2. М., 2004. С. 50-77; Корнилов Г.Е. Бедность как образ жизни: уральская деревня в военные
и послевоенные годы (1941-1953) // Уральский исторический вестник. 2013. № 3. С. 91-98; Андре-
енков С.Н., Ильиных В.А. Сельское хозяйство Сибири в 1941-1945 гг.: динамика и организационно--
производственная структура // Гуманитарные науки в Сибири. 2020. № 4. С. 5-12.
22
Сомов В.А. Потому что была война… Внеэкономические факторы трудовой мотивации
в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Н. Новгород, 2008.
23
См., например: Митрофанова А.В. Рабочий класс СССР в годы Великой Отечественной
войны. М., 1971.
127
изучения. Проблема, как и в других случаях, заключается в степени деформа-
лизации таких исследований, в отходе от клише и описательности. Очевидно,
например, что различные виды соревнования заслуживают внимания как метод
организации труда, элемент социальной организации предприятий, взаимодей-
ствия различных групп рабочих и инженеров, трудовых коллективов и админи-
страции, социальных лифтов для молодых рабочих, заполнивших предприятия
в годы войны, и т.д.24 Однако понять и оценить эти явления без обращения
к реальным фактам невозможно.
Открытие архивов стимулировало рост интереса к вопросам государствен-
ной мобилизации трудовых ресурсов. Являясь краеугольным камнем любой
военно-мобилизационной системы, в СССР она имела уникальное значение.
Как отмечают Голдман и Фильцер, «никогда подобного контроля над рабочей
силой не существовало ни в Советском Союзе, ни в другой стране во времена
мира или войны»25. Действительно, трудовая мобилизация фактически была
всеобщей, нередко охватывала даже те слои населения, которые невозможно
использовать в заявленных целях на производстве. В историографии изучаются
каналы привлечения и перераспределения рабочей силы и регулирования тру-
довых повинностей26. Однако не все сюжеты исследуются равномерно. Пока
лучше известны формальные предписания и общие показатели распределения
рабочей силы. Хуже изучены реалии трудовых мобилизаций, их последствия.
Работа Голдман и Фильцера вносит вклад в заполнение этих пробелов.
Особый интерес представляет глава о централизованном управлении трудо-
выми ресурсами, построенная на документах Комитета по учёту и распреде-
лению рабочей силы при СНК СССР. Сопоставление решений и результатов
их реализации, изучение взаимодействия Комитета с различными ведомствами
показали, что централизованные механизмы мобилизации подверглись эрозии
и на завершающем этапе войны оказались в состоянии кризиса. Трудовые ре-
сурсы страны были практически исчерпаны. Попытки удовлетворить растущие
запросы промышленности за счёт крестьянского населения встречали противо-
действие со стороны обезлюдевшей деревни и местных властей. Планы переме-
щения людей по отраслям и регионам значительно недовыполнялись. Наблю-
дались нерациональные встречные обмены рабочей силой между регионами.
В ответ на сбои включались стихийные неформальные регуляторы, например,
договорённости о распределении кадров между ведомствами, предприятиями
и регионами. «В системе трудовой мобилизации, одном из самых мощных ви-
дов оружия, закончились человеческие боеприпасы», а это вело к тому, что
она становилась «всё более хаотичной»27. Но, можно добавить, одновременно
и более реалистичной и действенной.
24
Савицкий И.М., Романов Р.Е. Рабочие, инженеры и техники оборонной промышленности
Западной Сибири - фронту (1941-1945). Новосибирск, 2014; Романов Р.Е. Женщины и молодёжь
в промышленности советского тыла (1941-1945 гг.): феномен «коротких» социальных лифтов //
Вестник Томского государственного университета. 2016. № 412. С. 106-113.
25
Goldman W.Z., Filtzer D. Op. cit. Р. 6.
26
Земсков В.Н. Организация рабочей силы и ужесточение трудового законодательства в годы
Великой Отечественной войны // Международные отношения. 2014. № 1. С. 101-114; Романов Р.Е.
Трудовая мобильность и рынок рабочей силы в СССР в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945) // ЭКО. 2016. № 1. С. 176-188; Безнин М.А., Димони Т.М., Изюмова Л.В. Повинности
российского крестьянства в 1930-1960-х годах. Вологда, 2001.
27
Goldman W.Z., Filtzer D. Op. cit. Р. 218, 222.
128
Важное средство консолидации трудового фронта - принятие и реализа-
ция чрезвычайного трудового законодательства28. Особое внимание исследо-
вателей привлекают известные указы Президиума Верховного совета СССР от
26 июня 1940 г. и 26 декабря 1941 г., предусматривавшие уголовные наказания
за опоздания и самовольный уход с предприятий. Начав с анализа этих законо-
дательных актов и исследования судебной статистики, отражающей масштабы
применения указов, историки сосредоточились на их применении. В итоге уда-
лось выявить характерные для советской мобилизационной системы противо-
речия. С одной стороны, в 1941-1945 гг. по названным указам и за нарушения
на транспорте вынесли около 7,7 млн приговоров29. Под удар, как следствие,
попала значительная часть рабочих и служащих.
С другой стороны, сфера применения указов постоянно сокращалась, на
каждом уровне наблюдалось торможение. Далеко не во всех случаях наруши-
тели дисциплины и «дезертиры с трудового фронта» привлекались к ответ-
ственности. Значительное количество возбуждённых дел отсеивалось на уровне
прокуратуры, а затем прекращалось в судебном порядке. Многие подсудимые
осуждались условно или по более мягким статьям. Наконец, в силу распро-
странения практики заочного рассмотрения судебных дел, несколько сотен
тысяч приговорённых не были разысканы и избежали наказания. Хозяйствен-
ные руководители в условиях острого дефицита рабочих рук, несмотря на ри-
ски, охотно принимали беглецов на работу или скрывали нарушителей от суда,
нередко находя поддержку со стороны местных органов власти. В результате
масштабы игнорирования «трудовых указов» оказались столь же значительны,
как и масштабы их применения30. В конце войны и сразу после её завершения
государство провело ряд амнистий осуждённых по «трудовым» делам. Таким
образом, в регулировании трудовой сферы явно обнаруживались пределы при-
менения чрезвычайных мер.
О наличии предельных значений в ужесточении мобилизационной системы
свидетельствовали также тенденции развития экономики ГУЛАГа как крайней
формы применения принудительного труда. Основные элементы этой системы
сохранялись с довоенного периода. По-прежнему заметную роль в качестве по-
ставщика рабочей силы играли лагеря и колонии НКВД. Высланных в период
коллективизации кулаков во время войны сменили депортированные по на-
циональному принципу. Их широко использовали на разных работах, в част-
ности в «трудовых колоннах»31. Как следствие, во время войны можно было
28
Соколов А.К. Принуждение к труду в советской экономике: 1930-е - середина 1950-х гг. //
ГУЛАГ: экономика принудительного труда / Отв. ред. Л.И. Бородкин и др. М., 2008. С. 17-66.
29
История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х - первая половина 1950-х годов. Собрание
документов в 7 т. Т. 1. Массовые репрессии в СССР / Сост. И.А. Зюзина. М., 2004. С. 624-625.
30
Кодинцев А.Я. Кампания по борьбе с «дезертирством» с предприятий военной промышлен-
ности СССР в 1941-1948 годах // Российская история. 2008. № 6. С. 101-107; Kragh М. Stalinist
labour coercion during World War II: an economic approach // Europe-Asia Studies. 2011. № 63.
Р. 1253-1273; Папков С.А. Обыкновенный террор. Политика сталинизма в Сибири. М., 2012;
Khlevniuk О. Deserters from the labor front. The limits of coercion in the Soviet War economy // Kritika:
Explorations in Russian and Eurasian history. 2019. № 20. Р. 481-504.
31
Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР. 1930-1960. М., 2003; Бикметов Р.С. Использова-
ние спецконтингента в экономике Кузбасса (1929-1956 гг.). Кемерово, 2009; Широков А.И. Даль-
строй в социально-экономическом развитии Северо-Востока СССР (1930-1950-е гг.). М., 2014;
Иванова Г.М. История ГУЛАГа. 1918-1958. М., 2015; Тряхов В.Н. ГУЛАГ и война. Пермь, 2005;
Bell W.T. Stalin’s Gulag at War: forced labour, mass death, and Soviet victory in the Second World War.
129
ожидать усиление роли и масштабов этого сектора экономики. Ряд решений,
принятых в первые дни войны, казалось, свидетельствовал именно в пользу
этого. Прекратилось освобождение заключённых, в лагерях ужесточился ре-
жим, усиливались репрессии32. Вместе с тем быстро стало ясно, что сохране-
ние, а тем более расширение огромной сети лагерей и колоний в чрезвычайных
условиях войны уже невозможны. Во-первых, изоляция более 2 млн человек,
в том числе бывших военнослужащих, противоречила потребностям восполне-
ния потерь армии и кадров народного хозяйства. Во-вторых, обычные пороки
лагерной системы в сочетании с сокращением продовольственных ресурсов
вызвали всплеск смертности. Только по официальным данным в лагерях, ко-
лониях и тюрьмах умерли более 1 млн заключённых33. Массовая смертность,
ухудшение физического состояния лагерной рабочей силы резко сокращали
возможности её использования. В-третьих, дальнейшее ужесточение режима
противоречило интересам экономики НКВД, поскольку вело к значительным
потерям при конвоировании заключённых на работах, ограничениям на заня-
тие ими административных должностей, требующих квалификации, и т.д.
В результате мобилизация ГУЛАГа как военного ресурса фактически про-
водилась посредством его частичного демонтажа. Вопреки первоначальным
установкам на ужесточение изоляции прошло массовое освобождение заклю-
чённых для направления в армию. Ещё более значительной оказалась «раз-
грузка» лагерей от инвалидов и нетрудоспособных34. На свободу вышла даже
часть «политических». Наконец, вынужденно нарушались режимные правила
в отношении заключённых. Это находило выражение в расконвоировании,
выводе за пределы зоны, разрешении занимать административные должности
и т.д.35 В среднем за год в лагерях, колониях и тюрьмах содержалось: в 1941 г. -
2,4 млн человек, а в 1946 г., после военных освобождений и послевоенной
амнистии, - 1,4 млн36. Судя по некоторым внутренним материалам НКВД,
его руководство рассматривало новую ситуацию в лагерях как обоснование
и предпосылку существенного изменения пенитенциарной системы в целом.
Она мыслилась как компактная сеть лагерей, в которых на производстве будут
заняты преимущественно работоспособные, получающие необходимое снабже-
ние37. В известной степени такие планы реанимировала смерть Сталина.
Эти и многие другие тенденции складывались в результате сложного вза-
имодействия центральных властей, исполнителей директив из прокуратуры
Toronto, 2018; Кириллов В.М. Принудительный труд в СССР: историографический аспект // Ураль-
ский исторический вестник. 2017. № 3. С. 81-90.
32
Органы государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны. Т. 2. Кн. 1 /
Сост. В.П. Ямпольский. М., 2000. С. 36-37.
33
Население России в ХХ веке. Исторические очерки. В 3 т. Т. 2. М., 2001. С. 195.
34
Alexopoulos G. Illness and inhumanity in Stalin’s Gulag. New Haven, 2017; Nakonechnyi M.
«Factory of invalids»: mortality, disability and early release on medical grounds in GULAG, 1930-1955.
Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy in History. Oxford, 2020.
35
Бородкин Л.И., Эртц С. Никель в Заполярье: труд заключённых Норильска // ГУЛАГ: эко-
номика принудительного труда. С. 217-218; Bell W.T. Was the Gulag an archipelago? De-convoyed
prisoners and porous borders in the camps of Western Siberia // Russian Review. 2013. Vol. 72. № 1.
P. 116-141; Barenberg A. Gulag town, company town: forced labor and its legacy in Vorkuta. New Haven,
2014. P. 40-42; Азаров О. По тундре, по железной дороге… // Покаяние. Коми республиканский
мартиролог жертв массовых политических репрессий. Т. 2. Сыктывкар, 1999. С. 194-195.
36
Население России в ХХ веке… Т. 2. С. 183.
37
Иванова Г.М. История ГУЛАГа… С. 246-247.
130
и НКВД, хозяйственных администраторов, местных руководителей и советских
граждан. Анализируя их, можно говорить о том, что во время войны более
ясно обозначились пределы репрессий как элемента военно-мобилизационной
системы38.
Исследование отдельных элементов советской мобилизационной системы
в годы войны позволяет выявить её характерные черты и направления разви-
тия. Однако не меньшее значение имеет изучение интегральных параметров:
показателей экономического развития и оценок морально-политического со-
стояния страны.
Широко известные данные свидетельствуют, что несмотря на резкое паде-
ние производства продукции базовых отраслей промышленности (топливной,
металлургической, электроэнергетики) и транспорта выпуск военной продук-
ции рос значительными темпами и превзошёл соответствующие германские
показатели39. Это важнейшее достижение свидетельствовало прежде всего
о способности системы концентрировать ресурсы на ключевых направлени-
ях. В последние годы историки военной промышленности изучают механизмы
мобилизационной приоритетности. Исследования показывают, что преиму-
щественное развитие ведущих отраслей происходило в результате преодоле-
ния многочисленных разрывов: между потребностями военного производства
и возможностями ресурсной базы, между высокими количественными плана-
ми и качеством выпускаемой продукции и т.д.40 Формальные и неформальные
методы обеспечения предельно возможной приоритетности в условиях войны
и результаты этой политики (в том числе долгосрочные) требуют дальнейшего
изучения.
Не менее важный результат мобилизации и одновременно её опора -
морально-политическая консолидация фронта и тыла. Характерная особен-
ность новейшей историографии - интенсивное и в разной степени комплексное
рассмотрение пропагандистских усилий государства, подавления инакомыс-
лия, условий жизни населения и динамики массовых настроений. В изучении
каждого из этих аспектов проблемы достигнуты существенные результаты. На
основании новых документов прослеживается эволюция советской пропаганды
и деятельность её институтов. При этом обращается внимание на возрождение
ценностей традиционного патриотизма, широкое использование морального
опыта дореволюционного военного прошлого и т.д.41 Значительная литература
38
О пределах репрессивной политики, обозначившихся на начальном этапе войны, см.:
Budnitskii O. The Great Terror of 1941: toward a history of Wartime Stalinist criminal justice // Kritika:
Explorations in Russian and Eurasian history. 2019. Vol. 20. № 3. P. 447-480.
39
Эти данные в советское время включались в многотомные издания по истории Второй
мировой и Великой Отечественной войн. Ранее секретные цифры ЦСУ о советском производстве
были опубликованы: Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг.
Статистический сборник. М., 1990. Сравнительный анализ показателей советского военного про-
изводства см.: The economics of World War II: six Great Powers in international comparison / Ed. by
M. Harrison. Cambridge, 1998.
40
Ермолов А.Ю. Государственное управление военной промышленностью в 1940-е годы: тан-
ковая промышленность. СПб., 2013; Мухин М.Ю. Советская авиапромышленность в годы Великой
Отечественной войны; Запарий В.В. Танковая промышленность на Урале в 1940-е годы. Екатерин-
бург, 2015; Мельников Н.Н. Танковая промышленность СССР…; Симонов Н.С. О качестве советской
военной продукции в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) // ЭКО. 2020. № 5.
С. 42-61.
41
Brandenberger D. National Bolshevism: Stalinist mass culture and the formation of Modern Russian
national identity,
1931-1956. Cambridge (Mass.), 2002 (Бранденбергер Д.Л. Сталинский руссоцен-
131
посвящена роли религиозного фактора в мобилизации общества на отпор врагу
как принципиально нового элемента политики государства в период войны.
Причём данное явление исследуется как сложное взаимодействие государства,
религиозных институтов и верующих, в котором каждая из сторон действовала
в соответствии со своими интересами42. Новые источники позволяют решать
проблему действенности официальной пропаганды и СМИ, недостатки кото-
рых способствовали, в частности, широкому распространению слухов43.
Самый сложный объект для изучения - массовые настроения и полити-
ческие установки советских граждан. Важность этой сферы жизни общества
неоднократно подчёркивалась в литературе44. Многочисленные примеры па-
триотизма, героизма, самопожертвования и ненависти к врагу, как в очередной
раз показано в книге Голдман и Фильцера, сыграли важнейшую роль в до-
стижении победы и обеспечении стабильности государства в чрезвычайных
условиях45. Вместе с тем картину существенно усложняют другие, не менее
реальные явления: распространение коллаборационизма46, наличие антипра-
вительственных и пораженческих настроений, рост численности осуждённых
(как по политическим статьям, так и за дезертирство). Достаточно сказать,
что суды, трибуналы и внесудебные органы в 1941-1945 гг. вынесли более
16 млн приговоров, подавляющее большинство из которых пришлось на на-
рушения трудовых указов военного времени, воинские преступления, а также
антиправительственные высказывания47. При этом многие уклонисты от моби-
лизационных законов избегали преследования. Очевидно, массовые настрое-
ния и установки советских граждан отличались сложностью и многообразием.
Они могли иметь ярко выраженный ситуативный характер48, меняться под воз-
тризм. Советская массовая культура и формирование русского национального самосознания.
1931-1956 гг. М., 2017); Советская пропаганда в годы Великой Отечественной войны: «коммуника-
ция убеждения» и мобилизационные механизмы / Сост. А.Я. Лившиц, И.Б. Орлов. М., 2007; Горя-
ева Т.М. Политическая цензура в СССР, 1917-1991 гг. М., 2009; Berkhoff K.C. Motherland in danger:
Soviet propaganda during World War II. Cambridge (Mass.); L., 2012; Баландина О.А., Давыдов А.Ю.
Власть, информация и общество: их взаимосвязи в деятельности Советского Информбюро в усло-
виях Великой Отечественной войны. СПб., 2020.
42
Miner S.M. Stalin’s Holy War: religion, nationalism, and Alliance politics, 1941-1945. Chapel
Hill, 2003 (Майнер С.М. Сталинская священная война: религия, национализм и союзническая по-
литика, 1941-1945. М., 2010); Одинцов М.И. Русская православная церковь накануне и в эпоху
сталинского социализма. 1917-1953 гг. М., 2014; Рокуччи А. Сталин и патриарх. Православная
церковь и советская власть. 1917-1958. М., 2016; Сперанский А.В. Советская модель управления ре-
лигиозным процессом в условиях Великой Отечественной войны: центр-периферийный аспект //
Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. Социально-гуманитарные науки.
2019. Т. 19. № 3. С. 68-74; Шкаровский М.В. «Господь дарует нам победу». Русская Православная
Церковь и Великая Отечественная война. М., 2020.
43
Пянкевич В.Л. Люди жили слухами: неформальное коммуникативное пространство блокад-
ного Ленинграда. СПб., 2014; Кринко Е.Ф. Неформальная коммуникация в закрытом обществе:
слухи военного времени (1941-1945 гг.) // Новое литературное обозрение. 2009. № 12. С. 494-508.
44
Зима В.Ф. Менталитет народов России в войне 1941-1945 годов. М., 2000; Сенявский А.С.,
Сенявская Е.С. Идеология войны и психология народа // Народ и война: очерки истории Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. С. 122-235.
45
Goldman W.Z., Filtzer D. Op. cit. Р. 294-336.
46
Махалова И.А. Коллаборационизм на оккупированных советских территориях: историогра-
фия последних лет // Российская история. 2019. № 3. С. 141-149.
47
История сталинского ГУЛАГа… Т. 1. С. 608, 619.
48
Горинов М.М. Будни осаждённой столицы: жизнь и настроения москвичей (1941-1942 гг.) //
Отечественная история. 1996. № 3. С. 3-28; Точенов С.В. Волнения и забастовки на текстиль-
132
действием факторов личного и общественного характера. Например, по мере
успехов на фронтах и осознания преступлений нацизма ослабевали пораженче-
ские настроения, изживались иллюзии по поводу возможных антинацистских
настроений и интернациональной поддержки германского рабочего класса, ме-
нялось отношение к западным союзникам и т.д.49
Изучение таких вопросов стало возможным благодаря расширению доку-
ментальной базы исследований. Наряду с традиционными источниками (прес-
са, отчёты о партийно-политической работе партии, комсомола, профсоюзов
и т.д.) привлекаются новые комплексы материалов. Неизмеримо выросло ко-
личество доступных военных дневников и мемуаров. Широко используются
интервью, собранные Комиссией по истории Великой Отечественной войны
АН СССР50. Всё активнее на основе региональных архивов вводятся в оборот
обзоры настроений, составлявшиеся органами госбезопасности и партии51. При
этом всё ещё ограничен доступ к информационным материалам из архивов
центрального аппарата НКВД-НКГБ, которые, судя по отдельным публика-
циям, могли бы придать импульс изучению массовых настроений и ситуации
в стране52.
В зависимости от использованных источников, а также (в ряде случаев) от
политической мотивации, в исследованиях по проблеме массовых настроений
и ценностей военного поколения видны различные акценты. Преимуществен-
ное внимание уделяется двум полюсам: активному и сознательному усвоению
государственных ценностей в процессе формирования советской субъектив-
ности и антиправительственным настроениям и действиям. В целом особый
интерес к этим наиболее активным социальным группам оправдан. Именно
они выступали центрами притяжения и консолидации, что, в конечном счёте,
ных предприятиях Ивановской области осенью 1941 года // Отечественная история. 2004. № 3.
С. 42-47.
49
Budnitskii О. The Great Patriotic War and Soviet society: defeatism, 1941-1942 // Kritika:
Explorations in Russian and Eurasian history. 2014. Vol. 15. № 4. P. 767-798; Голубев А.В., Поршне-
ва О.С. Образ союзника в сознании российского общества в контексте мировых войн. М., 2012;
Сенявская Е.С. Противники России в войнах ХХ века: эволюция «образа врага» в сознании армии
и общества. М., 2006.
50
Вклад историков в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. На
материалах Комиссии по истории Великой Отечественной войны АН СССР, 1941-1945 гг. / Отв.
ред. С.В. Журавлёв. М.; СПб., 2015. Оценки этого комплекса документов как исторического источ-
ника см.: Романько О.В., Будницкий О.В., Сенявская Е.С., Кринко Е.Ф., Безугольный А.Ю. Диа-
лог о книге: «Здесь кровью полит каждый метр…». Рассказы участников освобождения Крыма.
1943-1944 гг. // Российская история. 2021. № 3. С 182-214; Budnitskii O. A Harvard project in reverse.
Materials of the Commission of the USSR Academy of Sciences of the history of the Great Patriotic War -
publications and interpretations // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2018. Vol. 19.
№ 1. P. 175-202.
51
Кузьминых А.Л. «Наверное, будет война…»: политические настроения населения Вологод-
ской области накануне и в начале Великой Отечественной войны // Историк и его время. Памяти
профессора Виктора Борисовича Конасова. Вологда, 2010. С. 130-139; Ломагин Н.А. В тисках го-
лода. Блокада Ленинграда в документах германских спецслужб, НКВД и письмах ленинградцев.
СПб., 2014; Болокина Л.А. Негативные настроения калининцев в 1941-1943 гг. // Вестник Орен-
бургского государственного педагогического университета. 2019. № 4. С. 66-79; и др.
52
См., например: Христофоров В.С. Общественные настроения в СССР: июнь-декабрь
1941 г. // Великая Отечественная война. 1941 год: Исследования, документы, комментарии / Отв.
ред. В.С. Христофоров. М., 2011. С. 475-478; Христофоров В.С. Общественные настроения в СССР:
1943 год // Великая Отечественная война. 1943 год: Исследования, документы, комментарии / Отв.
ред. В.С. Христофоров. М., 2013.
133
определяло морально-политическое состояние и степень готовности к отпору
врагу. Однако это не исключает необходимости исследования той значитель-
ной части населения, которая руководствовалась тактикой политически ней-
трального выживания в экстремальных условиях военного времени53.
Подводя итоги этому краткому обзору, важно отметить, что современные
исследования позволяют гораздо полнее понять феномен советской мобилиза-
ционной системы военного периода. Её главными чертами можно считать пре-
дельный уровень развития и централизованно-стихийную самокорректировку.
Изменения в системе, повышавшие её отдачу, явились результатом взаимодей-
ствия принципиальных решений руководства страны, автономных практик ап-
парата управления и различных ответов населения на требования государства.
Подвергаясь разнонаправленным влияниям, мобилизационная система демон-
стрировала не только свои возможности, но и их пределы, уровень собственной
эффективности и перспективы эволюции. Можно ожидать, что развитие этих
исследовательских подходов внесёт важный вклад в историографию.
53
Обзор этих вопросов см.: Edele M. «What are we fighting for?» Loyalty in the Soviet War effort,
1941-1945 // International labor and working class history. 2013. № 84. P. 248-268; Edele M. Stalin’s
defectors: how Red Army soldiers became Hitler’s collaborators, 1941-1945. N.Y., 2017.
134