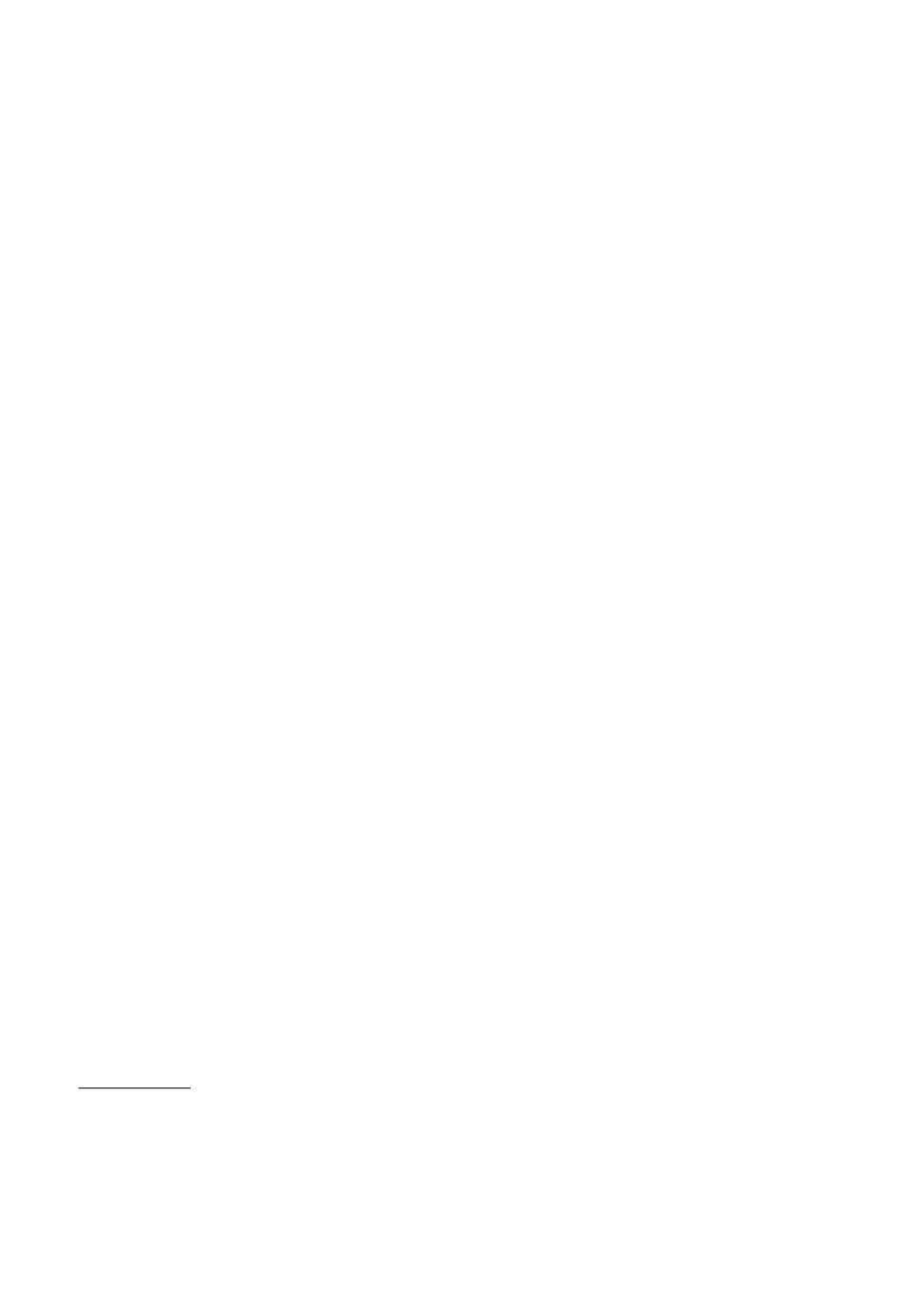Из истории Великой Отечественной войны
Планы Красной армии в документах разведывательных
структур Германии перед операцией «Цитадель»
Валерий Замулин
The plans of the Red Army in the documents of German intelligence agencies
before Operation Citadel
Valeriy Zamulin
(SouthWest State University, Kusrk, Russia)
DOI: 10.31857/S0869568722030128, EDN: FXFBTK
Участие разведывательных структур Германии в планировании операции
«Цитадель» является одной из наиболее крупных проблем истории Курской
битвы, которые до настоящего времени не были всесторонне изучены отече-
ственными исследователями. Как известно, при ведении войны разведка была
и остаётся важнейшим инструментом военно-политического руководства любой
страны, а её органы в вооружённых силах относятся к ключевым подразделени-
ям и формируются во всех основных штабах и управлениях действующей армии.
Разумеется, и в Третьем рейхе использование данных разведки признавалось
обязательным при разработке боевой операции любого масштаба, в том числе
и «Цитадели».
Опубликованные недавно документы немецких войск, а также Централь-
ного и Воронежского фронтов, действовавших под Курском, и Степного во-
енного округа (СтепВО) свидетельствуют о том, что уже в конце апреля 1943 г.
даже командование одной из ударных группировок Вермахта в районе Курской
дуги считало условия для проведения крупного наступления неблагоприятными1.
А к концу первой декады мая 1943 г. численность и состояние советских войск
оказались там таковы, что достичь целей, поставленных в плане «Цитадели»,
стало невозможно2. Тем не менее решение о проведении операции отменено
не было, что обернулось для Вермахта неудачей, имевшей значительные по-
следствия. Так, группа армий (ГА) «Юг», самое сильное из двух объединений,
участвовавших в наступлении, после 12 суток тяжелейших боёв в южной части
Курской дуги, продвинувшись лишь на 35 км (из запланированных 145), в ночь
на 17 июля была вынуждена начать отвод сил из района Прохоровки на исход-
ные позиции3, а уже 22 сентября Воронежский фронт, отбросив противника на
400 км, вышел к Днепру.
Советские военные историки отмечали, что одним из факторов, повлияв-
ших на попытку осуществить столь авантюрный план, каковым являлась «Ци-
тадель», могли служить слишком оптимистичные донесения германской развед-
ки о состоянии и потенциале Красной армии в районе Курска. Г.А. Колтунов
© 2022 г. В.Н. Замулин
1
Замулин В.Н. Документ, отсрочивший битву под Курском // Военно-исторический журнал.
2018. № 7. С. 34-36.
2
Замулин В.Н. Курская битва. Сражение, изменившее ход истории. М., 2017. С. 132-150.
3
Замулин В.Н. Прохоровка - неизвестное сражение великой войны. М., 2005. С. 596.
154
и Б.Г. Соловьёв даже приводили несколько цитат из докладов ключевого цен-
тра обработки и анализа развединформации штаба Сухопутных войск Германии
(ОКХ) - 12-го отдела «Иностранные армии - Восток» за март и апрель 1943 г.4
Однако эти небольшие выдержки давались без чёткого указания на источник,
что существенно затрудняет их интерпретацию. К тому же не следует забывать,
что подготовка операции заняла более трёх месяцев, а её начало переносилось не
менее четырёх раз. Поэтому по фрагментам двух-трёх докладов, составленных
на начальном этапе планирования, нельзя судить о качестве развединформации,
поступавшей с апреля по июнь. Тем более они не позволяют проследить в дина-
мике мнения руководства разведки о целесообразности реализации «Цитадели»
и возможностях Вермахта решить поставленную перед ним задачу с учётом сил,
которыми располагала Красная армия.
Для изучения данной проблематики у отечественных историков долго от-
сутствовал необходимый материал. Хотя основная часть документов Вермахта за
1943 г. с начале 1960-х гг. находилась в открытом доступе в Федеральном архиве
ФРГ (Bundesarchiv), их использование советскими учёными в условия холодной
войны было почти невозможно, поскольку считалось, что это может нежела-
тельным образом повлиять на оценку значения нашей победы и достижений
Красной армии. Исключение делалось лишь для некоторых источников, отра-
жавших планирование германским командованием неуспешных стратегических
операций или свидетельствовавших о захватнических планах рейха и военных
преступлениях его войск на оккупированных территориях. Неудивительно, что
с начала 1970-х гг. активная работа по анализу важнейших аспектов истории
Великой Отечественной войны в СССР практически прекратилась. При этом
утверждалось, что они якобы уже изучены5, и основное внимание следует уде-
лить созданию фундаментальной истории Второй мировой войны в целом.
В 1990-2000-е гг. знания российских исследователей о германской разведке
расширялись в основном с помощью Национального управления архивов США
(NARA), где можно было относительно недорого заказать фотоплёнки с тро-
фейными материалами. Это и сегодня наиболее простой и доступный способ
знакомства с делопроизводством войск Вермахта от дивизии до группы армий.
Однако в NARA отсняты лишь документы низовых подразделений разведслуж-
бы 1Ц (преимущественно на уровне дивизия-армия), тогда как донесения аген-
турной сети Абвера, военных атташе, а тем более доклады обобщающего харак-
тера, которые готовились офицерами ОКХ для высшего командования и лично
А. Гитлера, хранятся в различных делах Федерального архива ФРГ.
В 2013 г. Д.Ю. Хохлов, опираясь на не вводившиеся ранее в научный оборот
материалы из архива ФСБ России, впервые в нашей стране рассмотрел структу-
ру, личный состав, способы получения информации и ежедневную деятельность
сотрудников отдела ОКХ «Иностранные армии - Восток». Но результаты их
работы в период планирования и подготовки наступления на Курск при этом не
анализировались6. Таким образом, за весь послевоенный период в отечественной
историографии не появилось ни одного исследования, посвящённого действиям
разведструктур Германии по обеспечению верховного командования Вермахта
сведениями о Красной армии при подготовке летней кампании 1943 г.
4
Колтунов Г.А., Соловьёв Б.Г. Курская битва. М., 1970. С. 44.
5
Замулин В.Н. Курская битва. 70 лет мифов и легенд. М., 2016. С. 55.
6
Хохлов Д.Ю. Отдел «Иностранные армии - Восток» ОКХ // Великая Отечественная война.
1943 г. Исследования, документы, комментарии / Под ред. В.С. Христофорова. М., 2013. С. 200-201.
155
Между тем в 2019 г. во Фрайбургском отделении Федерального архива ФРГ
удалось обнаружить два дела (RH. 2/1979 и RH. 2/2585) с несколькими докла-
дами 12-го отдела, представленными руководству и штаба ОКХ, и рейха, в том
числе и в связи с планированием «Цитадели». Особую ценность им придаёт то,
что они относятся к наиболее сложным периодам разработки операции - на-
чальному (вторая половина апреля - первые числа мая 1943 г.), когда и в ОКХ,
и в Ставке Гитлера активно обсуждалась целесообразность её проведения, и за-
вершающему (за несколько суток до перехода войск в наступление)7.
К весне 1943 г. Германия имела несколько мощных разведывательных струк-
тур с разветвлённой сетью резидентур, агентов, разведшкол и т.д., подчинявших-
ся разным ведомствам. Самыми крупными из действовавших против Красной
армии являлись военная разведка Абвер, войсковая разведка и контрразведка
(от дивизии и выше) на Восточном фронте (Служба 1Ц) и 6-е управление Глав-
ного управления имперской безопасности (РСХА). Наиболее важная и прове-
ренная информация направлялась ими в 12-й отдел штаба ОКХ, который в это
время уже почти год возглавлял полковник Р. Гелен (1902-1977). Позднее он
вспоминал: «1 апреля 1942 г. я был назначен начальником 12-го отдела Генераль-
ного штаба - отдела “Иностранные армии Востока”, то есть того подразделения,
которое занималось изучением положения дел нашего главного противника -
Советского Союза. Назначение было произведено в связи с тем, что начальник
Генерального штаба генерал-полковник [Ф.] Гальдер счёл целесообразным заме-
нить руководителя отдела ещё до начала запланированного наступления немец-
ких войск в направлении Волги и Кавказа. Выбор его пал на меня, по-видимому,
потому, что я с конца 1939 года до начала октября 1940 года был его порученцем,
а позднее, вплоть до моего назначения на новую должность, служил в опера-
тивном управлении и принимал участие в разработке предстоящей операции…
В силу своих новых обязанностей мне пришлось возглавить и службу “1Ц” всего
Восточного фронта»8. Следовательно, в руках Гелена была сконцентрирована ос-
новная информация о военном и экономическом потенциале СССР и его воору-
жённых силах, как в целом, так и на отдельных участках фронта, поступавшая из
спецслужб рейха, штабов воздушных флотов и радиотехнических подразделений,
находившихся непосредственно в боевых соединениях на Востоке. Поэтому его
отдел стал главным источником сведений и аналитических докладов, которыми
пользовались руководство ОКХ и Гитлер при планировании летней кампании
1943 г. и, в частности, «Цитадели».
Назначение Гелена оказалось удачным решением. Полковник не только
имел хорошую профессиональную подготовку и военный опыт, но и обладал
острым умом, широким кругозором и большими организаторскими способно-
стями. Он был человеком дальновидным, отличавшимся целеустремлённостью,
преданностью своему делу и вместе с тем крайней осторожностью. Эти качества
позволяли ему не только успешно решать стоявшие перед ним задачи, но и оста-
ваться на своём посту практически до конца войны, хотя его доклады руководству
о возможностях Красной армии порою шли вразрез с мнением фюрера. После
разгрома Германии он сумел сохранить значительный массив ценных данных об
7
Часть этого материала опубликована: Замулин В.Н. «Надо рассчитывать на намерение русских
удерживать район Курска». Из доклада отдела «Иностранные армии - Восток» штаба главного ко-
мандования сухопутных войск Германии. 1943 г. // Исторический архив. 2021. № 5(170). С. 40-52.
8
Гелен Р. Война разведок. Тайные операции спецслужб Германии. 1942-1971. М., 1999.
С. 10.
156
СССР и агентурной сети, заинтересовать ими разведку США и с её помощью
создать в ФРГ новую структуру - «Организацию Гелена», преобразованную за-
тем в Федеральную разведывательную службу Германии (BND), которая под его
руководством стала одной из наиболее сильных и эффективных разведок мира.
12-й отдел, по сути, являлся не разведывательным, а аналитическим центром
штаба ОКХ, в котором проводилась глубокая обработка информации, собранной
военными атташе, Люфтваффе, Службой 1Ц, агентурой Абвера и РСХА. В итоге
командование Сухопутных войск получало доклады по определённой тематике
и направлениям. В них отобранные разведданные «сплавлялись» в отдельные
блоки и уже из них складывалась картина событий по всему фронту и на раз-
личных его участках. Кроме того, отдел пытался выявлять признаки подготовки
в СССР оперативных и стратегических резервов и делать прогнозы о принятых
в Москве важнейших военных решениях. У Гелена работали сильные аналитики
и офицеры с большим практическим опытом, их заключения отличались объек-
тивностью и весьма точными представлениями о дальнейшем развитии событий
и вероятных шагах советской стороны. «В мирное время, - писал позднее Ге-
лен, - наш отдел должен был, взаимодействуя с другими службами Генштаба,
составлять по возможности максимально полную картину военного и военно--
промышленного потенциала, а также состояния вооружённых сил восточноевро-
пейских государств. Вместе с тем руководство должно было располагать инфор-
мацией и о том, с какими географическими, природными и метеорологическими
условиями ему придётся считаться. Эта информация передавалась и в войска.
Особое значение придавалось получению данных о боевом духе войск предпо-
лагаемого противника, которые закладывались в основу, как мы сказали бы се-
годня, психо-политического анализа. Сведения, которыми мы располагали о со-
ветских солдатах ещё в мирное время, были полностью подтверждены в первый
же год восточной кампании. Предсказанные твёрдость и выносливость русского
солдата, его нетребовательность и невзыскательность в отношении материаль-
ных условий позволяли Красной армии вести боевые действия даже в случаях,
когда сражение было уже проиграно. Подтвердилось и предположение, что ка-
дровый состав командного звена хорошо подготовлен в идеологическом плане,
чего нельзя сказать о большинстве командиров, призванных из резерва. В случае
серьёзных поражений, которые потерпят Советы, мы не без оснований прогно-
зировали рост числа перебежчиков»9.
Проработка замысла летней кампании 1943 г. в Ставке Гитлера (и по его по-
ручению в ОКХ) началась в конце января 1943 г., но только через месяц у него
появилось понимание того, где и какими силами он хотел бы и мог провести
первую в этом году крупную операцию на Востоке. В конце весны идея развер-
нуть масштабное наступление в районе Курской дуги, как была названа терри-
тория западнее Курска, занятая Красной армией в феврале 1943 г., буквально
витала в воздухе. Первым её изложил 8 марта в докладе Гитлеру командующий
ГА «Юг» фельдмаршал Э. фон Манштейн. Учитывая дефицит сил, сложное по-
ложение войск ГА «Центр» и ожидавшуюся в ближайшие недели распутицу, он
предлагал ограничиться рассечением Курской дуги на две части ударами с запада
и с юга, сходящимися в районе Курска. Но Гитлер этот вариант не принял, по-
скольку считал, что после катастрофы под Сталинградом ему необходима успеш-
ная операция более крупного масштаба.
9
Там же. С. 14-15.
157
Такой вариант через три дня представил на совещании в штабе команду-
ющего ГА «Центр» фельдмаршала Г. фон Клюге в Смоленске командующий
2-й танковой армией (ТА) генерал-полковник Р. Шмидт. Суть его заключалась
в том, чтобы срезать весь Курский выступ встречными ударами войск ГА «Юг»
из района Белгорода и ГА «Центр» - южнее Орла10. Гитлер сразу же оценил
это предложение и уже 13 марта подписал оперативный приказ № 5, в котором
говорилось: «Следует ожидать, что русские после окончания зимы и весенней
распутицы, создав запасы материальных средств и пополнив частично свои сое-
динения людьми, возобновят наступление. Поэтому наша задача состоит в том,
чтобы по возможности упредить их в наступлении в отдельных местах с целью
навязать им, хотя бы на одном из участков фронта, свою волю, как это в на-
стоящее время уже имеет место на фронте ГА “Юг”. На остальных участках
фронта задача сводится к обескровливанию наступающего противника. Здесь мы
заблаговременно должны создать особенно прочную оборону путём примене-
ния тяжёлого оружия, совершенствования позиций в инженерном отношении,
установки на необходимых участках минных заграждений, оборудования тыло-
вых опорных позиций, создания подвижных резервов и т.д. Подготовку к этому
следует начать немедленно на фронтах всех групп армий. Она должна включать
в себя в первую очередь пополнение личным составом и техникой соедине-
ний, предназначенных для наступательных действий, предоставление им отдыха
и повышение уровня их боевой подготовки, а также максимальное усиление
и укрепление участков фронта, где предполагаются чисто оборонительные дей-
ствия с нашей стороны. Поскольку в этом году период распутицы закончится
раньше, чем обычно, то важно не упустить ни одного дня для подготовки и осо-
бенно продуманно спланировать очерёдность работ»11.
Разрабатывать единый план операции для обеих групп армий изначально
не планировалось. Штаб каждой из них должен был продумать собственные
действия самостоятельно, учитывая особенности местности, состояние войск
и данные своей оперативной и тактической разведки, а также 1-го и 4-го воз-
душных флотов. Согласование же основных параметров обоих планов (задачи
войск ударных группировок, боевое построение и т.д.) и их увязка между собой
возлагались на штаб ОКХ. В этой «технологической цепочке» отдел Гелена ре-
шал две очень важные задачи: обеспечивал руководство ОКХ уточнённой (пе-
репроверенной) развединформацией о положении дел на отдельных участкам
фронта в районе Курской дуги и составлял аналитические доклады для фор-
мирования общего (стратегического) взгляда на положение по всему советско--
германскому фронту (протяжённость которого достигла тогда 2 100 км) и в глу-
бине СССР.
При этом планирование кампании осложнялось тем, что, несмотря на
острый дефицит ресурсов, Гитлер ещё до начала «Цитадели» намеревался про-
вести в апреле в полосе ГА «Юг» частную наступательную операцию с целью
нанести максимальный урон Юго-Западному фронту (одновременно рассматри-
валось два её варианта - «Ястреб» и «Пантера»)12. Бóльшая часть генералите-
та, опасаясь распыления с трудом собираемых сил, необходимых для удара на
Курск, выступала против этого, но фюрер настаивал, и штабам ОКХ, ГА «Юг»
10
Замулин В.Н. Курск-43. Как готовилась битва «титанов». Кн. 1. М., 2018. С. 228-230.
11
Курская битва / Под ред. И.В. Паротькина. М., 1970. С. 505.
12
Замулин В.Н. Курск-43… Кн. 1. С. 253-260.
158
и её армий приходилось вести активную работу сразу по двум операциям и в то
же время готовить войска и оборону.
Вместе с тем на протяжении всего периода подготовки «Цитадели», и осо-
бенно на начальном этапе, когда после зимних боёв соединения в районе Кур-
ской дуги были существенно обескровлены, Берлин каждый день ожидал мощ-
ного наступления Красной армии и вынужден был считаться с растущей угрозой
высадки англо-американских войск в Европе. Поэтому с середины апреля до на-
чала июля информация, поступавшая из 12-го отдела, была очень важна и вос-
требованна. Причём, реагируя на донесения Абвера, подчинённые Гелена ана-
лизировали не только ситуацию на Курской дуге, но и возможность нанесения
Москвой удара по Финляндии или Прибалтике13. Судя по документам, обнару-
женным в Федеральном архиве ФРГ, отдел представлял свои доклады, касавши-
еся «Цитадели», не по заранее утверждённому графику, а, вероятно, по запросу
руководства штаба ОКХ. Как правило, это делалось в наиболее важные или на-
пряжённые моменты планирования операции или перед обсуждением в присут-
ствии Гитлера её ключевых аспектов. Иногда сам Гелен мог представить свои
соображения о том, что считал особенно значимым, но это случалось редко.
15 апреля Гитлер подписал оперативный приказ № 6. В нём впервые кон-
кретизировались цели и задачи обеих групп армий и воздушных флотов, привле-
кавшихся для реализации операции «Цитадель», отмечались факторы, которые
следовало учитывать при её проведении, а также устанавливались примерные
сроки начала сосредоточения сил (28 апреля) и удара (3 мая)14. Именно с этого
момента развернулась основная фаза подготовки наступления на Курск, которое
началось 5 июля.
Ответственным за действия на севере Курской дуги Гитлер назначил не
Клюге, а командующего 9-й армией (А) генерал-полковника В. Моделя, что ещё
больше обострило его и без того сложные личные отношения с фельдмаршалом.
Между тем войска Моделя в ходе зимних боёв оказались более обескровлены
и измотаны, чем соединения Манштейна, и требовали большего пополнения
как людьми, так и тяжёлым вооружением. Однако обещанные ОКХ маршевые
батальоны и эшелоны с бронетехникой к середине апреля в 9А так и не прибы-
ли, а дата начала сосредоточения ударной группировки, поставленная в приказе
№ 6, приближалась. Неоднократные обращения Моделя в Смоленск ситуацию
не изменили, так как резервов у Клюге не имелось и получить их можно было
только из Берлина. Неисполнение обещания о восстановлении сил, трения меж-
ду фельдмаршалом и генерал-полковником, а также невнятная позиция ОКХ
по большинству насущных вопросов и продолжавшееся «метание» Гитлера, не
знавшего, проводить или нет «Цитадель», довели ситуацию до крайнего обостре-
ния. Модель, не видя иного выхода, 17 апреля даже заявил о готовности отка-
заться от командования армией, ссылаясь на то, что в таких условиях операция
принесёт лишь неоправданные жертвы, а отвечать будет один он15.
Генерал-полковник К. Цейтцлер, сменивший осенью 1942 г. Гальдера на
посту начальника штаба ОКХ, в то время оставался горячим сторонником «Ци-
тадели» и считал, что её замысел следует воплотить как можно быстрее. При
этом он прекрасно знал о тяжёлом положении 9А и опасался, что Модель, с его
13
Bundesarchiv - Militärarchiv (далее - BA-MA). RH. 2/2585. S. 29-31.
14
Курская битва. С. 521, 522.
15
National Archives and Records Administration (NARA USA). T. 312. R. 317. F. 7886043.
159
взрывным характером, сумеет достучаться до Гитлера, устроив скандал, который
закончится отказом от намеченного окружения советских войск ударами от Бел-
города и Орла на Курск. К тому же сразу после подписания приказа № 6 фюрер
вновь заинтересовался предложенной Манштейном идеей «облегчённого» насту-
пления, т.е. рассечения Курской дуги ударом с запада (из полосы 2А) и с юга.
Цейтцлер был категорически против подобного изменения плана, обоснованно
опасаясь, что в этом случае результаты окажутся далёкими от ожидавшихся.
Для того чтобы при обсуждения с Гитлером окончательного варианта опе-
рации опереться на весомые доводы, Цейтцлер приказал Гелену доложить име-
ющиеся сведения и мнение разведки о том, «будет ли Красная армия удержи-
вать Курский выступ в случае начала немецкого наступления?» и «готовится
ли Москва сама нанести удар в районе Курска?». 19 апреля сотрудники 12-го
отдела подготовили доклад «Вероятное поведение противника перед группами
армий “Юг” и “Центр”». Основываясь на данных всех разведорганов Герма-
нии, они утверждали: «Надо рассчитывать на намерения русских удерживать
район Курска при попытке немцев провести операцию на окружение. Сообще-
ния Абвера о вероятном запланированном оставлении района западнее Курска
не соответствуют действительности… По донесениям Абвера, которые подтвер-
ждаются другими разведданными, надо рассчитывать на сохранение за линией
фронта большой резервной группы в узком районе у Курска, перемещение
части которой в северо-западном направлении, т.е. к южному крылу 2-й тан-
ковой армии, пока не подтверждается (т.е. удар советских войск из Курской
дуги по правому флангу ГА “Центр” ещё не просматривался. - В.З.). Большие
силы также предполагаются в районах: около и восточнее Мирополье, Короча--
Волоконовка-Новый Оскол, Изюм-Старобельск, а также в тыловых районах:
около и южнее Валуйки, около Воронежа (?), Ливны-Елец. Эти резервные
группы, которые пока предназначены для отражения контрудара в случае не-
мецкого наступления, тем не менее, дают возможность русским провести се-
рьёзные удары по северному крылу группы армий “Юг” с далеко идущими
целями. Они могут или при длительной задержке немецкого наступления вы-
ступить против немецких сосредоточений, или при раннем начале немецких
операций - участвовать в контрударе»16.
Разумеется, Гелен не мог знать о том, что 12 апреля в Москве состоялось
совещание верховного главнокомандующего И.В. Сталина со своим замести-
телем маршалом Советского Союза Г.К. Жуковым, начальником Генерального
штаба маршалом Советского Союза А.М. Василевским и начальником Главного
оперативного управления Генерального штаба генерал-полковником А.И. Анто-
новым, на котором было принято решение перейти к преднамеренной обороне,
в том числе в районе Курской дуги, подготовив здесь прочный многополосный
рубеж для отражения возможного немецкого наступления. Перед этим Ставка
верховного главнокомандования (ВГК) уже поставила задачу создать крупные
стратегические резервы и для обороны, и для намечавшегося летнего наступле-
ния, в ходе которого предполагалось к концу года освободить всю оккупирован-
ную территорию СССР. 6 апреля Сталин подписал директиву о формировании
Резервного фронта и размещении его полевого управления в районе Вороне-
жа17. Через некоторое время его переименовали в Степной военной округ. В нём
16
Замулин В.Н. «Надо рассчитывать на намерение русских удерживать район Курска»… С. 44-45.
17
ЦАМО РФ, ф. 148а, оп. 3763, д. 139, л. 181.
160
концентрировалась основная часть стратегических резервов Ставки ВГК, в том
числе новое для Красной армии крупное формирование - 5-я гвардейская (гв.)
танковая армия однородного состава под командованием генерал-лейтенанта
П.А. Ротмистрова. Её начали создавать с конца февраля 1943 г. в районе Воро-
нежа, и уже в апреле она была обнаружена немецкой радиоразведкой. Впервые
в сражение её ввели у станции Прохоровка 12 июля. Характерно, что армии
и корпуса, передававшиеся округу, сосредотачивались именно в тех районах,
которые указывались в докладе Гелена. Таким образом, его сотрудники в целом
верно ответили на поставленные перед ними вопросы: Москва собирается обо-
ронять Курский выступ, а после отражения удара перейдёт в наступление и для
этого в тылу уже формирует крупные резервы. Причём данный вывод был сделан
через неделю после того, как в самой Ставке ВГК окончательно определились
с этим планом действий. И в дальнейшем (например, в начале мая) отдел обо-
снованно настаивал на том, что Красная армия с большим размахом и успехом
укрепляет свои позиции в районе Курска. Это означало, что реализовать план
«Цитадель» будет крайне сложно и затратно, так как придётся вести очень тя-
жёлые бои, прорывая хорошо подготовленные рубежи обороны.
Впрочем, Гелен в этом докладе продемонстрировал не только точность
в оценке намерений советской стороны, но и дипломатичность. Отмеченное им
стремление обороняющихся удержать Курскую дугу не противоречило взглядам
группы генералов во главе с Цейтцлером, которые рассчитывали на то, что упор-
ная защита советскими войсками своих позиций поможет Вермахту окружить,
а затем и уничтожить значительные силы Красной армии. И следовательно, если
операцию необходимо проводить, то это надо делать как можно быстрее, т.е.
согласно приказу Гитлера - в начале мая. Однако в докладе подтверждалось
и мнение противников наступления на Курск - штаба Верхового командования
Вермахта (ОКВ) во главе с генералом А. Йодлем и главной инспекции броне-
танковых войск, которой руководил генерал Г. Гудериан. В частности, в нём
указывалось, что Москва ожидает немецкий удар в районе Курска и готовится
к его отражению. И это не могло не усиливать сомнения в его целесообразности.
Нельзя не отметить, что такая оперативность и точность в оценках лишь на
первый взгляд свидетельствовала о большой работе германской разведки на опе-
режение, о наличии у неё в тылу советских войск (в полосе 250-300 км от линии
соприкосновения) достаточно широкой сети агентов, работавших в разных сфе-
рах, прежде всего на железной дороге, а также об эффективности усилий лётчи-
ков и радистов. Между тем конкретные донесения, приводившиеся составителя-
ми доклада для подтверждения своих мнений, выглядели совсем неубедительно
и зачастую не соответствовали действительности. Можно только удивляться, как
на их основе аналитики отдела могли делать верные выводы по столь крупным
проблемам.
Так, 3 апреля «из общих ненадёжных источников» поступило «сообщение из
коммунистических кругов»: «До открытия второго фронта англо-саксами Совет-
ский Союз переходит к обороне. За русским фронтом группируются два боль-
ших резерва: в районе Москвы и за линией южного участка фронта, Воронеж-
Тамбов. Очень низкая боеспособность необученных, плохо оснащённых частей,
в основном выздоровевшие раненые, настроение подавленное. Для этой группы
обеспечение идёт из Восточной Азии через Куйбышев. Потери в живой силе
и технике зимой намного больше, чем до этого считалось». Другой «в общем не-
надёжный источник» информировал о том, какова «оценка положения против-
161
ника в русском штабе»: «Немцы начнут наступление на южном участке фронта
намного раньше, чем в прошлом году, чтобы максимально использовать лето
и осень. В соответствии с оценкой русского штаба, его силы на южном участке
недостаточны для отражения большого наступления. Очень много разговоров
о техническом обеспечении армии и открытии второго фронта. Русские склоня-
ются к тому, чтобы, в свете критической ситуации на южном фронте, отказаться
от наступления на северном. Провал союзников при захвате Туниса задерживает
также действия на Балканах». 16 апреля стал известен «отчёт русского штаба
о положении противника»: «У Балаклеи, до 100 км за немецкой линией обороны,
наблюдаются серьёзные перемещения частей. Факт, что немецкая авиация уже
несколько дней прикрывает железнодорожные пути у Балаклеи, говорит о том,
что немецкое командование на фронте в 150 км шириной, с основным направ-
лением у Балаклеи, проводит особую подготовку к началу немецкого весеннего
наступления». На следующий день поступило «донесение военного атташе (воз-
можно ненадёжный источник)», узнавшего «из двух независимых источников»:
«Сталин сосредотачивает две больших группы резервов - одну у Москвы, другую
в районе Воронежа, Самары и Саратова. Сосредоточение московского резерва
закончено. Это около 40-50 дивизий хороших сил. Данный резерв был изна-
чально намечен для наступления на Балтике и против Финляндии. План, одна-
ко, был оставлен из опасений большого немецкого наступления через Харьков.
Теперь оба резерва намечены для отражения немецкого наступления». Наконец,
«надёжный агент» утверждал: «Сталин назначил на 23 апреля совещание всех
командующих фронтами и командующих армиями в Москве. Вопросы, наме-
ченные к обсуждению: 1) Признаки немецкого наступления. 2) Улучшение вза-
имодействия различных родов войск. 3) Настроения в частях. 4) Техническое
и механизированное обеспечение частей»18.
Фактически «надёжный агент» дезинформировал: 23 апреля столь масштаб-
ного совещания в Москве не проводилось. Да и никогда ранее Ставка ВГК не
практиковала таких собраний. При подготовке наступления собирали только тех
командующих армиями и фронтами, кому предстояло принять участие в той или
иной конкретной операции (обычно это делалось за 3-5 недель до её начала,
в зависимости от намеченных сроков и обстановки, в которой она планирова-
лась). В некоторых случаях задачи ставились каждому генералу по отдельности
лично командующим фронтом или представителем Ставки ВГК без каких-либо
совещаний. Трудно поверить, будто разведка страны, два года воевавшей с СССР,
этого не знала. Поэтому создаётся впечатление, что Гелен, прилагая к докла-
ду подобные донесения, хотел не столько подтвердить ими сделанные выводы,
сколько наглядно продемонстрировать Цейтцлеру, с каким низкосортным мате-
риалом приходится работать, выполняя поставленную задачу.
Так или иначе, неверные сведения поступали по каналам Абвера на протя-
жении всего периода подготовки и реализации «Цитадели». Например, 5 июля
103-я команда Абвера при штабе ГА «Центр» представила донесение, согласно
которому 18 июня «надёжный агент доложил», ссылаясь на радиоперехват «пе-
реговоров между Куйбышевым и Тбилиси», о возвращении Сталина 17 июня
в Москву после «краткосрочной поездки в Воронеж»19. 9 июля та же структура
извещала о том, будто 7 июля «маршал Жуков и маршал Василевский со своими
18
Замулин В.Н. «Надо рассчитывать на намерение русских удерживать район Курска»… С. 51-52.
19
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 797, л. 16.
162
штабами на 2-х тяжёлых бомбардировщиках прибыли в Валуйки»20. Оба сообще-
ния считались достоверными и попали в разведсводку штаба ГА, хотя известно,
что Сталин в 1943 г. Воронеж не посещал и район Москвы в июне не поки-
дал. А маршалы с 4 июля находились в войсках, оборонявших Курскую дугу:
Жуков - на Центральном фронте, Василевский - на Воронежском21. Причём
прибыли они сразу на аэродромы, находившиеся вблизи их командных пунктов,
и в Валуйках (в полосе Юго-Западного фронта) 7 июля оказаться не могли.
8 июля «надёжный агент» («Олаф») передал в 103-ю команду, что накануне
«из Воронежа в район Старый Оскол-Скородное (50 км юго-зап[аднее] г. Ста-
рый Оскол) отправили эшелон с 140 танками (большей частью тяжёлыми), из
них 50 американских, далее много противотанковых и зенитных пушек»22. Кроме
того, в район г. Тим (65 км юго-восточнее Курска) 8 июля якобы подтянули одну
«мотомеханизированную ударную армию», вероятно, под номером 4, в составе ко-
торой находились четыре танковых, механизированных и кавалерийских корпуса
и две стрелковые дивизии. В этот день из района Воронежа мимо Старого Оско-
ла к Прохоровке действительно двигалась 5 гв. ТА, но не по железной дороге,
а своим ходом. К тому же она насчитывала не 140, а более 700 танков и само-
ходных артиллерийских установок23. А 4-й мотомеханизированной армии на тот
момент в Красной армии вообще не существовало: имелась 4ТА, но она была
сосредоточена в Московском военном округе, и перебрасывать её в район Тима
Ставка ВГК не планировала (да и кавалерийские корпуса в ней отсутствовали)24.
Чем же объяснялась правильность оценок, сделанных сотрудниками Гелена
в докладе? Ключевым фактором качественной работы отдела «Иностранные ар-
мии - Восток» являлся высокий уровень профессионализма его аналитического
подразделения, а также информированность о положении в действующей армии.
Отдел был укомплектован аналитиками и разведчиками с военным образовани-
ем, кадровыми офицерами, имевшими опыт службы в строевых частях и штабах
крупных соединений, хорошо понимавшими специфику ведения боевых дей-
ствий и даже участвовавшими в них. Вместе с тем они широко использовали
информацию и выводы иных подразделений штаба ОКХ (и прежде всего - опе-
ративного управления), сопоставляя их с данными разведки.
Второй документ, представленный 12-м отделом руководству ОКХ 19 апре-
ля, был назван «Относительно донесений о планах по большой оборонительной
компании Советского Союза на лето 1943 года. Тезисы к докладу». В этой форме
излагался ответ на вопрос: «Есть ли у Кремля возможности и планы перейти
в масштабное наступление или он будет ожидать открытия второго фронта в Ев-
ропе?». Тем самым речь шла о стратегических замыслах Москвы, которые, оче-
видно, не могли не влиять на решение о целесообразности и сроках проведения
операции «Цитадель».
В тезисах комментировались донесения германского военного атташе в Сток-
гольме (об отчёте шведского военного атташе в Лондоне и о беседе с финским
атташе полковником Стевенсом) и сообщение агента Абвера «Стекс» «из комму-
20
Там же, д. 790, л. 29.
21
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. Т. 3. М., 1990. С. 43.
22
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 790, л. 15.
23
Подробнее см.: Замулин В.Н. Прохоровка
- неизвестное сражение великой войны.
С. 218-226.
24
На первом, оборонительном, этапе Курской битвы кавалерия советской стороной не ис-
пользовалась вовсе.
163
нистических кругов». Все три источника сходились в том, что Советский Союз
в 1943 г. решил перейти к обороне, собираясь отразить ожидаемое им немецкое
наступление и подготовить большие резервы для того, чтобы после открытия
Второго фронта осуществить решительный рывок на Украину и в Белоруссию.
Отдел Гелена с этим выводом не согласился, оценив намерения Москвы более
объективно: «1. Нынешняя картина распределения сил не соответствует позиции
оборонительного ведения войны. Из распределения и перегруппировки русских
сил вырисовывается возможность проведения в нескольких ключевых направ-
лениях наступательных операций большого масштаба. Однако она не связывает
русское руководство окончательным решением и оставляет им на лето все воз-
можности. … 3. Мы придерживаемся предыдущей оценки русских общих планов
на лето 1943 года, в соответствии с которыми руководство Красной армии пла-
нирует большие операции с далеко идущими планами. Подготовка им проведе-
на таким образом, что Красной армией собран большой оперативный резерв,
который оставляет открытым вопрос о проведении тех или иных операций. Не
ясным остаются возможности некоторых решений, особенно время проведения,
территориальное распределение сил в операции, мероприятия союзников, оцен-
ка немецких планов русским командованием. Кроме того, погодные условия,
которые очень влияют на решения русского руководства»25.
И в этом документе анализ намерений советской стороны опирался на дан-
ные о сосредоточении в тылу оперативных и стратегических резервов, которые
сотрудники 12-го отдела рассматривали как ударные группировки, подготовлен-
ные для масштабных наступательных действий. Таким образом, определяющую
роль при оценке и прогнозировании играли правила и критерии оперативного
искусства, а не домыслы и слухи, почерпнутые агентами спецслужб в военно--
дипломатических кругах.
К примеру, германский военный атташе в Стокгольме узнал «из источника
Абвера», что «отчёт шведского военного атташе в Лондоне в шведский Гене-
ральный штаб» содержит информацию, согласно которой «британский военный
наблюдатель имел встречу со Сталиным. Он в нетрезвом состоянии рассказывал
о дальнейших планах ведения войны»: «Летом Советская армия будет использо-
вать тактику отступления. В связи с таким манёвром боями будут связаны очень
немногие её части. Противник Советов может опять захватить значительные
территории. Советы не страшатся того, что немцы займут свои прошлогодние
позиции и даже продвинутся дальше вглубь. Следующая зима будет зимой совет-
ского наступления. Советские армии очень скоро будут на границе с Германией.
Лето будет использоваться для усиления технического обеспечения советской
армии. Утерянные оборонные предприятия снова восстановлены на недостижи-
мых для противника территориях. Массовое производство возобновляется этим
летом. Танковый завод у Куйбышева один может дать столько танков, сколько
нужно Советской армии. Пока танковые заводы ещё не заработали на полную
мощность, поскольку ещё есть сложности с поставками необходимого сырья, но
организационные ошибки будут очень скоро устранены. Он (Сталин) сможет
выдержать ещё не один год войны. Сможет ли это Англия - это большой вопрос.
Самым важным, однако, остаётся то, что в союзе против Германии есть кто-то,
кто может удержаться и нанести немцам решающий удар»26.
25
Замулин В.Н. «Надо рассчитывать на намерение русских удерживать район Курска»… С. 45-46.
26
Там же. С. 46.
164
В этот небольшой текст была вложена огромная по значимости стратегиче-
ская информация, которой, разумеется, ни один глава государства не стал бы
делиться в частной беседе даже со своими маршалами, не говоря уже о каком-то
представителе («наблюдателе») союзников. И создатели данной дезинформации
прекрасно это понимали, поэтому и попытались в первых же строках объяснить
причину странных откровений верховного главнокомандующего. Впрочем, то,
что они не имели ничего общего с реальными планами Кремля, весной 1943 г.
прекрасно понимали и в штабе ОКХ. Ведь к середине апреля на Дону уже на-
ходились несколько сотен тысяч бойцов и десятки тысяч единиц тяжёлого во-
оружения и техники Резервного фронта. Каждый день туда прибывали новые
железнодорожные составы. В других местах, в оперативной глубине советских
фронтов, также формировались большие группировки войск для летнего насту-
пления. Не замечать эти силы месяцами специальные подразделения Вермахта,
Абвера и Люфтваффе просто не могли. Поэтому немудрено, что сотрудники
Гелена все такие сообщения воспринимали как недостоверные.
Вторым «периодом высокого напряжения» при подготовке «Цитадели» для
12-го отдела стал рубеж апреля и мая. Не добившись от Клюге необходимого
пополнения 9А, Модель 24 апреля направил в ОКХ письмо, которое просил
доложить Гитлеру. В нём он вполне объективно очертил плачевное положение
дел своих войск перед намеченной операцией и указал на большие изменения,
произошедшие за месяц на том участке, где его армия планировала нанести
главный удар. Он сообщал, что войска Центрального фронта с большой скоро-
стью укрепляют в инженерном отношении свои позиции, и приводил данные
о подходе туда крупных резервов. К письму прилагались фотографии полосы
обороны, сделанные самолётом-разведчиком. Подводя итог, генерал-полковник
просил Гитлера, если наступление по-прежнему крайне важно, до середины мая
обеспечить 9А всем, что было обещано ранее, и отвести для прорыва рубежей
Центрального фронта не сутки, как планировалось, а двое. При невозможности
быстро усилить армию операцию следовало отменить или отложить до тех пор,
пока войска не получат всё необходимое. В противном случае рассчитывать на
успех не стоило27.
Письмо произвело на Гитлера большое впечатление как своим содержани-
ем, так и тем, что его написал именно Модель, которого он высоко ценил. Через
два дня фюрер приказал приостановить подготовку к наступлению на Курск
и вызвать 4 мая на совещание в Мюнхен командующих и начальников штабов
групп армий «Центр», «Юг», 9А и ОКХ. В связи с этим отдел Гелена получил
распоряжение представить Цейтцлеру доклад о выявленных Моделем пробле-
мах «Цитадели» и прежде всего - о существенном укреплении полосы обороны
Центрального фронта и о наличии крупных советских резервов перед южным
крылом ГА «Центр» (полоса 2ТА).
3 мая Гелен доложил: «Как и в предыдущих оценках уже указывалось, ко-
мандование Красной армии начало подготовку к большой наступательной опе-
рации перед северным крылом группы армий “Юг” в направлении Днепра, но
решение ещё окончательно не принято и в связи с этим до решения и вплоть
до назначения даты начала наступления у русских собирается достаточный
оперативный резерв, расположение которого пока не ясно. Пополнение круп-
ных (особенно подвижных) частей в районе Купянск-Старобельск-Валуйки
27
Замулин В.Н. Документ, отсрочивший битву под Курском. С. 30-36.
165
и Короча-Волоконовка-Новый Оскол, а также около Курска и Ливны-Елец
в качестве вероятных резервных групп фронта пока уверенно не обнаружено.
Местами в районе западнее Белгорода и, вероятно, в районе Изюм-Балаклея,
похоже, противник из глубины подтягивает новые силы. Далее непонят-
но расположение 5-й танковой армии (до сих пор фиксировалась в районе
у Острогожска), уже 4 дня полное отсутствие радиосвязи. По некоторым но-
вым, частично непроверенным данным, не исключено, что противник распоз-
нал немецкие планы наступления и в своих общих планах, в первую очередь,
наметил перейти к обороне. Так можно оценить некоторые его известные нам
формы распределения сил. Такое развитие обстановки возможно, хотя ещё не
подтверждено данными, может говорить как о том, что русские готовятся к от-
ражению большого немецкого наступления с далеко продвинутыми вглубь це-
лями, так и о подготовке собственного наступления. Это также может говорить
о том, что противник для уменьшения потерь сначала подождёт наступления
немецких войск, постоянно усиливая оборону, а перейдёт в контрнаступление,
перебросив из тыловых районов резерв для его успешного исхода. Возможно,
целью русского командования будет использование операции на восточном
театре боевых действий для подталкивания союзников к началу наступления
с запада, которое задерживается из-за боёв в Тунисе. Идущее с середины марта
пополнение оттянутых глубоко в тыл частей продолжается и повышает их бое-
способность. Кроме этого, по многочисленным донесениям, противник посто-
янно формирует в тылу новые части и запасные силы перед северным крылом
группы армий “Юг” и южным крылом группы армий “Центр”. Надо рассчиты-
вать на постоянное увеличение вражеских частей и сил и уже сейчас высокую
оборонительную способность русских частей против немецкого наступления.
Оборона перед южным фронтом 2-й танковой армии в связи с уже принятыми
с их стороны мерами может достигать очень высокого уровня»28.
Таким образом, отдел по-прежнему, как и 19 апреля, констатировал: со-
ветское командование продолжает активно укреплять оборону Курской дуги
и накапливать крупные резервы в нескольких местах. Вместе с тем подчи-
нённые Гелена чётко отразили неоднозначность плана Москвы на весенне--
летний период. Действительно, на совещании у Сталина 12 апреля подробно
обсуждалось лишь то, как ситуация под Курском будет меняться до заверше-
ния распутицы, т.е. примерно до начала мая, и все принятые тогда решения
и отданные приказы говорили об обороне. Поэтому командующие Воронеж-
ским (генерал армии Н.Ф. Ватутин) и Центральным (генерал армии К.К. Ро-
коссовский) фронтами, согласовав с Генеральным штабом первые варианты
планов единой для их войск Курской оборонительной операции, по очереди,
25 и 28 апреля, представили их на рассмотрение в Ставку ВГК, где они были
одобрены29. Но при обсуждении этих документов в Кремле генералы получили
приказ: если немцы слишком долго станут тянуть с началом активных дей-
ствий, то оба фронта ударят первыми. Поэтому они должны были готовиться
отразить атаку противника к 10 мая или наступать не позднее 1 июня30. В это
же время военным советам Западного, Брянского и Юго-Западного фронтов
28
Замулин В.Н. «Надо рассчитывать на намерение русских удерживать район Курска»…
С. 49-50.
29
Замулин В.Н. Курск-43… Кн. 2. М., 2019. С. 318.
30
ЦАМО РФ, ф. 16-А, оп. 321, д. 138 (без нумерации листов).
166
поручили приступить к разработке замысла наступления своих войск, которое
предполагалось начать или в заключительной фазе Курской оборонительной
операции, или сразу после её завершения, т.е. когда армии Ватутина и Рокос-
совского двинутся вперёд.
Подготовка масштабного наступления это не только разработка его плана
фронтовыми и армейскими штабами - главным, самым сложным и затрат-
ным во всех отношениях, является формирование ударных группировок, т.е.
перевод резервов из состояния отдыха или обороны в режим готовности ата-
ковать (в том числе переброска сил и вооружения в определённые районы).
Кроме того, это ещё и большая работа, связанная с обеспечением эффектив-
ности артиллерийского огня (определение целей, подвоз боеприпасов и т.д.),
проведение многочисленных рекогносцировок, мероприятий по маскировке
и т.д. И чтобы выявить и подтвердить фактами свои выводы о том, собираются
ли войска Красной армии обороняться или наступать, требовались серьёзные
агентурные возможности или высокое мастерство аналитиков, которые могли
бы по косвенным или очень скромным (кратким, разрозненным) данным точ-
но определить замысел противника. Поэтому доклад 3 мая интересен не только
высказанными в нём оценками, но и тем, что он отражает степень информи-
рованности германской разведки и хотя бы в общих чертах - её агентурные
возможности в этом районе.
Предположительный тон документа, который сразу же обращает на себя
внимание, свидетельствует не столько о сложности и масштабе задачи, сколько
о явной нехватке данных у его авторов. По-видимому, за минувшие две недели
отдел не получил новых значимых донесений, убедительно подтверждавших
сделанные ранее предположения, а они, как отмечалось в первых строках тек-
ста, не изменились и, следовательно, опирались на прежние сведения, лишь
немного дополненные в последние недели апреля, и то из ненадёжных источ-
ников. Похоже, и этот доклад базировался не на фактах, добытых разведчика-
ми, а на стандартной военной логике, которую аналитики отдела Гелена при-
менили для прогнозирования возможных шагов командования Красной армии
в условиях апреля 1943 г.
В приложении к докладу, как обычно, приводилось несколько сообщений,
показавшихся авторам наиболее убедительными. Так, 27 апреля «надёжный
агент» указывал: «В Валуйки прибыли неполные стрелковые дивизии, одна
танковая бригада, два танковых батальона и два артиллерийских полка из Са-
ратова. С танковых заводов в Казани и Горьком каждый день выходят танки,
моторы и танковое вооружение и поступают на фронтовой участок Купянск-
Курск-Орёл». На следующий день «до сих пор не проверенный агент (условно
надёжный)» передал, что «Советы ожидают скорого немецкого большого на-
ступления в районе Харьков-Курск. Обеспечение войск на этом участке осо-
бенно недостаточно. В Воронеж постоянно поступают новообученные группы
солдат». 30 апреля от «помощника командира роты 248-й стрелковой бригады»
стало известно, «что с севера и юга есть опасность окружения, и в связи с этим
свои танки русские собрали у Белгорода и Орла». Наконец, 1 мая появилась
информация, будто «советское командование собрало две танковых дивизии,
одну моторизированную дивизию, пять танковых бригад, три кавалерийских
дивизии и много тяжёлой и лёгкой артиллерии в качестве усиления фронто-
вого участка Харьков-Юг-Белгород для предотвращения немецких операций
на этом участке. Все имеющиеся пехотные и танковые части... в районе Волги
167
перемещаются в район между Доном и Донцом. Резервы авиации находятся
в боевой готовности»31.
Однако танковые и моторизованные дивизии в Красной армии расформи-
ровали ещё во второй половине 1941 г., и в районе Курской дуги весной 1943 г.
их быть не могло. Эта деталь явно свидетельствовала не в пользу агента. Более
ценными являлись известия из 248-й стрелковой бригады, находившейся тогда
на Центральном фронте. Но в Красной армии в то время штатной должности
«помощник командира роты» не было, соответствующие обязанности мог испол-
нять старшина роты или заместитель её командира (лейтенант или старший лей-
тенант). В Вермахте же командир пехотной роты имел несколько помощников
в звании унтер-офицеров. Вероятно, в Службе 1Ц свой источник в 248-й бригаде
назвали по аналогии. Только мог ли старшина или даже младший офицер знать
о распределении советским командованием стратегических резервов? Очевидно,
нет, и едва ли это не понимали высокопоставленные офицеры разведки. Тогда
зачем же это включалось в доклад и даже не отмечалось как не вызывающее
доверия? Видимо, ничего иного у отдела просто не было, и его сотрудникам при-
ходилось представлять руководству ОКХ в том числе и данные сомнительного
качества, если только их источник себя не скомпрометировал.
Тем не менее в целом на первом этапе планирования наступления на Курск
(в апреле и начале мая 1943 г.), несмотря на низкое качество информации, по-
ступавшей из разведструктур, доклады отдела «Иностранные армии - Восток»
отличались объективностью в оценках и точностью прогнозов. Поэтому нет
оснований считать, будто германская разведка (в широком смысле слова) до-
пустила тогда ошибку или занимала слишком оптимистичную и оторванную от
реалий позицию.
Но как эти доклады использовались руководством ОКХ, а возможно, и са-
мим Гитлером, инициатором операции, имели ли они существенное влияние на
разработку «Цитадели»? Судить об этом, не располагая всеми докладами, пере-
данными отделом Гелена в течение весны и начала лета, а также всеми материа-
лами планирования операции, составленными ОКХ на протяжении трёх месяцев
её подготовки, довольно затруднительно. И всё же имеющиеся документы дают
основание для предварительных размышлений.
Цели и задачи наступления, предложенного Манштейном 8 марта, носили
сугубо военный характер (как собственно и выдвинутый Шмидтом план «боль-
ших клещей» под Курском). Два мощных удара в центр и южную часть Курской
дуги предполагалось нанести по войскам Воронежского фронта, которые до этого
три месяца не выходили из тяжёлых боёв, были обескровлены и имели минимум
тяжёлого вооружения и техники. Именно их ослабленное состояние фельдмар-
шал считал залогом успеха. План операции «Цитадель» готовился в совершенно
иных условиях, и при его разработке Гитлер игнорировал факторы, важные для
действующей армии. В середине апреля войска Рокоссовского и Ватутина уже
заняли оборонительные рубежи и начали их укреплять, командующие привели
свои соединения в порядок, получали из тыла пополнения и вооружение, быстро
разворачивался ремонт техники. К тому же Москва ещё до подписания Гитлером
приказа № 6 узнала от своей разведки о намерении немцев перейти в наступле-
ние в районе Курска сразу после распутицы, что способствовало своевременной
организации обороны на опасных направлениях.
31
Замулин В.Н. «Надо рассчитывать на намерение русских удерживать район Курска»… С. 50-51.
168
И высокопоставленные генералы, посвящённые в замысел «Цитадели»,
и Гитлер к 4 мая, перед началом совещания в Мюнхене, уже понимали, что надо
готовиться к прорыву хорошо оборудованных позиций, на которых находятся
соединения, в значительной мере успевшие восстановить свои силы после зимы.
Из-за этого дату перехода в наступление сдвинули с 3 мая на 12 июня, а затем
переносили ещё несколько раз. Однако фюрер так и не отказался от желания
нанести удар именно по тем районам Курской дуги, которые были определе-
ны в апреле. Между тем с конца апреля и вплоть до 5 июля, благодаря кадрам
аэрофотосъёмки, систематически поступавшим в ОКХ, он имел возможность
наблюдать за высокой динамикой и большим масштабом оборонительных ра-
бот на Центральном и Воронежском фронтах. 10 мая фельдмаршал В. Кейтель
недвусмысленно объяснил Гудериану: «Это наступление нужно нам по полити-
ческим причинам»32. Сказано это было в присутствии Гитлера, который никак
не отреагировал на данные слова, т.е. фактически согласился с ними. Таким
образом, «Цитадель» изначально имела не военный, а политический характер,
хотя, безусловно, для Берлина успех Вермахта был необходим.
В этих условиях информация о противнике, обобщавшаяся отделом Гелена
для руководства ОКХ, имела важное значение. Она помогала формировать до-
статочно объективную картину событий по всему советско-германскому фронту,
оценивать потенциальные возможности Красной армии и её группировок на от-
дельных его участках, а также прогнозировать наиболее вероятные решения Мо-
сквы. Однако, поскольку Гитлер решал в первую очередь политические задачи,
без учёта военных реалий, доклады 12-го отдела не могли влиять на ключевые
решения, какие бы данные и соображения он ни представлял. Как отмечал позд-
нее генерал К. фон Типпельскирх, некоторое время служивший в штабе ОКХ,
«Гитлер бесцеремонно отвергал результаты обработки разведданных в Генераль-
ном штабе Сухопутных войск, считая, что они преувеличивают силы противника
и без всякого основания сгущают краски»33.
После войны Гелен писал: «Я использовал любую возможность, чтобы
предупредить командование об опасности проведения крупномасштабного на-
ступления под Курском. Когда же стало очевидным, что высшее немецкое ру-
ководство (Гитлер) не собирается отказываться от операции “Цитадель” - ши-
роких наступательных действий в районе Курска, я 3 июля 1943 г. подготовил
доклад “Оценка предполагаемых действий противника при проведении опера-
ции «Цитадель»”»34. Далее в своей книге он полностью привёл этот документ, со-
хранившийся в Федеральном архиве ФРГ35. В докладе излагались оба варианта,
которые Красная армия на деле осуществит затем под Курском. Правда, в доку-
менте отдела они рассматривались как самостоятельные, тогда как в реальности
представляли собой части единого замысла Москвы. Первый из них (по мнению
Гелена, наименее вероятный) предполагал, что советское командование сосре-
доточит все свои усилия на отражении атак Вермахта, но только в операционной
32
Гудериан Г. Воспоминания немецкого генерала. Танковые войска Германии во Второй ми-
ровой войне. 1939-1945. М., 2009. С. 240. Характерно, что командир 7-й танковой дивизии ГА
«Юг» генерал-майор В. фон Хюнерсдорф, готовясь к наступлению, утверждал, что «будущая опе-
рация нарушает основные правила руководства войсками» и в кругу своих офицеров называл её не
иначе как «идиотской» (Кросс Р. Операция «Цитадель». Смоленск, 2006. С. 133).
33
Типпельскирх К., фон. История Второй мировой войны. Крушение. М., 2018. С. 102.
34
Гелен Р. Указ. соч. С. 90-92.
35
BA-MA. RH. 2/2585.
169
зоне «Цитадели», стягивая туда резервы и с участков соседних фронтов. Второй
вариант допускал, что одновременно с оборонительными боями (против групп
армий «Центр» и «Юг») Москва начнёт готовить силы для перехода в общее
наступление в районе Орла и в направлении нижнего течения Днепра. Кроме
того, Гелен ожидал активизации союзников СССР в Средиземноморье. «Поэто-
му, вполне вероятно, - полагал он, - вскоре после начала нашего наступления
начнутся сильные вражеские отвлекающие удары и контратаки на всех участках
ГА “Юг” и “Центр” и будет проводиться подготовка к их наступлению… Учиты-
вая оценку противника, следует считаться с возможностью его наступательных
действий с целью охвата 6-й армии и 1-й танковой армии - в направлении на
Донбасс, а также с ударом из района Купянска в направлении Харькова, чтобы
глубоко вклиниться во фланг наступающих немецких войск»36.
Качество анализа в данном случае, как и в предыдущих докладах отдела, уди-
вительно. Действительно, на первом этапе Курской битвы Ставка ВГК сосредо-
точит свои основные усилия лишь на сдерживании группировок Моделя и Ман-
штейна, привлекая для этого с Юго-Западного фронта и Степного военного
округа танковые соединения, а затем и несколько армий. И одновременно, ещё
в ходе оборонительных боёв, начнётся давно запланированное наступление -
12 июля, как и указывал Гелен, в районе Орловской дуги, а 3 августа и в направ-
лении нижнего течения Днепра (операции «Кутузов» и «Полководец Румянцев»).
Не ошиблись сотрудники отдела «Иностранные армии - Восток» и с местом
нанесения ударов в полосе ГА «Юг»: уже 17 июля войска Юго-Западного фронта
неудачно атаковали южнее Купянска (в районе Изюма и Барвенково) 1ТА, а со-
единения Южного фронта приступили к проведению Миусской наступательной
операции против 6-й полевой и 1-й танковой армий. 13 августа оба эти фронта
развернули Донбасскую операцию. Таким образом, 12-й отдел примерно за пол-
тора месяца точно предсказал действия советской стороны у Курской дуги и на
примыкающих к ней рубежах. Однако этот прогноз не совпадал с надеждами
Гитлера и заметного влияния на крупные решения не оказал.
Завершая в книге рассказ о «Цитадели», Гелен процитировал последний пе-
ред её началом доклад отдела, направленный 4 июля: «Исходя из общего воен-
ного положения, проведение операции “Цитадель” в настоящее время ничем
не обосновано и не оправдано. Для любой успешной операции предпосылками
служат два непременных условия: превосходство в силах и момент внезапно-
сти. Обе эти предпосылки реально существовали в начале разработки операции.
Сейчас же оценка противника свидетельствует: нет ни той, ни другой. Русские
ожидают наше наступление в указанном районе уже в течение нескольких не-
дель. С присущей им энергией они не только произвели необходимые инже-
нерные работы по созданию многополосных позиций, но и сосредоточили там
соответствующие силы и средства, достаточные для того, чтобы отразить наше
наступление. Таким образом, маловероятно, что наш удар будет иметь необходи-
мую пробивную силу. Учитывая количество имеющихся в распоряжении русских
резервов, нельзя ожидать, что операция “Цитадель” перемелет их и противник
не сможет в нужный момент приступить к исполнению своих запланированных
намерений. Немецкая же сторона, принимая во внимание общее военное по-
ложение (обострение обстановки на Средиземном море!), будет лишена столь
необходимых резервов, так как они будут уже задействованы и израсходованы.
36
BA-MA. RH. 2/2585. S. 45.
170
Считаю запланированную операцию “Цитадель” ошибкой, за которую потом
придётся серьёзно расплачиваться»37. С данным утверждением Гелена трудно не
согласиться. Впрочем, в то время о проблемах, изначально не позволявших рас-
считывать на успех, говорили уже все противники наступления, посвящённые
в процесс его подготовки.
Сложнее всего, пожалуй, по сохранившимся документам установить, как
германские спецслужбы оценивали численность советских резервов, накоплен-
ных к началу июльских боёв или хотя бы на каком-то этапе подготовки опера-
ции. В определённой мере составить об этом представление помогает документ
«Оценка советских танковых сил в известных танковых частях на 21 апреля
1943 года и предполагаемый запас танков противника до 1 мая 1943 г.»38. В нём
собран довольно большой статистический материал о численности танковых
тактических соединений перед всеми четырьмя немецкими группами армий,
действовавшими тогда на советско-германском фронте. Например, в нём
утверждалось, что на 21 апреля перед войсками Вермахта от Ленинграда до
Кавказа (кроме Карельского фронта) советское командование будто бы рас-
положило 164 танковых бригады, 87 танковых полков, 30 отдельных танковых
батальонов, в которых якобы насчитывалось 4 300 танков (т.е. на 7 400 мень-
ше, чем полагалось по штату39). В действительности же в составе 11 фронтов
и 7-й отдельной армии, удерживавших оборону перед группами армий «Се-
вер», «Центр», «Юг» и «А», на 1 мая находилось 96 танковых бригад (в том
числе 58 отдельных и 33 - в составе танковых и механизированных корпусов),
74 танковых полка и 26 отдельных танковых батальонов. Следовательно, дан-
ные отдела Гелена по численности бригад были завышены на 68 соединений
(58,5%), по полкам занижены на 13 частей (8,5%), а по батальонам - на 4 под-
разделения (8,7%)40.
«Кроме этого, - отмечалось в докладе, - можно сделать вывод, что до
1 мая 1943 г. в процессе постоянного производства и использования запасов на
фронт прибудет ещё 1 900 боеспособных танков, из которых 1 500 танков (три
четверти, вероятно) пойдут в качестве пополнения и одна четверть, 400 танков,
будут распределены по новым формированиям»41. Трудно сказать, какой источ-
ник передал германской разведке столь значительные цифры бронетехники,
поступление которой будто бы ожидалось в течение ближайших десяти суток,
и откуда стало известно о её дальнейшем предназначении. Согласно директиве
Государственного комитета обороны СССР № 3107сс от 1 апреля 1943 г., все
танковые заводы СССР в течение месяца, по плану, должны были выпустить
2 205 танков всех типов, включая 1 630 Т-34 и КВ42 (остальные - Т-70, Т-80).
И в немецкой, и в советской оборонной промышленности учёт выпущенной
техники вёлся по дням, неделям, месяцам и т.д. Следовательно, до 21 апре-
37
Гелен Р. Война разведок. Тайные операции спецслужб Германии 1942-1971. М., 1999.
С. 92-93.
38
BA-MA. RH. 2/2585.
39
Замулин В.Н. «Надо рассчитывать на намерение русских удерживать район Курска»…
С. 48-49.
40
Военно-научное управление Генерального штаба. Боевой состав Советской Армии. Ч. 3.
М., 1972. С. 79-102. К сожалению, пока нет возможности сравнить все указанные в докладе цифры
с советскими данными.
41
BA-MA. RH. 2/2585. S. 38.
42
Великая Отечественная. Государственный комитет обороны. Т. 3. Кн. 1. М., 2017. С. 179.
171
ля в войска уже должно было поступить какое-то количество боевых машин,
и можно предположить, не меньше чем ожидалось в последнюю декаду. Од-
нако очевидно, что эти цифры существенно завышены. В апреле 1943 г., когда
только закончилась зимняя кампания, в ходе которой советские подвижные
соединения играли ключевую роль, но и несли каждый день большие потери,
отдельные корпуса со штатом около 200 танков выводились в тыл, располагая
лишь 10-15 боевыми машинами. Поэтому советское командование всю выпу-
скавшуюся технику направляло в действующую армию, оставляя в резерве не
более нескольких сотен танков. Следовательно, доклад не создавал объектив-
ного представления ни о мощи бронетанковых войск 11 советских фронтов, ни
о реальных возможностях промышленности СССР. Тем не менее именно эти-
ми данными оперировали генералы ОКХ при планировании «Цитадели». Не-
удивительно, что Гитлер считал их необоснованными и не принимал в расчёт.
В лучшую сторону, хотя и не существенно, отличались сведения о количе-
стве танковых и механизированных корпусов (тк и мк), находящихся в резерве
Ставки ВГК. Разведка обеих сторон с особым вниманием относилась к выявле-
нию наличия на том или ином участке фронта крупных подвижных соединений
(танковых, моторизованных, механизированных корпусов, дивизий, бригад),
мест их сосредоточения, номеров, численности и т.д. Более того, к середи-
не 1943 г. и советские кавалерийские корпуса, несмотря на свою уязвимость,
по-прежнему рассматривались германским командованием как существенная
сила, обладавшая высокой манёвренностью и боевыми возможностями. По-
этому их перемещение пристально отслеживалось Абвером.
Подобное отношение отразилось и в документе «Общая оценка против-
ника перед группой армий “Юг” на 13.7.1943 г.», который был подготовлен
в отделе Гелена сразу же после масштабного столкновения 5-й гв. ТА с дву-
мя немецкими танковыми корпусами у Прохоровки. В нём, в частности, го-
ворилось: «На фронте наступления группы армий противник, после первого
удара и прорыва первой и второй линии обороны, пытается остановить наше
наступление, используя у армейской группы “Кемпф” свои прифронтовые ре-
зервы (69-я армия), а у 4ТА - бросая вперёд атакующие оперативные резервы
(1-ю танковую армию в составе 3-го механизированного, 6-го и 31-го танковых
корпусов и ещё два танковых корпуса - 2-й гвардейский и 5-й гвардейский).
При этом надо отметить, что противник снова и снова пытается атаковать
наше ударное остриё фронтально и значительно меньше атакует его с флангов.
В тяжёлых боях противнику не удаётся предотвратить прорыв, и армейская
группа “Кемпф” уничтожает его дивизии, а у 4ТА его атакующие по очереди
оперативные соединения уже сильно потрёпаны. После подтягивания стрелко-
вых и танковых частей из глубины, противник 12.7 перешёл в контрнаступле-
ние. В то время как он перед армейской группой “Кемпф” атаковал в основном
пехотными частями и отдельными самостоятельными танковыми частями на
фронте шириной в 20 км, против 4ТА было предпринято концентрическое
наступление свежих танковых частей (10, 18 и 29 тк), в основном, во фланги,
а пехотой - фронтально. Эта попытка провалилась с большими потерями для
противника, особенно в танках. Поскольку противник перед 4ТА бросил в бой
минимум 2-3 танковых армии (1-ю, 5-ю гвардейскую и 3-ю танковую) с 8 тан-
ковыми корпусами и одним механизированным корпусом, в глубине у него
остался лишь очень ограниченный оперативный резерв (4 гв. мк, 3 гв. тк, 1-й
и 6-й гвардейские кавалерийские корпуса, возможно 11 тк и, если он вос-
172
становлен, 4 гв. тк). Остальные части ему придётся перебрасывать с других
фронтов. Таким образом, противнику, всеми уже брошенными оперативными
соединениями, не удалось достичь успеха»43.
Авторы доклада перечислили все подвижные соединения, введённые в бой
командованием Воронежского фронта и Ставкой ВГК за первые восемь суток
Курской битвы, за исключением 5 гв. мк. Столь высокая точность объяснялась
объективными данными, полученными от пленных и из документов, собранных
у убитых на поле боя. Подтверждением тому служит отсутствие в докладе упо-
минания о 5 гв. мк, который в то время тоже входил в состав 5 гв. ТА44 и уча-
ствовал в боях 12 июля, но в тот день ни один его военнослужащий в плен не
попал, а тела погибших остались на территории, занятой советскими войсками45.
Поэтому о его появлении в полосе наступления ГА «Юг» немцам стало известно
чуть позже.
А вот утверждение, будто, несмотря на введение в бой больших сил, совет-
ское командование на юге Курской дуги не достигло успеха и «в глубине у него
остался лишь очень ограниченный оперативный резерв», абсолютно не соот-
ветствовало действительности. Именно 13 июля, когда Геленом был подписан
доклад, Гитлер вызвал в Ставку Клюге и Манштейна и объявил им о свёр-
тывании «Цитадели». Едва ли это можно объяснить чем-то, кроме успешных
действий Красной армии. При этом помимо четырёх перечисленных в докладе
подвижных соединений, которые, по мнению сотрудников 12-го отдела, точно
или предположительно, пока не участвовали в сражении и могли быть перебро-
шены в район Курской дуги (4 гв. мк, 3 гв. тк, 4 гв. тк и 11 тк), в СтепВО име-
лись также 1-й, 2-й, 3-й гвардейские механизированные корпуса и 5-й гв. мк,
уже подошедший на Воронежский фронт, располагавшие в общей сложности
более чем 800 танками. А в прямом подчинении Ставки ВГК были ещё 5 мк
и 25 тк (более 320 танков). Кроме того, в распоряжении командующего СтепВО
находились не два кавалерийских корпуса, как утверждалось в докладе (1 гв.
и 6 гв.), а три (3 гв., 5 гв. и 7 гв.) и ещё два (2 гв. и 6 гв.) - в подчинении Став-
ки ВГК46. Следовательно, в момент начала свёртывания «Цитадели» Красная
армия могла использовать в районе Курской дуги не 6, а 11 крупных подвиж-
ных соединений: 5 кавалерийских, 6 танковых и механизированных корпусов
с более чем 1 120 танками (помимо нескольких общевойсковых армий). Поте-
ри, понесённые ею в оборонительных боях под Курском, оказались значитель-
ными, но они не смогли сорвать её летнюю кампанию, к чему так стремились
в Берлине. Впоследствии Манштейн откровенно признал: «Мы, конечно, не
ожидали от советской стороны таких больших организаторских способностей,
которые она проявила в этом деле (формировании резервов. - В.З.), а также
при развёртывании своей военной промышленности. Мы встретили поистине
гидру, у которой на месте одной отрубленной головы вырастали две новые»47.
43
BA-MA. RH 2/2585. S. 64-65.
44
Замулин В.Н. Оборонительные бои советских сухопутных войск на южном фасе Курской
дуги: обоянское и прохоровское направления (5-16 июля 1943 г.). Дис. … канд. ист. наук. Курск,
2009. С. 208.
45
Замулин В.Н. Танковое побоище. Правда о «величайшем танковом сражении». М., 2010.
С. 509-510.
46
Военно-научное управление Генерального штаба. Боевой состав Советской Армии. Ч. 3.
С. 175-179.
47
Манштейн Э., фон. Утерянные победы. М., 2016. С. 504.
173
Причина существенной разницы в точности докладов отдела «Иностран-
ные армии - Восток», относившихся к вопросам стратегического планирова-
ния и боевого потенциала Красной армии, заключалась прежде всего в высокой
эффективности действий её командования, а также фронтовых и армейских
органов контрразведки «Смерш», сумевших обеспечить скрытность сосредото-
чения свежих сил и не допустить к ним вражескую агентуру. Так, уже к началу
мая Абвер и Люфтваффе зафиксировали между Доном и линией Орёл-Курск--
Купянск большую группировку резервных войск, включая и 5 гв. ТА. Однако
им не удалось раскрыть всю систему формировавшихся стратегических резер-
вов и места их дислокации. Бессильными в этой ситуации оказались и анали-
тики Гелена. Не имея необходимой информации о планах противника, они,
опираясь на личные знания, основы оперативного искусства и опыт предыду-
щих лет войны с СССР, могли дать верный прогноз о решениях и действиях
советского командования, но при определении численности и состава войск
наличие точных данных являлось условием критически важным. Добыть же
сведения подобного рода агентурным путём и с помощью технических средств
(радио и авиаразведки) становилось всё сложнее. Как писал руководитель раз-
ведки РСХА В. Шелленберг, «необозримые просторы России позволяли нашим
агентам месяцами колесить по стране, не обнаруживая себя. Но, в конце кон-
цов, большинство из них всё же попали в руки НКВД»48.
В целом же отдел «Иностранные армии - Восток» ОКХ в период планиро-
вания и подготовки операции «Цитадель» не раз верно указывал, что советское
командование рассматривает удар Вермахта в районе Курской дуги как очень
вероятный и активно готовится к его отражению. Его сотрудники не сомнева-
лись в намерении Ставки ВГК во что бы то ни стало удержать занятые пози-
ции, а затем использовать их как удобный плацдарм для крупномасштабного
наступления на Орёл и Левобережную Украину. В документах, представлен-
ных Геленом руководству штаба ОКХ, раскрывались и основные инструмен-
ты достижения этих целей: укрепление обороны Курской дуги и накопление
стратегических резервов. При этом довольно точно обозначались районы их
сосредоточения. Вместе с тем, учитывая положение 12-го отдела в структуре
стратегического планирования и ограниченные возможности по сбору сведе-
ний о потенциале Советского Союза (в частности, отсутствие информирован-
ных источников в военно-политических кругах СССР и слабость агентурной
сети в оперативном тылу фронтов), он не смог представить объективный ана-
лиз численного и боевого состава действующих войск Красной армии, а также
количества резервов, собранных Ставкой ВГК весной и в первый месяц лета
1943 г. Приводившиеся им цифры являлись сильно завышенными.
Таким образом, при более взвешенном и менее политизированном подхо-
де руководства Германии к планированию летней кампании Вермахта докла-
ды Гелена могли бы заметно скорректировать задачи войск и характер боевых
действий.
48
Шелленберг В. В паутине СД. М., 2021. С. 277.
174