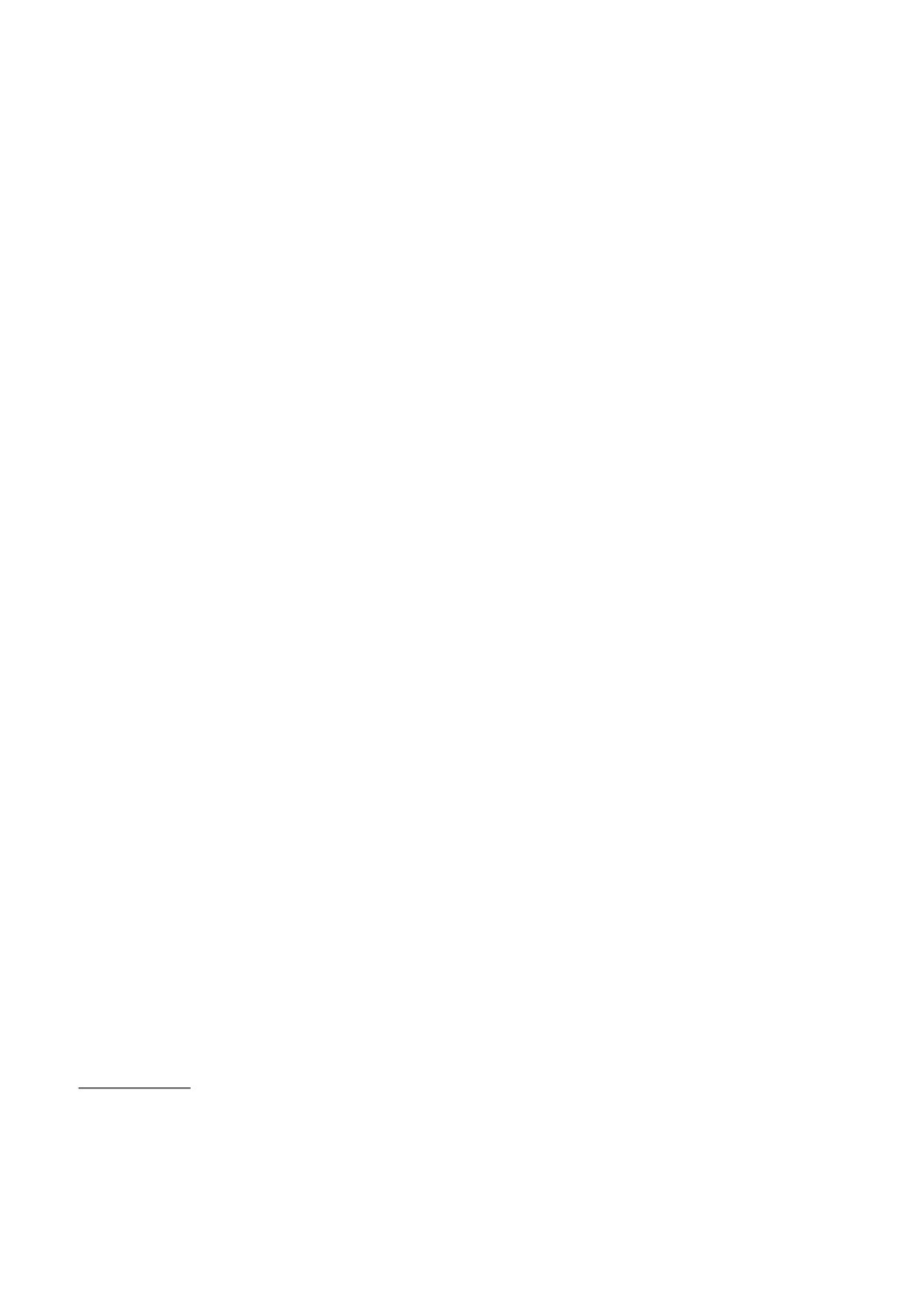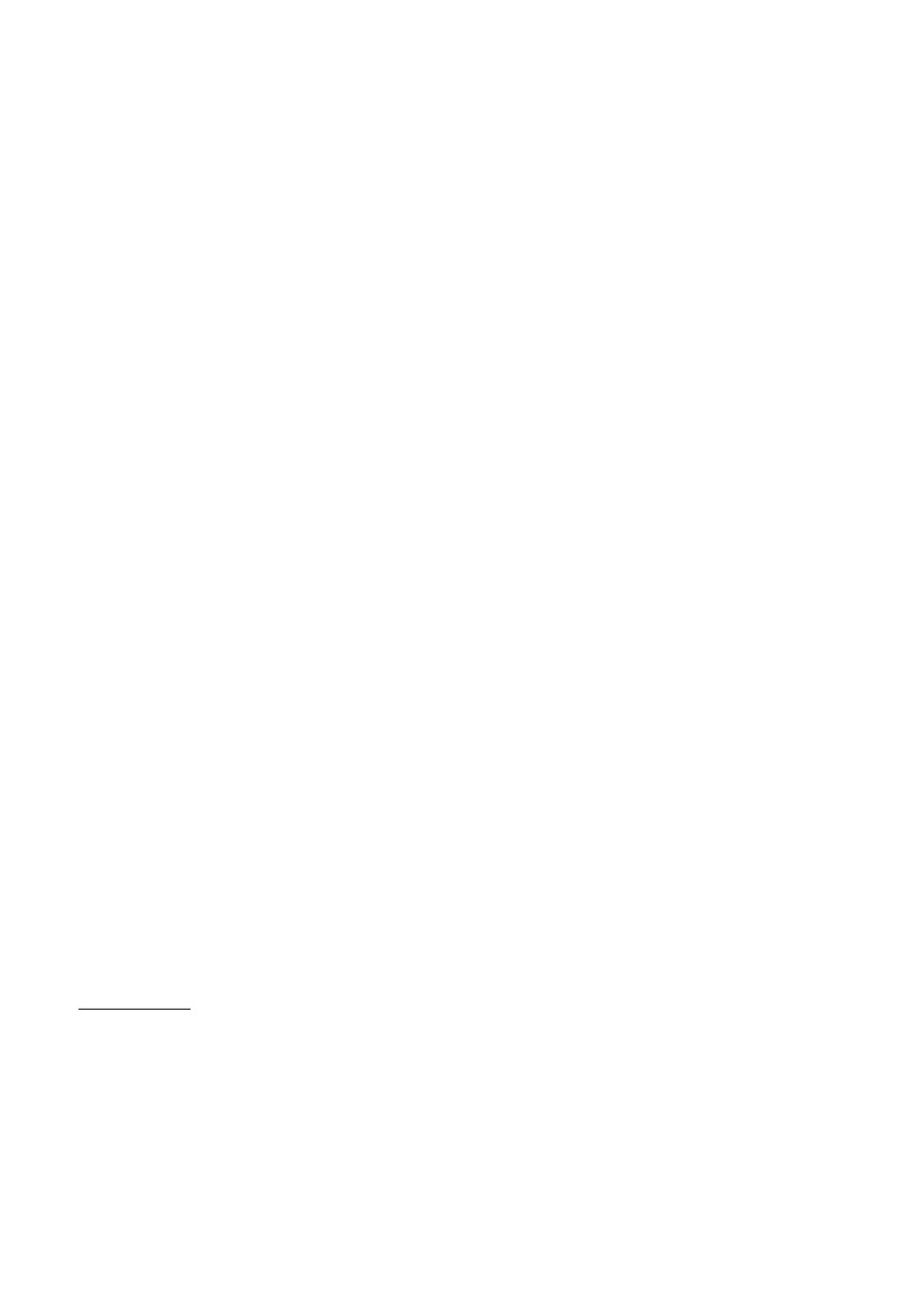Нарушения трудовой дисциплины
в годы Великой Отечественной войны:
причины, правоприменение и динамика
(на материалах городов Владимирской области)
Илья Тряхов
Labor discipline violations during the Great Patriotic War:
reasons, law application and dynamics
(based on materials of the cities of the Vladimir region)
Ilja Tryahov
(Vladimir State University, Russia)
DOI: 10.31857/S0869568722030141, EDN: FXLAVU
В годы Великой Отечественной войны уклад жизни советских людей изме-
нился кардинальным образом, даже учитывая то, что в довоенные годы страна
уже находилась в состоянии, близком к мобилизационному. Стремительное
наступление Вермахта и катастрофические неудачи на фронте заставляли со-
ветское руководство принимать радикальные меры, в том числе в тылу, и они
не всегда оказывались продуманными. Среди прочего незадолго до войны и во
время неё было ужесточено трудовое законодательство. Новые указы, издан-
ные в июне 1940 г. и декабре 1941 г., фактически выводили ряд нарушений
дисциплины на предприятиях за границы действия Кодекса законов о труде
1922 г. и переводили их в сферу административного и даже уголовного права.
С этого времени покинуть место работы можно было только с согласия руко-
водства, а самовольный уход приравнивался к дезертирству на фронте. Опозда-
ния и прогулы карались серьёзным штрафом на длительный срок. Государство
стремилось мобилизовать все имеющиеся ресурсы для военных нужд, поэтому
эти жёсткие меры оказались оправданными в глазах современников и последу-
ющих поколений.
Однако современный этап развития исторической науки ставит новые
вопросы, решение которых возможно на основе разработки материалов ре-
гиональных архивов. Первый вопрос - как выглядела правоприменительная
практика указов 1940 и 1941 гг. на местах, имела ли она свою специфику и со-
ответствовала ли Уголовно-процессуальному кодексу. Второй вопрос касается
причин, заставлявших граждан (в основном рабочих) нарушать трудовую дис-
циплину. В связи с этим стоит выяснить, стремились ли местные партийные
и хозяйственные руководители избавиться от истинных причин нарушений
или искали отговорки. Третий вопрос - о динамике нарушений, причём не
только по годам войны, но и по отраслям экономики. Мои попытки выявить
такую динамику на примере г. Коврова - индустриального центра Владимир-
ской обл. - не увенчались успехом. В то же время предшествующие исследо-
вания позволили выдвинуть предположение, что уровень нарушений зависел
от таких факторов, как размер предприятия и его стратегическая важность;
© 2022 г. И.С. Тряхов
191
условия жизни и работы персонала; отношение руководства к подчинённым;
возрастной состав рабочих и постоянные места их проживания.
В советской историографии данной проблематике уделялось незначитель-
ное внимание, так как признание фактов неоднозначного поведения немалой
части рабочих и служащих в годы войны противоречило общей концепции все-
народной борьбы с фашизмом. Исследователи писали в первую очередь о тру-
довом подвиге рабочих, в то время как цена этого подвига и условия его совер-
шения глубоко не изучались1. Это касалось как работ общесоюзного характера,
так и трудов по отдельным регионам и отраслям. На примере г. Владимира это
хорошо видно в исследовании А.С. Бланка, который рассказал о достижениях
заводов и трудящихся в перевыполнении планов и рационализаторстве, а так-
же акцентировал внимание на суровых условиях военного времени, в которых
рабочие являли примеры самоотверженного труда. Жёсткие законы же автор
обошёл стороной2. Выявление масштабных нарушений трудовой дисциплины
могло подорвать традиционное восприятие деятельности тыла. Идеологическая
машина, а вслед за ней и историческая наука считали, что рабочие имели вну-
треннюю мотивацию для самоотверженного труда. Многие жители СССР по
своему опыту знали о суровости трудового законодательства военных лет. Рас-
сказы родственников, переживших то время, оказывались важным источником
информации. Однако системной научной работы не велось.
Различные аспекты трудовой деятельности населения в военные годы раз-
рабатываются в отечественной исторической науке со времён перестройки,
когда началось рассекречивание архивных фондов. Исследуются условия жиз-
ни рабочих и служащих, мотивация их труда3 и девиантного поведения4, анали-
зируются причины и масштабы дезертирства мобилизованных граждан с пред-
приятий5. Отдельные работы посвящены реконструкции социального портрета
1
Зинич М.С. Трудовой подвиг рабочего класса в 1941-1945 гг. (по материалам отраслей
машиностроения). М., 1984; Аникин А.С. Трудовой подвиг рабочих Владимирской и Ивановской
областей в годы Великой Отечественной войны: очерки, эссе. Владимир, 1969; Володарский Л.М.
Советский тыл в годы Великой Отечественной войны // Вопросы истории. 1985. № 7. С. 14-34.
2
Бланк А.С. Владимир: краткий очерк истории города. Владимир, 1954. С. 66-67.
3
Загвоздкин Г.Г. Цена Победы. Социальная политика военных лет. Киров, 1990; Тогоева С.И.
Факторы влияния на мотивацию труда (на материалах Тверского вагоностроительного завода
в 1941-1951 гг.) // Экономическая история. Обозрение. Вып. 8. М., 2002. С. 39-56; Шалак А.В.
Система мотивации в системе распределения в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) //
Историко-экономические исследования. 2011. Т. 12. № 2. С. 20-40; Романов Р.Е. Трудовые сти-
мулы рабочих оборонных предприятий Сибири в годы Великой Отечественной войны (на при-
мере комбината «Сибметаллстрой») // Историко-экономические исследования. 2014. Т. 15. № 2.
С. 309-332.
4
Сомов В.А. По закону военного времени. Очерки истории трудовой политики СССР в годы
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Н. Новгород, 2001; Романов Р.Е. Рабочая молодёжь
оборонных предприятий в Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).
Дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 2009.
5
Сомов В.А. Труд и долг: материально-бытовые аспекты трудовой мотивации в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг. (по материалам Волго-Вятского региона) // Историко--
экономические исследования. 2011. Т. 12. № 2. С. 5-19; Кладов В.Ю. Дезертирство с оборонных
предприятий Пензенской области в 1942-1944 гг. // Альманах современной науки и образования.
2015. № 10. C. 55-59; Желаева С.Г. Рабочая молодёжь в годы Великой Отечественной войны
(на материалах Республики Бурятии) // Вестник Бурятского государственного университета. 2015.
№ 7. С. 24-29; Земсков В.Н. Организация рабочей силы и ужесточение трудового законодательства
в годы Великой Отечественной войны // Международные отношения. 2014. № 1. C. 104-114.
192
нарушителей6. Изучаются социально-бытовые проблемы, которые чаще всего
и являлись главной причиной различных нарушений7. Особое внимание при-
влекает изучение методов стимулирования работников с целью минимизации
нарушений8. Учёные стремятся понять значение факторов принуждения в деле
мобилизации тружеников тыла9. Исследования в данном направлении ведутся
не только по разным регионам РСФСР, но и по союзным республикам, нахо-
дившимся в тылу10. Особую роль сыграли труды В.Н. Земскова, который по
итогам кропотливой работы с архивными документами опубликовал статистику
судебных преследований11 по указам от 26 июня 1940 г. и 26 декабря 1941 г.,
а также по ст. 193-7 п. «г» УК РСФСР12. Выявленные данные позволяют понять
масштабы действия этих нормативных актов, и оценить количество людей, так
или иначе ими затронутых.
Нередко изучаемый вопрос рассматривается в рамках сталинской репрес-
сивной политики13. Трудовая политика военных лет представляется органи-
ческим её продолжением, элементом целостной эпохи сталинизма, который
не следует выделять в отдельный период14. Однако здесь необходим историче-
ский контекст. Жёсткие трудовые законы вводились большевиками ещё в годы
Гражданской войны. Кроме того, проблема дисциплины на производстве не-
избежно связана с мотивацией труда. Ужесточение законодательства имело
своей важнейшей целью мотивировать рабочих и служащих к ударному труду.
Принуждение, которое уже использовалось по отношению к части населения
в предшествующие десятилетия, казалось советскому руководству естествен-
ным способом добиться цели15.
6
Белоногов Ю.Г., Мазука А.А. Нарушители трудовой дисциплины на Краснокамском
целлюлозно-бумажном комбинате в 1940-1946 годы: эволюция социологического портрета // Вест-
ник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Культура. Исто-
рия. Философия. Право. 2017. № 1. С. 106-112; № 3. С. 42-51; Чуриков А.В. Трудовые отношения на
эвакуированных предприятиях тяжёлой промышленности в Челябинской области (1941-1946 гг.) //
Вестник Удмуртского университета. Сер. История и филология. 2011. № 3. С. 125-129.
7
Скрипник А.Н. Социально-бытовые аспекты проблем трудовой дисциплины на советских обо-
ронных предприятиях в 1941-1945 гг. // Genesis: исторические исследования. 2017. № 9. С. 142-158.
8
Скрипник А.Н. Методы стимулирования трудовой дисциплины на советских оборонных
предприятиях в 1941-1945 гг. // Экономическая история. 2019. Т. 15. № 1. С. 91-102.
9
Сомов В.А. Привлечение к труду и трудовая дисциплина в годы Великой Отечественной вой-
ны, 1941-1945 гг.: по материалам Горьковской области. Дис. … канд. ист. наук. Н. Новгород. 1998.
10
Мухаммадиев И.С., Мухаммадиева Д. Привлечение к труду и борьба с нарушениями тру-
довой дисциплины в Таджикистане в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) //
Чёрные дыры в российском законодательстве. 2015. № 2. С. 25-30.
11
Земсков В.Н. Указ. соч.
12
О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запреще-
нии самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений: Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. // Сборник законов СССР и указов Президиума Верхов-
ного Совета СССР. 1938-1944 гг. М., 1945. С. 141-142; Об ответственности рабочих и служащих
предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий: Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г. // Там же. С. 247-248.
13
Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия. Политический портрет И.В. Сталина. М., 1989; Медве-
дев Р.А. О Сталине и сталинизме. М., 1990.
14
Ганценмюллер Й. Осаждённый Ленинград. Город в стратегических расчётах агрессоров и за-
щитников. 1941-1944 / Пер. с нем. А.Л. Уткина. М., 2019; Шубин А.В. 10 мифов советской страны.
М., 2006.
15
Наиболее подробный анализ законотворчества в изучаемой сфере см.: Пищулина С.Ю. Ре-
гулирование норм трудового права чрезвычайными органами власти в первый период Великой
193
Современная историография содержит широкий спектр работ по тематике
данной статьи, но не исчерпывает её. Неизученными остаются многие регио-
ны Советского Союза, что не позволяет создать обобщающее исследование по
трудовой политике и трудовым отношениям в годы Великой Отечественной
войны. Также не в полной мере исследованы причины и динамика нарушений
трудовой дисциплины, особенности исполнения нормативных актов в этой
сфере. В данной статье я попытаюсь выявить причины девиантного с точки
зрения закона поведения трудящихся, реакцию на это структур власти и дина-
мику нарушений на примере отдельно взятого региона СССР.
При анализе поставленных проблем следует учитывать масштабные изме-
нения в половозрастном составе рабочей силы - как в целом по стране, так
и во Владимирском регионе. По данным Д.И. Пономарёва, «к 1944 году по
сравнению с довоенным 1940 годом в 4 раза выросло на предприятиях число
работающей молодёжи до 20-летнего возраста, её отряд в промышленности со-
ставлял 112 тыс. человек - почти 75% от общего количества рабочих»16. Уве-
личилось и количество женщин, занятых в производственной сфере, но кон-
кретных цифр по региону в настоящий момент не имеется. Это обусловлено
в том числе тем, что область оказалась выделена из состава Ивановской лишь
в 1944 г. В последующие полгода в её состав вошли несколько районов Горь-
ковской и Московской областей, что дополнительно усложняет сопоставление
данных разных архивов.
Представление об условиях, в которых существовали работники, проживав-
шие в общежитиях, формировалось на основе докладных записок посещавших
их проверяющих, жалоб граждан в партийные и советские инстанции по этому
поводу. Такие жалобы, а также нарушения трудовой дисциплины нередко об-
суждались на пленумах и заседаниях бюро горкомов. Хорошо сохранившаяся
документация (до сих пор, увы, рассекреченная не полностью) донесла до нас
обширный массив сведений о повседневности тех лет. Частично реконструиро-
вать её можно и по воспоминаниям.
Повседневная жизнь и быт рабочих и служащих были очень непростыми.
В первую очередь это касалось молодёжи, мобилизованной на предприятия,
а также на строительство тракторного завода во Владимире, которое началось
в 1943 г. В источниках отмечается, что привлечённые к строительству ВТЗ
немецкие военнопленные работали хуже, чем мобилизованные девушки, при
этом условия жизни этих работниц были плохими17. В протоколе заседания
Александровского горкома указано, что руководство одного из заводов сняло
комнату для шести молодых рабочих, которая находилась в антисанитарном со-
стоянии: не отапливалась, в ней отсутствовали койки и даже стулья, а постель-
ные принадлежности за полгода ни разу не менялись. В течение нескольких
месяцев после начала войны в паровозном депо четверо учеников слонялись
без дела, так как для них не было работы18. Редко отапливалось общежитие
хрустального завода (г. Гусь-Хрустальный), где жили бывшие воспитанники
Отечественной войны (на примере Сталинградской области) // Вестник Волгоградского государ-
ственного университета. Сер. 4. История. 2013. № 1. С. 26-35.
16
Пономарёв Д.И. Владимирский край в годы Великой Отечественной войны // Великая Оте-
чественная война и современность. Материалы научно-практической конференции, посвящённой
50-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Владимир, 1995. С. 66.
17
Государственный архив Владимирской области (далее - ГА ВО), ф. П-830, оп. 1, д. 7, л. 27.
18
Там же, ф. П-119, оп. 3, д. 96, л. 146.
194
школы фабрично-заводского ученичества. Из-за этого им приходилось ложить-
ся на койки в верхней одежде, а двое детдомовцев вообще ночевали в цехах
предприятий под верстаками19. Но не лучшим было и отношение к «старым»
кадрам, хотя квалифицированных работников осталось лишь восемь человек.
Отмечался большой разрыв в зарплате старых и молодых мастеров. Директор
Шапиро характеризовался как бездушный человек20. Снижали производитель-
ность труда и другие бытовые заботы. В протоколе III городской партийной
конференции (июль 1944 г.) отмечалось, что после смены, которая заканчи-
валась в 3 часа ночи, работницы фабрики «Красный Профинтерн» ехали за
дровами21.
В Муроме плохие условия отмечались в цехе № 2 завода им. Компар-
тии Франции: отсутствовали умывальник и кипяток, уборные содержались не
в порядке. По мнению проверяющих, именно неудовлетворительными быто-
выми условиями и объяснялся рост прогулов22. Часть мобилизованных рабочих
жила прямо на заводе «Станкопатрон». Койки стояли без досок, а некоторые
и без матрацев, не имелось даже вешалок. Кроме того, кровати не были за-
креплены за конкретными работниками. Проверка выяснила, что рабочие не
мылись в бане по полтора месяца, распространялась завшивленность23. По-
хожая ситуация наблюдалась и на стрелочном заводе, где рабочие (бывшие
детдомовцы) жили в недостроенном доме и спали на двухъярусных нарах на
грязных матрацах, без всякого белья24. Плохое выполнение производственных
норм и обусловленные этим низкие зарплаты и небольшие пайки объясня-
лись малым вниманием, которое уделялось молодым работникам со стороны
начальников цехов и участков. Секретарь Муромского горкома на одном из
пленумов отмечал: «Они больше наблюдают и ждут, когда станочник освоит
свою операцию»25.
Схожие бытовые условия и питание рабочих-одиночек отмечались и в Ков-
рове26. Помимо этого обращалось внимание, что некоторые общежития с мо-
мента их открытия никто из хозяйственного, комсомольского и профсоюзного
руководства не посещал27. В общежитии текстильной фабрики им. Абельмана
не было сушилок, поэтому одежду и обувь жителям приходилось сушить около
печей жилой комнаты, а картофель варить в умывальнике, на зиму отсутство-
вали дрова28. Многие рабочие нуждались в обуви и одежде, но фабрика не
всегда вовремя их обеспечивала29. Неудивительно, что на этом предприятии
оказалось больше всего работников, нарушавших трудовую дисциплину и де-
зертировавших. Далёким от идеала оставалось состояние завода им. Киркижа:
сырость, грязь, захламлённость, отсутствие в умывальниках горячей воды, рост
заболеваемости в полтора раза по сравнению с довоенным уровнем, невыдача
по три-четыре месяца спецмыла и спецжиров рабочим, необеспеченность их
19
Там же, ф. П-118, оп. 63, д. 38, л. 46.
20
Там же, оп. 1, д. 170, л. 23.
21
Там же, л. 9.
22
Там же, ф. П-495, оп. 1, д. 96, л. 19.
23
Там же, оп. 5, д. 12, л. 117 об.
24
Там же, л. 168.
25
Там же, оп. 1, д. 81, л. 7.
26
Там же, ф. П-116, оп. 63, д. 30, л. 34; ф. П-100, оп. 56, д. 75, л. 4.
27
Там же, ф. П-116, оп. 63, д. 32, л. 183.
28
Там же, л. 109.
29
Там же, оп. 1, д. 121, л. 4.
195
одеждой30. Кроме того, рабочая молодёжь долгое время питалась только один
раз в день, в отличие от «старых» работников. Директор завода Фомин не пред-
принимал никаких действий вплоть до того момента, пока горком не вменил
ему это в обязанность31.
Отношение заводских администраций к рабочим различалось, но случаев
равнодушия или грубости источниками зафиксировано немало. Партийный ин-
структор из Коврова писал в горком о разнообразных ситуациях, когда завод-
ские администраторы вели себя по отношению к рядовым рабочим не только
незаконно, но и не по-человечески. Так, фрезеровщица завода им. Киркижа
Линючева просила начальника цеха отпустить её домой в Вязниковский район
к больной матери, приурочив отъезд к выходному дню с последующей отработ-
кой в выходной. Не получив разрешения, она самовольно не вышла на работу
и была осуждена на пять месяцев исправительно-трудовых работ с вычетом 25%
зарплаты. В другом цехе этого завода у сверловщицы-стахановки Бабашовой
в сентябре 1942 г. возникла необходимость отъезда на родину за тёплой одеждой.
На поданную при поддержке председателя профкома Миронова просьбу об от-
пуске на один день она получила от начальника цеха Самойлова отказ. Жен-
щина страдала болезнью рук от уколов стружкой и уехала на родину, получив
освобождение по болезни. По возвращении её перевели на фрезерный станок.
Вмешательство Миронова и секретаря ВЛКСМ Свиридова не помогло. Более
того, заместитель начальника цеха Солнцев заявил, что если Бабашова ещё раз
заболеет, то будет переведена в уборщицы. Партийному инструктору заявили,
что перевод вызван производственной необходимостью, с чем тот не согласился
и в отчёте заключил, что это сделано из мести32. Заместитель начальника цеха
№ 4 того же завода Ухоботнов хотел отдать под суд работницу Макарову, пе-
ревыполнявшую производственные нормы, за уход на перевязку в здравпункт,
заявив: «Раз ей надоело есть 800 грамм хлеба, пусть кушает 600 грамм»33. На-
чальник цеха № 25 Калягин направлял не имевших обуви девушек в лес на
заготовку дров, а при отказах от поездки оформлял дела в суд. В 1942 г. имели
место систематические задержки заработной платы, что вызывало у рабочих не-
довольство и нежелание выполнять распоряжения администрации34.
Такая повседневная жизнь была характерна не только для мобилизован-
ных местных. Сложность организации для них сносных условий размещения
и работы можно объяснить массовым и быстрым наплывом в города населения
в довоенные годы, с началом индустриализации. Но в похожей ситуации ока-
зывались и мобилизованные, прибывшие на предприятия из других регионов
СССР. Так, в марте 1943 г. на один из заводов Коврова направили группу
таджиков из Сталинабада - 327 человек. Их разместили в общежитии, но усло-
вия проживания оставляли желать лучшего. Партийный инструктор, проверяв-
ший помещение, где они жили, пришёл к выводу, что оно больше похоже на
конюшню. Кроме того, с мобилизованными не вели разъяснительной работы
о том, как себя вести. В результате они забирались на нары в обуви и верхней
одежде, на тумбочках около коек чистили картошку и готовили обед. У них не
имелось второго комплекта белья, и они не могли отдать в стирку имевшуюся
30
Там же, д. 44, л. 204.
31
Там же, л. 135.
32
Там же, д. 129, л. 16.
33
Там же, оп. 63, д. 36, л. 69 об.
34
Там же, оп. 1, д. 93, л. 2 об.
196
одежду. Даже питание было организовано нерационально. Людям выдавали
продукты по жировым карточкам один раз на 24 рабочих дня, а в остальные
дни они оставались без горячего. Разумеется, не учитывались и их пищевые
традиции, в результате чего некоторые отказывались от обедов, где присут-
ствовали блюда из свинины. Это приводило к истощению за короткий период.
Были зафиксированы и другие моменты, говорившие о полном отсутствии ор-
ганизационной и культурно-массовой работы35.
На языке эпохи невнимание ответственных работников к нуждам рабочих
называлось «бездушным отношением» и «грубым искажением дисциплинарной
практики». Директора Владимирского хлебокомбината Крылова уволили с ра-
боты за нетактичность и беспробудное пьянство36. Тем же отличались руково-
дящие лица на торфяных разработках около Гусь-Хрустального37. Кольчугин-
ский горком требовал от прокуратуры разобраться с руководителями, которые
не в состоянии обеспечить правильный распорядок и длительность рабочего
дня38. Произвол начальствующего состава, скудость питания и затяжной рабо-
чий день, по воспоминаниям современников, приводили к тому, что некото-
рые работники дезертировали с заводов, стремясь уйти в действующую армию,
так как там лучше кормят39.
И в целом уже тогда многим было ясно, что нарушения дисциплины на-
прямую связаны с неустроенностью повседневной жизни. Городской прокурор
Владимира Бутримович на одном из заседаний горкома рассказывал следу-
ющее: «Я приведу пример бездушного отношения к рабочим на тракторном
заводе. Недавно там сбежало 10 человек рабочих, они были задержаны, и когда
стали выяснять причины, оказывается, вместо того, чтобы им дать возмож-
ность нормально работать, их гоняли с места на место, то в совхоз, то в город
Горький, а зарплату им не платили. Кроме того, у них нет ни обуви, ни одеж-
ды»40. При этом следует заметить, что строительство тракторного завода явля-
лось «ударной стройкой». В конце 1944 г. на совещании обкома отмечалось,
что во время стройки так и не организовали помещение, где люди могли бы
погреться, и во время работы строители вынуждены большую часть времени
проводить у печей и костров41.
Таким образом, сложнейшие жилищные и бытовые условия значительной
части рабочих - обыденное явление военных лет. Причём не обнаружено за-
висимости между таким состоянием дел и стратегической важностью пред-
приятия, принадлежностью к той или иной отрасли промышленности. Всё это
нашло отражение в отчётах проверяющих42. Руководители горкомов и прокура-
тура по мере возможности реагировали, достаточно быстро поняв, что именно
улучшение жизненных условий могло повысить производительность труда. Од-
35
Там же, д. 129, л. 28-29 об.
36
Там же, ф. П-100, оп. 56, д. 60, л. 81; д. 61, д. 15.
37
Там же, ф. П-118, оп. 1, д. 167, л. 20.
38
Там же, ф. П-503, оп. 4, д. 29, л. 10.
39
Путь к Победе. Ковров в 1941-1945. Сборник материалов о Великой Отечественной вой-
не / Сост. Н.Е. Комарова, О.А. Монякова. Ковров, 2005. С. 50; Победители. Воспоминания участ-
ников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. М., 2010. С. 286; Поиск. Никто не
забыт, ничто не забыто. Воспоминания владимирцев - участников Великой Отечественной войны.
Владимир, 2011. С. 580.
40
ГА ВО, ф. П-100, оп. 56, д. 75, л. 4.
41
Там же, ф. П-830, оп. 1, д. 7, л. 27.
42
Там же, ф. П-116, оп. 1, д. 121, л. 10-10 об., 16.
197
нако привести положение дел в удовлетворительное состояние удалось далеко
не везде. Руководство предприятий, занятое в первую очередь выполнением
производственного плана, нечасто обращало внимание на бытовые нужды тру-
дящихся и прочие «второстепенные вопросы» (справедливости ради следует
сказать, что их возможности в этой сфере были ограничены). Усугубляли ситу-
ацию травмы, получаемые во время работы из-за ненадлежащего исполнения
правил техники безопасности.
Всё вышеперечисленное приводило к нарушениям трудовой дисциплины.
Изучение этой сферы имеет большое значение в исследовании повседневности
сталинизма. Анализ правоприменительной практики оттеняет общепринятое
представление о жестокости режима и суровости его методов. Выясняется, что
обыденными явлениями были отступления от буквы закона, случаи как излиш-
ней репрессивности, так и отсутствия реакции на систематические нарушения.
Всё это приводило к конфликтам между ответственными за поддержание дис-
циплины и партийными инстанциями. Причём даже в рамках отдельно взятого
города всё зависело от разных факторов и отличалось от предприятия к пред-
приятию, поэтому вряд ли в этом вопросе возможно найти единую тенденцию.
Судя по доступным официальным данным (нередко отрывочным), на мелких
предприятиях дисциплина была выше и имела в основном положительную ди-
намику, т.е. количество нарушений снижалось. Это можно объяснить как раз-
мерами, позволявшими отслеживать поведение работников, так и сомнитель-
ной статистикой - в таких мастерских и артелях куда проще скрыть нарушения.
Впрочем, они не могут сильно повлиять на общую динамику нарушений, так
как подавляющее большинство рабочих трудились на крупных фабриках и за-
водах. К тому же на многих небольших предприятиях рабочие часто появля-
лись в нетрезвом виде, пререкались с руководством, несвоевременно начинали
работу и отказывались от неё. Всё это служило причиной жалоб руководителей
артелей и фабрик в городские комитеты партии43.
При анализе вынесенных судебных решений необходимо иметь в виду не-
сколько специфических факторов. Во-первых, сами условия военного времени,
усиливавшие суровость приговоров. Во-вторых, как уже отмечалось, этот пе-
риод - продолжение и неотъемлемая часть сталинской эпохи со всеми её юри-
дическими и правоприменительными особенностями и недостатками (в осо-
бенности традицией вынесения жёстких приговоров). В-третьих, невысокий
уровень правовой грамотности не только обвиняемых, но и их руководителей,
направлявших дела в суд, и самих судей, далеко не всегда способных вынести
справедливое и честное решение.
Так, на X Владимирской городской партийной конференции в июле 1942 г.
отмечалось, что сроки рассмотрения дел регулярно нарушались и задержива-
лись на 10-15 дней. Прокуроры мало занимались профилактикой правонару-
шений44. В 1944-1945 гг. ситуация немного улучшилась, в большинстве случаев
судьи стали укладываться в отведённые законом сроки, хотя отдельные наре-
кания оставались. Отменённые приговоры составляли 1,76% от общего числа.
В то же время партийцы критиковали работу среди населения по разъяснению
советской законности45.
43
Там же, д. 93, л. 2.
44
Там же, ф. П-100, оп. 56, д. 50, л. 76.
45
Там же, ф. П-118, оп. 1, д. 82, л. 69.
198
Регулярно становились предметом обсуждения случаи неправомерного
привлечения к ответственности за нарушение трудовой дисциплины. В прото-
коле одного из заседаний Ковровского горкома отмечалось, что «начальники
цехов не считаются с достоинством рабочего в производстве и не учитывают,
при каких условиях нарушил указ и на всех прогульщиков передают дело в суд.
Считают, что дело суда - разберётся в каждом отдельном случае нарушения»46.
Следствием этого стала перегруженность судей, которые из-за этого зачастую
не успевали выносить решения в отведённый законом срок47. Описывался слу-
чай, когда рабочего Н.Ф. Моисеева, эвакуированного из Ленинграда, привлек-
ли по указу от 26 декабря 1941 г., хотя ему не в чем было ходить на работу.
Его обращения к начальнику цеха Завьялову не возымели действия - тот его
попросту выгнал из кабинета. Стахановца А.Е. Пичугина администрация за-
вода преследовала за прогул, случившийся из-за опоздания поезда и неразбе-
рихи с объявлениями отправления на станции, рядом с которой жил рабочий
(суд Пичугина оправдал, а дело прекратил)48. Опоздания поездов происходили
и в других городах области, что прямо отражалось на трудовой дисциплине.
Горкомы требовали от железнодорожников придерживаться расписания, но
в условиях военного времени этот вопрос решить так и не смогли49.
Горком Гусь-Хрустального в большом количестве прогулов обвинил ру-
ководство специализировавшейся на производстве текстиля и стекла фабри-
ки «Красный Профинтерн»: начальников цехов и отделов, главного инженера
Тейковцева и директора Кузьмина. В апреле-мае 1942 г. они давали необосно-
ванные отпуска на 10-15 дней руководителям цехов и служащим для поездки
за продуктами, семенами и под предлогом «похорон снохи, увезти детей на
родину» и т.д.50 Рабочих с такого же рода просьбами не отпускали, а с их про-
гулами предпочитали бороться только административным путём. За невыход на
работу в тот же день вручали повестку в суд. В протоколе заседания горкома
отмечалось: «Руководители фабрики часто попадают в конфузное положение -
дело на работницу передали в суд, а она лежит в больнице»51.
Работницу Владимирского тракторного завода Чигринову арестовали за де-
зертирство. Расследование выяснило, что она трудилась в транспортном цехе,
но по документации отдела кадров числилась в литейном, хотя не работала там
ни дня. Бухгалтер Владимирского промкомбината Филимонов якобы прогулял,
но по свидетельским показаниям ему разрешили отпуск, и суд его оправдал52.
Работницу Вязниковской фабрики «Парижская коммуна» Федотову сначала
осудили за прогулы, но потом директор фабрики и юрисконсульт прислали
запрос о прекращении дела, так как выяснилось, что она находилась на боль-
ничном. Похожая ситуация - с рабочим Блохиным. Руководители горкома по-
считали, что передачей такого рода непроверенных материалов в прокурату-
ру партийные и хозяйственные организации показывают отсутствие реальной
борьбы с нарушениями53.
46
Там же, ф. П-116, оп. 1, д. 130, л. 4.
47
Там же, ф. П-119, оп. 3, д. 96, л. 146.
48
Там же, ф. П-116, оп. 1, д. 130, л. 4.
49
Там же, ф. П-495, оп. 1, д. 96, л. 64.
50
Там же, ф. П-118, оп. 1, д. 82, л. 69.
51
Там же, оп. 63, д. 12, л. 3.
52
Там же, ф. П-100, оп. 56, д. 50, л. 76.
53
Там же, д. 75, л. 4-4 об.
199
Нарушения трудовой дисциплины превратились в системные даже на стра-
тегически важных предприятиях. На заводе им. Киркижа имелись цеха, где
трудовая дисциплина нарушалась 15-20 работниками ежедневно. Директор
Фомин жаловался на городских врачей, которые якобы выдавали им бумаги
с диагнозом «алкоголизм». По его словам, на заводе много симулянтов. На пле-
нуме Ковровского горкома он отметил: «Когда рабочему надо освободиться дня
на три, он напивается солёной воды или наносит себе членовредительство»54.
На неправомерные выдачи больничных листков жаловались и директора дру-
гих заводов города55.
Рассматривались разные способы улучшения трудовой дисциплины.
В Гусь-Хрустальном предлагали женить молодого токаря, чтобы он заботился
о семье и выполнял нормы выработки56. Выдвигалась идея популяризировать
имена лучших работников, для чего следовало использовать стенную печать57
и активно вести воспитательную работу58. На III городской партконференции
(1945) рекомендовалось обсуждать случаи дезертирства рабочих на собраниях
и проводить товарищеские суды59. Ставилась задача борьбы за дисциплину сре-
ди коммунистов, поскольку их нарушения негативно сказывались на настрое-
ниях беспартийных60.
Отмечалось стремление хозяйственников нивелировать жёсткость норм
законодательства. Так, директора фабрики «Красный луч» Кузнецова сняли
с работы и осудили за то, что он не оформлял материалы на дезертиров и брал
их на свой завод61. В иных случаях заведение дел передавалось второстепенным
руководящим работникам, из-за чего они не доводились до суда62. В документах
Вязниковского горкома отмечалось отсутствие точного учёта судебных реше-
ний63. Подверглась критике народный судья г. Вязники Сухова, не привлекшая
к ответственности ни одного руководителя за несвоевременное и неправильное
оформление актов на нарушителей трудовой дисциплины64. Немалое количе-
ство дезертировавших с предприятий смогли скрыться и не были осуждены65.
Количество нарушений не сократилось и по окончании войны с Германи-
ей. Более того, летом 1945 г. число самовольных уходов трудящихся с предпри-
ятий выросло. Партийные и хозяйственные инстанции объясняли это тем, что
многие мобилизованные полагали: раз война закончилась и происходит демо-
билизация армии, а их с работы не увольняют, то всё равно можно оставить
производство. По закону это по-прежнему считалось дезертирством и пресле-
54
Там же, ф. П-116, оп. 63, д. 28, л. 17, 19.
55
Там же, ф. П-118, оп. 1, д. 170, л. 17.
56
Там же, оп. 63, д. 12, л. 4.
57
Там же, д. 28, л. 32.
58
Там же, оп. 1, д. 124, л. 130. На одном из заседаний горкома Гусь-Хрустального отмечалось,
что «факты нарушений дисциплины не обсуждаются среди рабочего коллектива, общественные
суды не работают, стенная печать не бичует лодырей, рвачей, дезорганизаторов производства»
(Там же, ф. П-495, оп. 1, д. 125, л. 36; ф. П-100, оп. 56, д. 60, л. 81 об.; ф. П-118, оп. 1, д. 170, л. 4;
ф. П-791, оп. 63, д. 18, л. 10).
59
Там же, ф. П-495, оп. 5, д. 139, л. 94; оп. 1, д. 149, л. 8.
60
Там же, ф. П-118, оп. 1, д. 82, л. 10.
61
Там же, ф. П-495, оп. 5, д. 139, л. 94; ф. П-118, оп. 1, д. 82, л. 10.
62
Там же, ф. П-118, оп. 1, д. 167, л. 20.
63
Там же, ф. П-791, оп. 63, д. 18, л. 10.
64
Там же, д. 12, л. 56.
65
Там же, ф. П-118, оп. 1, д. 96, л. 5.
200
довалось, тем более что 29 июля 1944 г. вышло постановление СНК СССР
о своевременном розыске дезертиров производства. Однако органы правопо-
рядка неоднократно подвергались критике за плохое исполнение этого нор-
мативного акта. На основании указа президиума Верховного совета СССР от
7 июля 1945 г. об амнистии66 все дела были прекращены. Возможно, этим
объясняется то, что во втором полугодии количество нарушений так и не отме-
нённых «военных» законов о труде увеличилось ещё больше.
Согласно имеющейся статистике, в целом по СССР количество нарушений
трудовой дисциплины в 1940-1945 гг. имело тенденцию к снижению. Нару-
шители составляли чуть больше половины от общего количества осуждённых,
но если в 1940 г. их было 2,09 млн человек (61,5%), то к 1945 г. стало 1,18 млн
(46,5%)67. Жёсткость указов 1940 и 1941 гг. ослабил чрезвычайный масштаб про-
блемы, так что 30 декабря 1944 г. Верховный совет СССР выпустил постановле-
ние «О предоставлении амнистии лицам, самовольно ушедшим с предприятий
военной промышленности и добровольно вернувшимся на эти предприятия».
При анализе документов горкомов общей динамики во Владимирском ре-
гионе выявить не удалось. По-видимому, количественные показатели наруше-
ний зависели в первую очередь от местных обстоятельств - условий жизни,
быта и работы тружеников тыла в конкретном городе, а часто ещё и на кон-
кретном предприятии. Отчёты последних прямо указывали, что основная масса
нарушений падала на молодых людей в возрасте до 20 лет, с небольшим стажем
работы68.
Это подтверждается следующими данными. В Гусь-Хрустальном с фабрики
«Красный Профинтерн» во втором полугодии 1941 г. самовольно ушли почти
300 человек, а прочих нарушений дисциплины стало больше на 517 в сравне-
нии с первым полугодием69. Среди прогульщиков в подавляющем большинстве
случаев числилась молодёжь70. Осенью многих перевели на строительство обо-
ронительных сооружений, но организовали его из рук вон плохо. Руководство
предприятия не знало, на каких именно позициях находятся многие работни-
ки71. По другим предприятиям города данные ещё более отрывочны, но при
этом показательны. На заводе № 802 за 9 месяцев 1942 г. отмечено 34 прогула
и 24 опоздания; были и повторно осуждённые - 8 человек72. В 1943 г. ситуация
не улучшилась: за 11 месяцев зафиксировано 169 нарушений, причём 157 из
них пришлись на молодёжь 1927 г.р. и моложе73. Данные отчёта о работе про-
мышленности и транспорта зафиксировали в 1942 г. 4 242 случая нарушений,
а за 1943 г. - 1 835. По отдельным предприятиям динамика не всегда совпадала
с общегородскими показателями74.
Отмечалась высокая текучка кадров. С начала войны до 15 октября 1942 г.
на «Красный Профинтерн» прибыли 1 186 человек, а убыли 1 336. От общего
66
Там же, ф. П-116, оп. 1, д. 162, л. 20 об.
67
История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х - первая половина 1950-х годов. Собрание
документов в 7 т. Т. 1. Массовые репрессии в СССР / Сост. И.А. Зюзина. М., 2004. С. 611.
68
ГА ВО, ф. П-495, оп. 1, д. 102, л. 8 об.
69
Там же, ф. П-118, оп. 1, д. 86, л. 17.
70
Там же, л. 46.
71
Там же, д. 96, л. 4.
72
Там же, д. 87, л. 33.
73
Там же, д. 125, л. 204.
74
Там же, д. 163, л. 37.
201
числа рабочих (3 306) новые составляли 25%. Похожая ситуация наблюдалась
и на заводе № 802: за 16 военных месяцев пришёл 341 человек из общего чис-
ла в 546 рабочих (62%). На хрустальном заводе за тот же период приняли 448
человек, а уволили 1 038. Были предприятия, где контингент работников обно-
вился на 100%75. При этом новых сотрудников предстояло обучить. Инструк-
тор горкома Рудницкий на городской партконференции 15-16 июля 1944 г.
отметил, что текучесть приводит к затруднениям с рабочей силой. С завода
№ 802 ушли более 4 тыс. рабочих, в том числе до 3 тыс. самовольно покинули
производство В течение 1944 г. с предприятия ушли ещё 297 человек76, из них
43 - самовольно77. Чуть лучше оказалась ситуация на «Красном Профинтерне»:
там за второе полугодие 1944 г. дезертировали 185 человек, кроме того отмече-
но 130 прогулов, немало было и хищений78.
Причину дезертирств оратор видел в плохом бытовом устройстве работ-
ников. Кроме того, негативно сказывалось и использование рабочих не по
специальности. Рудницкий сетовал, что случаи дезертирства плохо изучаются
руководством предприятий. Вся их роль сводится к подписанию приказа о на-
рушителях. Также допускается грубость к малолетним. Инструктор упомянул
о том, что мастер-коммунист цеха завода № 802 избил мальчика на производ-
стве, а горком, разбирая этот эпизод, не принял к нему никаких мер. Надо от-
метить, что к лету 1944 г. состав горкома сильно изменился, ряд ответственных
работников «вышли из доверия» и были сняты с постов. Новому составу бюро
горкома нужно повести борьбу с примиренчеством, считал инструктор79.
В самом Владимире с 1943 г. шла «ударная» стройка тракторного завода.
В течение первого же года здесь за нарушение трудовой дисциплины осудили
1 500 человек80. К маю 1944 г. количество нарушений возросло до 2 тыс. При-
чём выяснилось, что 10-12% нарушителей - подростки до 18 лет81. Алексан-
дров являлся важным транспортным узлом, но и здесь отмечались эпизоды
плохой организации труда, в связи с чем партийные документы констатирова-
ли увеличение к концу 1942 г. прогулов на заводах города82. Ковровский завод
им. Киркижа выступал одним из главных производителей стрелкового оружия
для армии, где трудились выдающиеся конструкторы во главе с В.А. Дегтярё-
вым. Но даже здесь вопрос дисциплины стоял очень остро. В 1942 г. каждый
месяц фиксировалось не менее 500 случаев нарушений. Причём 8% из них
совершил начальствующий состав83. Ежемесячная проверка документации про-
куратурой в 1945 г. установила, что на заводе небрежно вели табели, отметки
об отсутствующих часто оказывались неверными. Материалы в суды и про-
куратуру направлялись с запозданием. Самовольные отлучки и дезертирство
с предприятий также не исчезли. В первом полугодии 1945 г. в прокуратуру
поступило 411 дел, из них 361 - по заводу им. Киркижа и 50 - по фабрике
75
Там же, д. 140, л. 20-20 об., 24.
76
Там же, д. 170, л. 26.
77
Там же, д. 178, л. 47 об.
78
Там же, д. 211, л. 16.
79
Там же, д. 170, л. 4, 22.
80
Там же, ф. П-100, оп. 56, д. 75, л. 4.
81
Там же, д. 76, л. 5 об.
82
Там же, ф. П-119, оп. 3, д. 96, л. 146.
83
Там же, ф. П-116, оп. 63, д. 36, л. 72.
202
им. Абельмана. Выяснилось, что 128 дел возбуждены неправильно, и их при-
шлось прекратить84.
С началом войны возросло число нарушений в Муроме85, в том числе про-
гулов - в три раза86. Только за второе полугодие 1941 г. в армию ушли 2 449 че-
ловек, а приняты на предприятие 5 092 рабочих, из них 1 992 женщины87. На
фабрике «Красный прядильщик» с июня по ноябрь обозначился резкий рост
нарушений со стороны работников, затем (в декабре 1941 - феврале 1942 г.)
нарушений не отмечалось, после чего снова последовал резкий рост с пиком
в июне88. За 1943 г. с заводов дезертировали 938 человек89. В материалах III го-
родской партконференции констатировалась большая текучесть рабочей силы.
Всего с 1940 по 1945 г. с предприятий ушли 7 740 человек, хотя наблюдалось
некоторое сокращение потока: если в 1943 г. дезертировали 1 042 человека, то
в 1944 г. - 64690.
Определённой тенденции по количеству нарушений трудовой дисциплины
на предприятиях Владимирского региона выявить не удалось. По всей види-
мости, гипотеза об отсутствии или очень слабой прямой связи фронтовой об-
становки и нарушений подтверждается, по крайней мере источники позволяют
предположить именно это. Лишь в первые полгода можно выявить тенденцию
к увеличению нарушений с последующим некоторым снижением в 1942 г. Пе-
рехват стратегической инициативы не оказал ощутимого положительного влия-
ния на сокращение их количества. Больше того, в этом отношении для многих
предприятий 1943 г. оказался более благоприятным, чем следующий - успеш-
ный в военном плане.
Динамика зависела от социально-бытовых и жилищных условий, а также
от деятельности в этой сфере руководства завода или фабрики. В его обязанно-
сти входило разбирательство с причинами нарушений, но имеющиеся данные
говорят, что руководители лишь отдельных предприятий увязывали повседнев-
ную жизнь и дисциплинированный труд сотрудников и стремились добиться
улучшений. Значительно большее количество администраторов предпочитало
бороться с нарушениями не профилактической работой, а простой передачей
дел в прокуратуру, тем более что никакой ответственности за это руководящие
работники не несли. Более того, будучи хозяевами положения, они нередко
допускали вольную трактовку законодательства и даже прямые его нарушения.
Как следствие, трудящимся было непросто добиться справедливости. Едва
ли не единственной инстанцией, где несправедливо осуждённые могли попы-
тать счастья, являлись местные партийные комитеты. Именно их сотрудники
пытались разобраться в правильности исполнения указов 1940 и 1941 гг., на
почве чего нередко возникали конфликты с хозяйственниками, которых они
считали виновными в беспорядках. Директоров заводов, начальников цехов
и мастеров производственных участков критиковали за нежелание интересо-
ваться бытовыми нуждами рабочих, проживавших в общежитиях91. Профсою-
84
Там же, д. 162, л. 20 об.
85
Там же, ф. П-495, оп. 1, д. 102, л. 8.
86
Там же, д. 96, л. 20.
87
Там же, л. 12.
88
Там же, д. 125, л. 35.
89
Там же, оп. 5, д. 12, л. 166.
90
Там же, д. 139, л. 94.
91
Там же, ф. П-119, оп. 3, д. 96, л. 146.
203
зы тоже нередко игнорировали эту важнейшую сферу92. В то же время нель-
зя сказать, что вмешательство структур ВКП(б) было массовым явлением. Да
и предлагавшиеся партийцами меры не отличались эффективностью. Архив-
ные материалы показывают, что бороться с нарушениями они рекомендовали
в первую очередь при помощи массовой агитационной (политической и вос-
питательной) работы с трудящимися, особенно с молодёжью. Воздействие же
административными методами должно было выступать крайней мерой.
Проблема слабой дисциплины имела глубокие социальные корни. Зна-
чительное число рабочих составляли подростки, на которых и приходилась
основная доля нарушений. Они имели низкую квалификацию и не обладали
опытом работы, уклад фабрично-заводской жизни был для них непривычным.
Это накладывалось на никуда не годные условия проживания и тяжёлый труд,
маленькую зарплату, которую на некоторых предприятиях ещё и задерживали.
Ответная реакция оказалась предсказуемой - прогулы, опоздания и самоволь-
ные уходы («дезертирство»). Власти же не смогли ни побороть эту проблему
репрессивными методами, ни что-то кардинально изменить.
92
Там же, ф. П-118, оп. 63, д. 38, л. 46.
204