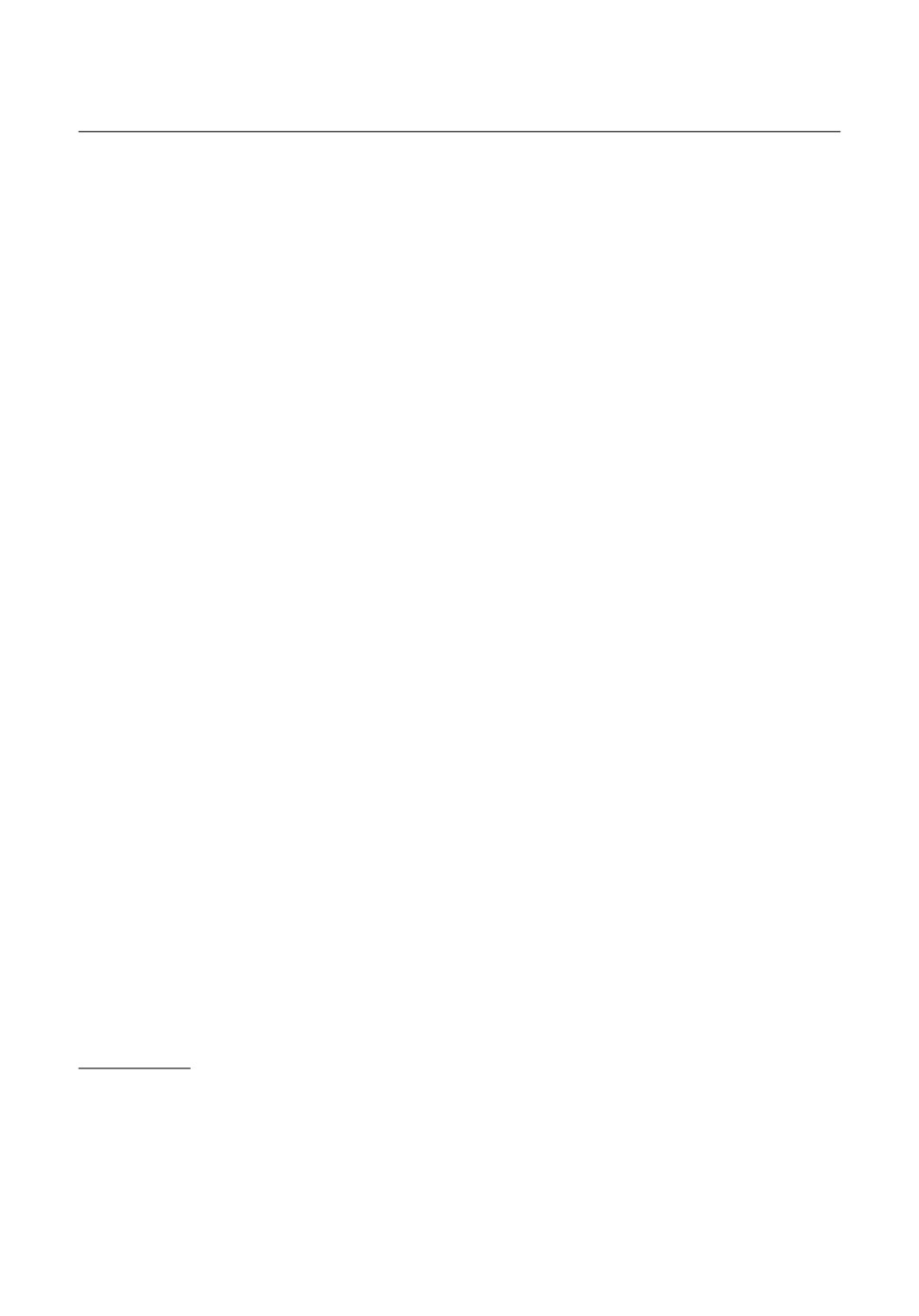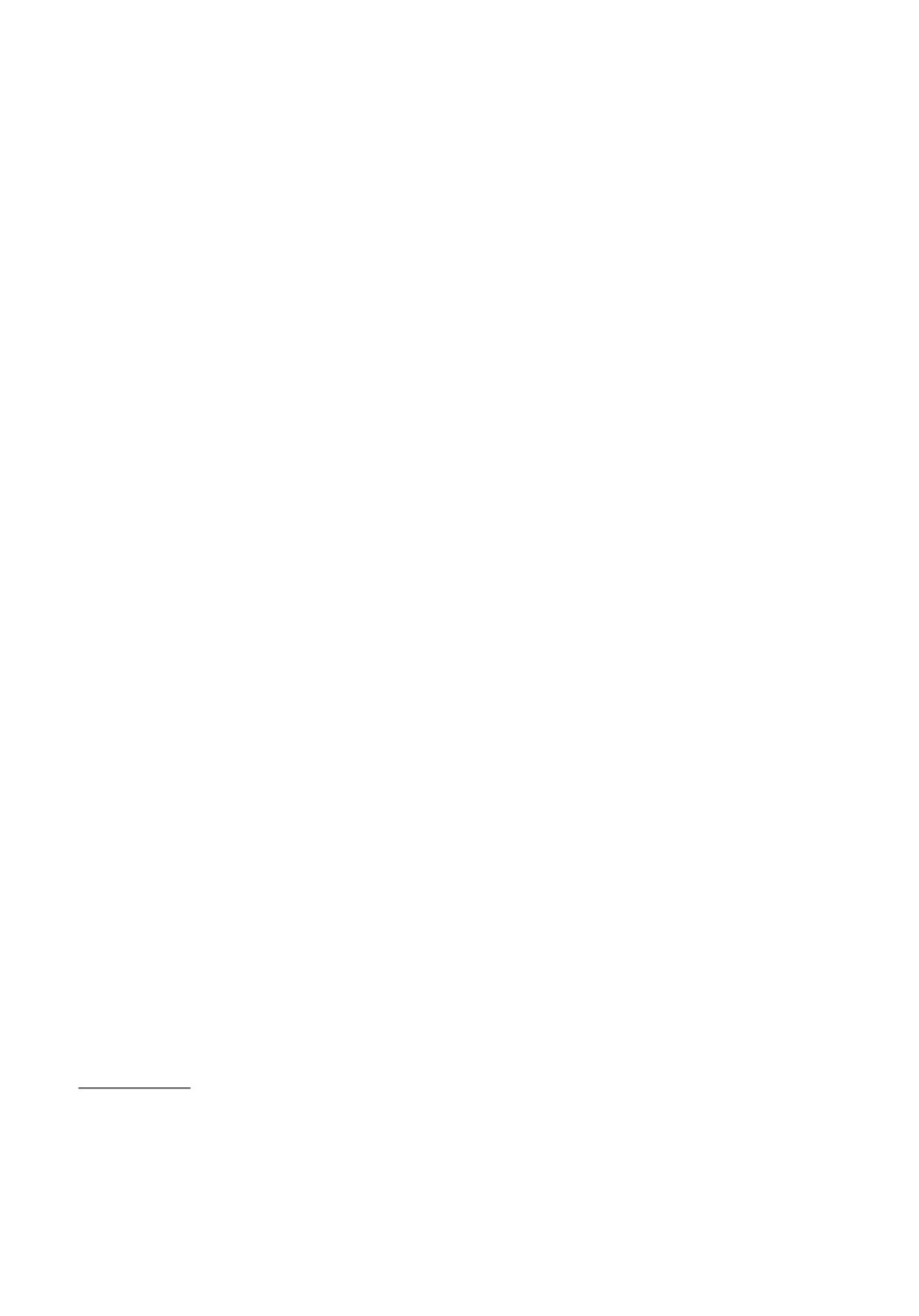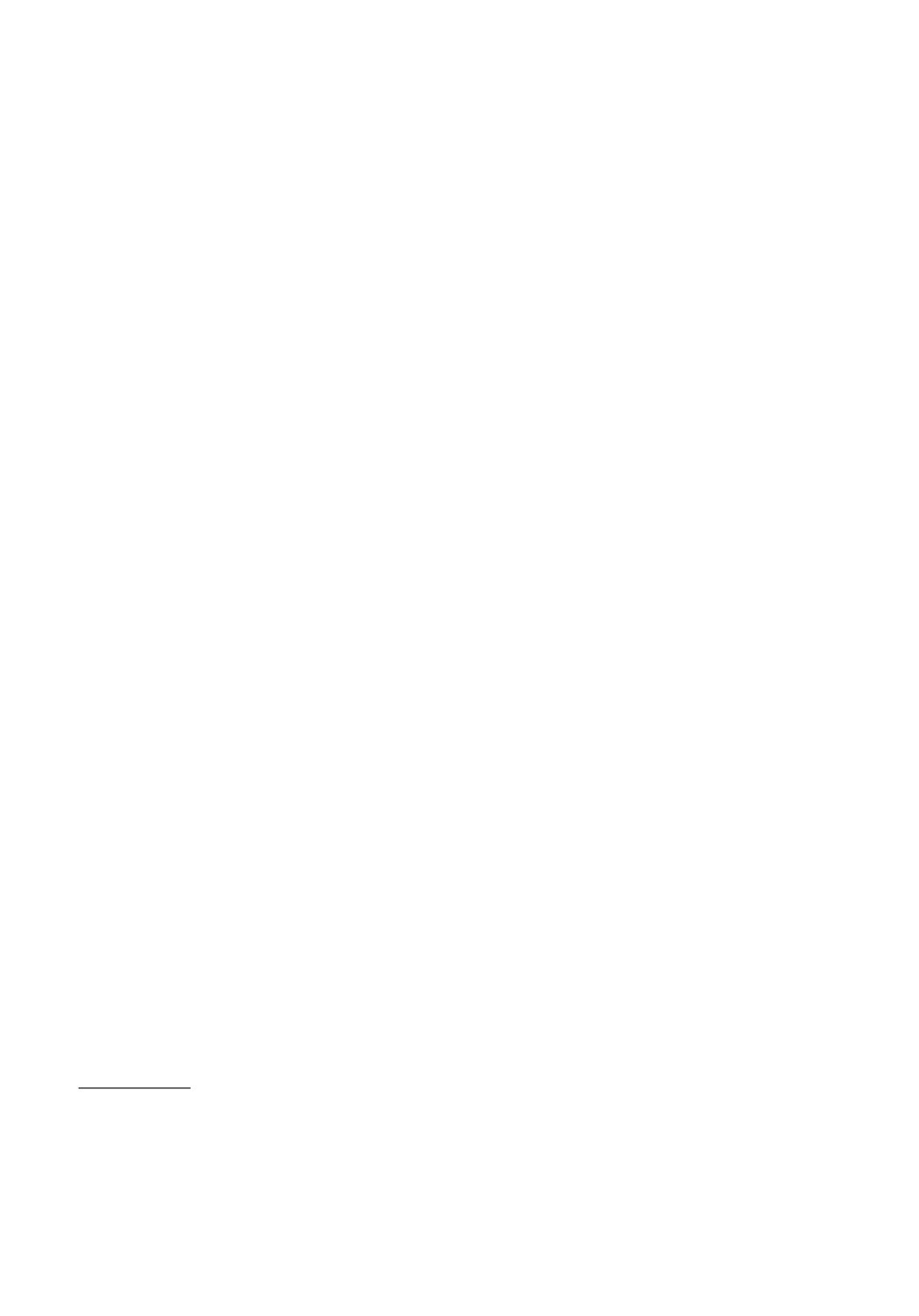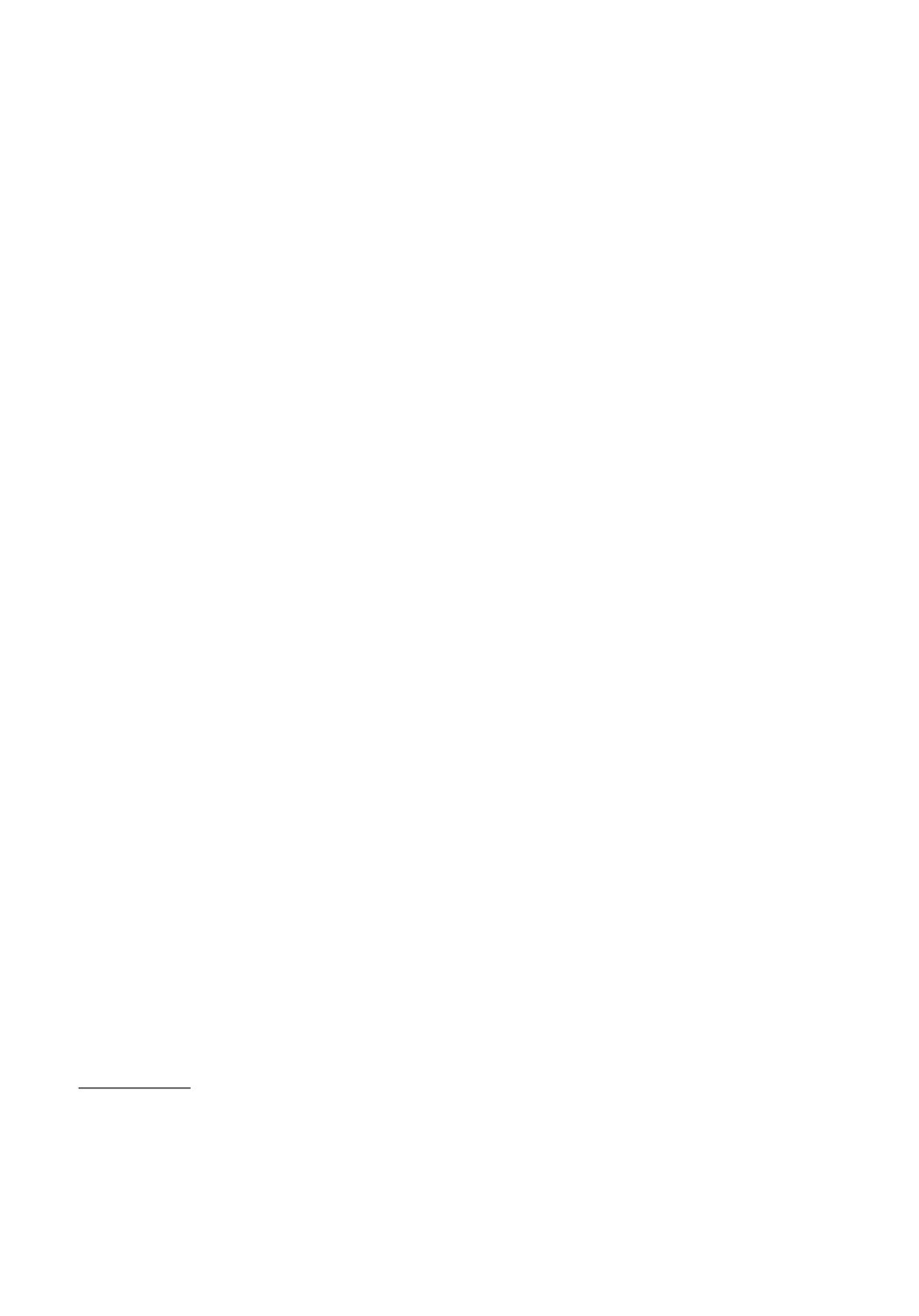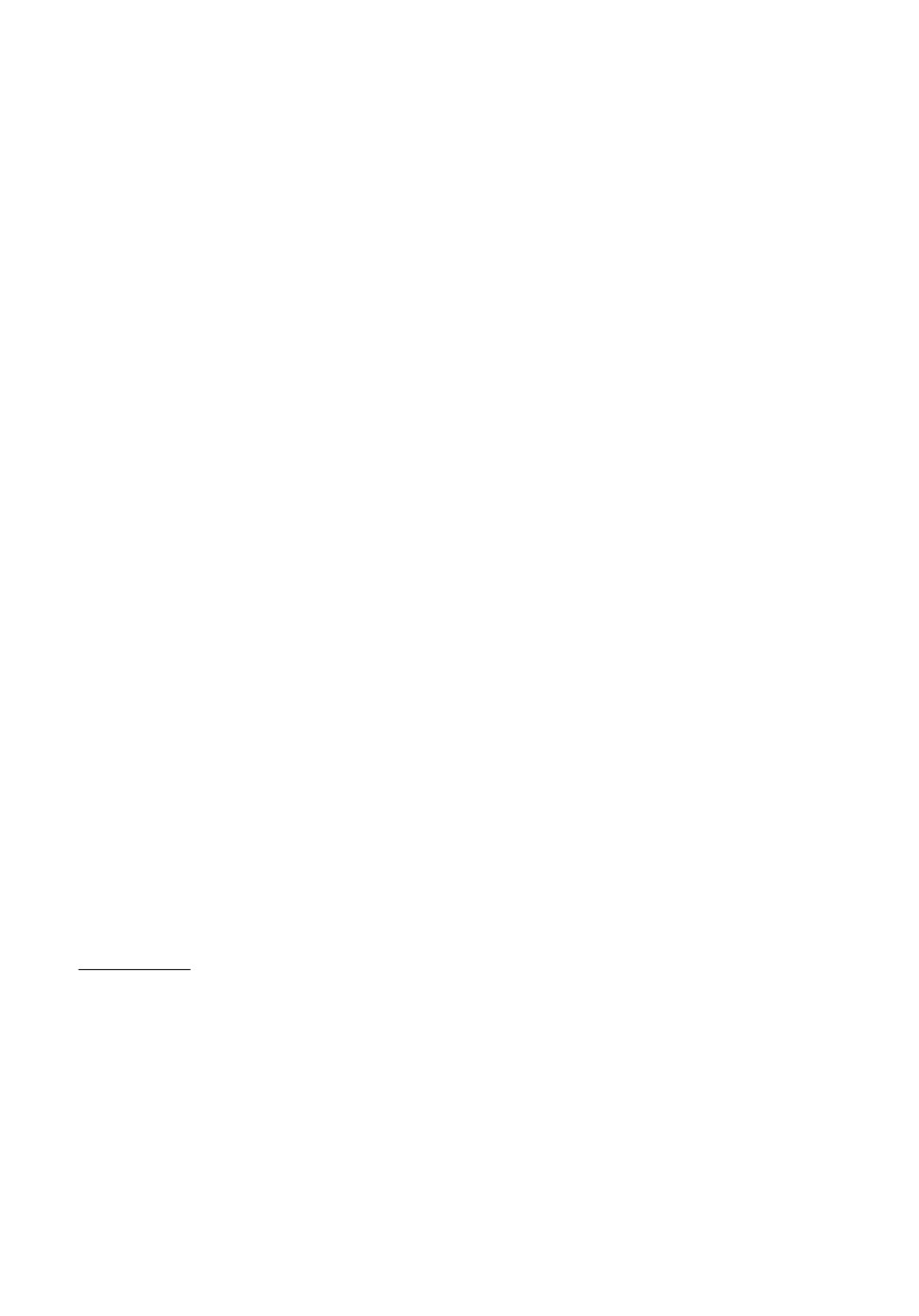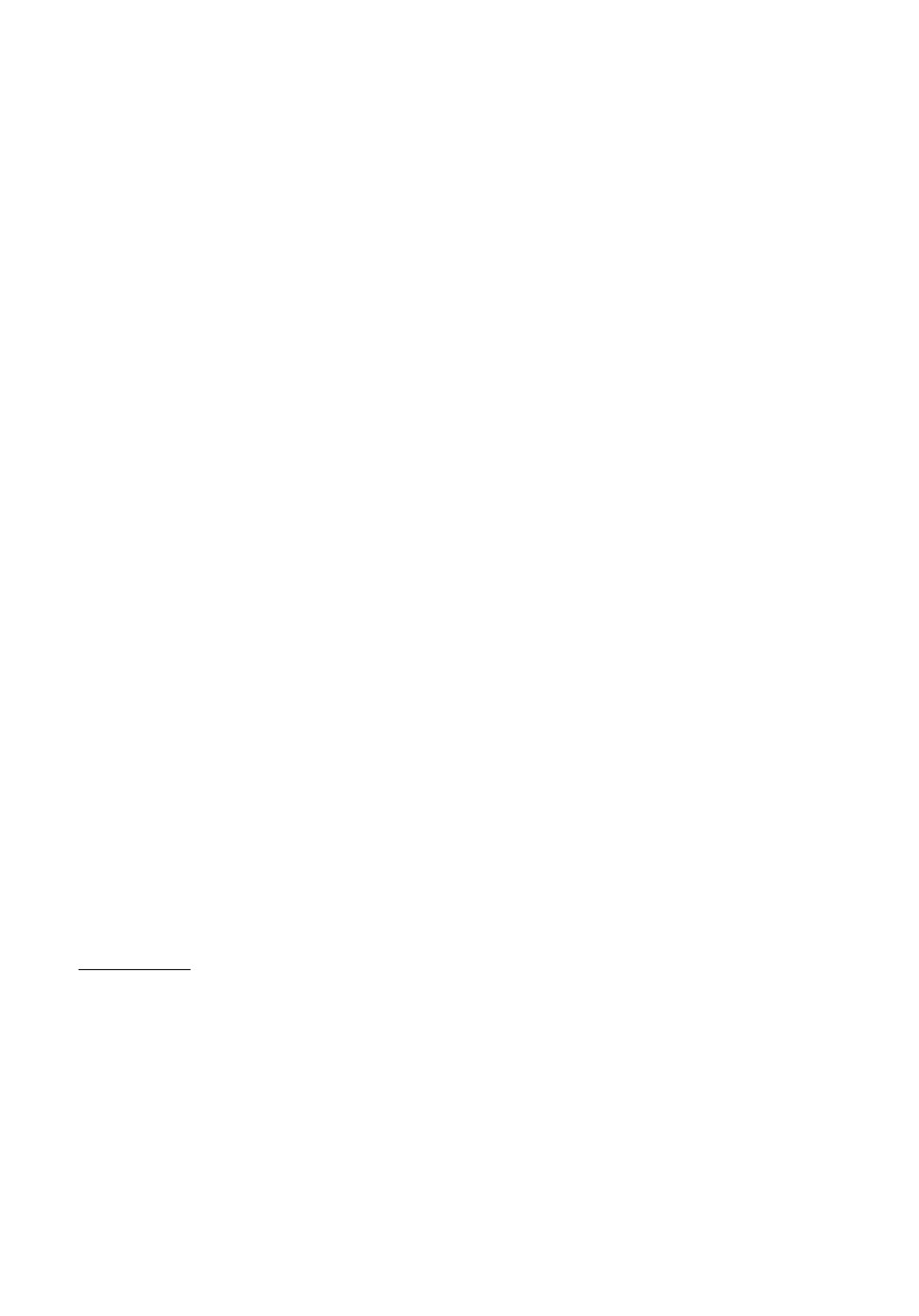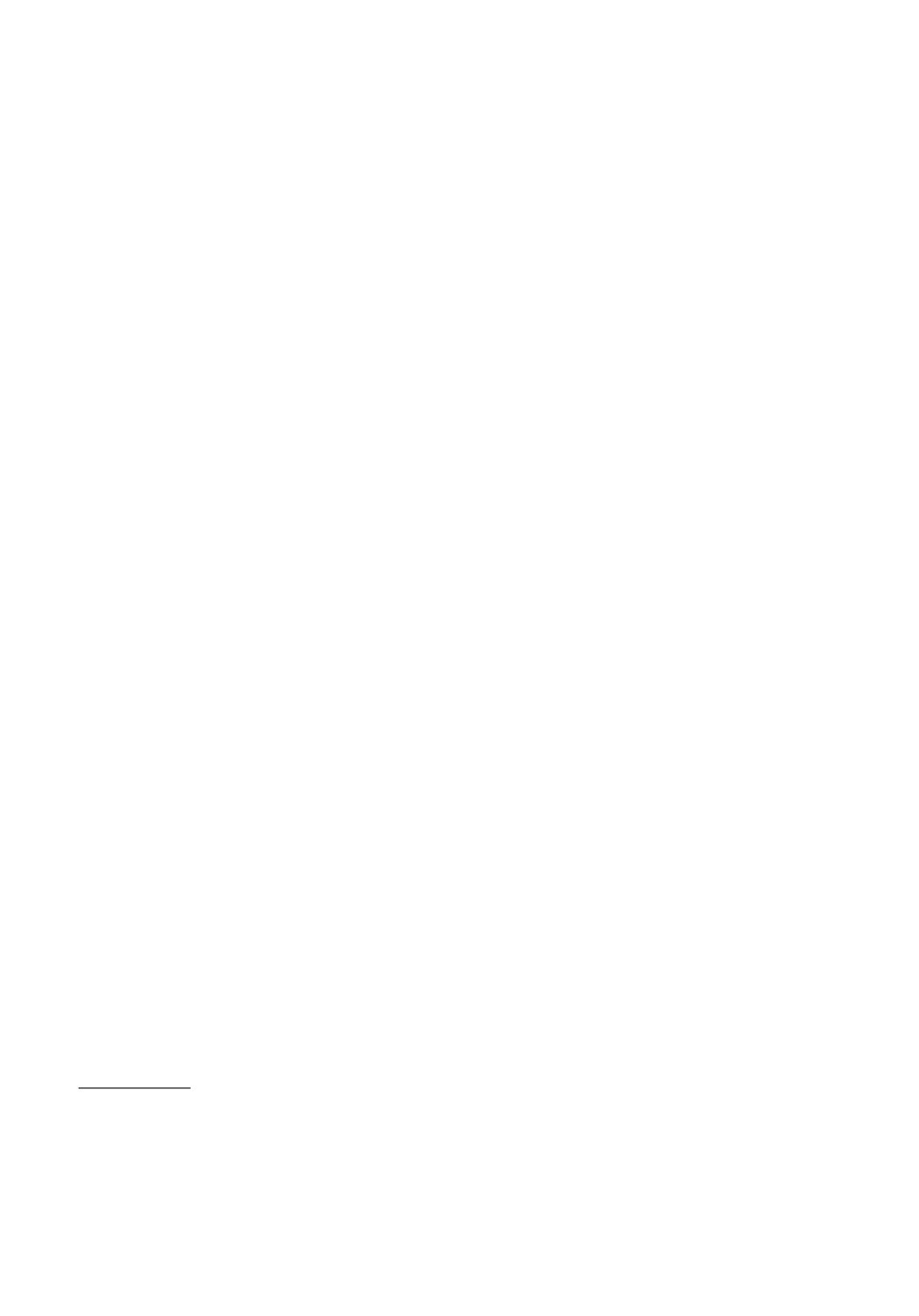Институты и общности
Епископат и военно-служилая знать в России XVI в.
Андрей Усачёв
Episcopate and military service nobility in Russia of the 16th century
Andrey Usachev
(Russian State University for the Humanities, Moscow;
Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University), Russia)
DOI: 10.31857/S086956872204001X, EDN: FYMTMG
В России периода Средневековья и раннего Нового времени постриг при-
нимало значительное число лиц, представлявших все слои населения, но ие-
рархами становились единицы. Пожизненный статус архиерея, подкреплённый
соответствующими финансовыми и административными возможностями, при-
давал его носителю социальный «вес» ничуть не ниже члена Боярской думы1.
При этом, в отличие от погружённых в самую гущу политических событий
членов Государева двора и тем более Боярской думы, архиереи в целом оказы-
вались более устойчивы к стремительно меняющейся придворной конъюнктуре
и капризам самодержца, временами «перебиравшего людишек» даже самого
знатного происхождения. Неизбежен вопрос: в какой мере эта заманчивая со-
циальная перспектива побуждала русских аристократов обращать взор в сто-
рону Церкви? В поисках ответа обратимся к персональному составу архиереев
XVI столетия, но прежде выясним, сколько в Русской церкви того времени
было архиереев знатного происхождения.
За этот период различные кафедры Московской митрополии занимали
не менее 120 архиереев (некоторых поставили в XV в., иные скончались уже
в XVII в.). С той или иной степенью гипотетичности статус устанавливается
у 35 лиц. Из среды служилых «по отечеству» вышли 13 архиереев (несколько
больше трети). Хотя эта цифра и уступает числу иерархов, вышедших из белого
духовенства (19), она значительна. Каков был их статус в миру?
Характеризуя рассматриваемую группу, обращу внимание на исключи-
тельно важный социальный факт: большинство из этих иерархов происходили
из провинциальных служилых родов средней руки, некоторые представляли
старомосковскую знать. Таковы в XV-XVI вв. Заболоцкие (смоленский епи-
скоп Гурий в 1539-1555 гг.), Курцевы (новгородский архиепископ Серапион
в 1551-1552 гг.), Пушкины (сарский и подонский епископ Варлаам в 1583-
1586 гг.), Сандыревы-Полевы (казанский архиепископ Герман в 1564-1567 гг.),
© 2022 г. А.С. Усачёв
Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда, проект № 20-18-00218.
1
Судя по размеру вкладов архиереев, их финансовый потенциал сопоставим с возможностя-
ми членов Боярской думы. Так, московский митрополит Даниил только в Иосифо-Волоколамский
монастырь дал вкладов не менее чем на 590 руб.; суздальский, а затем полоцкий владыка Трифон
(Ступишин) - на 500 руб.; тверской владыка Акакий - на 310 руб.; рязанский епископ Леонид
(Протасов) - на 1 240 руб. (Зимин А.А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая
борьба в России (конец XV - XVI в.). М., 1977. С. 146).
3
Санины (ростовский архиепископ Вассиан в 1506-1515 гг.), Скрипицыны (ми-
трополит Иоасаф в 1539-1542 гг.), Стремоуховы (суздальский епископ Семион
в 1509-1515 гг.), Ступишины (суздальский епископ в 1549-1551 гг., полоцкий
архиепископ Трифон в 1563-1566 гг.), Топорковы (коломенский епископ Вас-
сиан в 1525-1542 гг.) и Хворостинины (казанский архиепископ Тихон в 1575-
1576 гг.). Выходцы из этих родов не только не получали думных чинов2, но
и далеко не всегда входили в состав Государева двора. Значимые служебные
назначения были для них редкостью (самое заметное исключение - царский
казначей Н.А. Фуников-Курцев).
Часть архиереев в миру принадлежала к аристократическим родам - княже-
ским - кн. Стригины-Оболенские (тверской епископ Вассиан в 1477-1508 гг.),
старомосковским - Колычевы (митрополит Филипп в 1566-1568 гг.) и выехав-
шим из-за рубежа - Траханиотовы (тверской епископ Нил в 1509-1521 гг.).
Их представители входили в Боярскую думу. Впрочем, за исключением кн. Обо-
ленских, речь не шла о родах, её формирующих. Лишь отдельные - сравни-
тельно немногочисленные - Колычевы и Траханиотовы - получали думные
чины. Несмотря на личное, порой немалое влияние отдельных представителей
этих родов, их политический и социальный вес в целом несопоставим с вли-
янием кн. Патрикеевых, Мстиславских, Воротынских, Шуйских, Курбских,
Сицких. По уровню влияния и богатства они уступали и родам старомосков-
ской знати - Челядниным, Захарьиным-Кошкиным, Шереметевым, Морозо-
вым, Сабуровым.
Эта картина в корне отлична от той, что имела место в странах латинского
Запада. Ещё с эпохи поздней Античности ядро епископата здесь составляли
выходцы из имперской или местной знати (сенаторы и куриалы)3. Социальный
состав руководителей католической Церкви в период Средневековья также был
весьма аристократичен. Это обусловливалось тем, что майорат лишал или, по
крайней мере, значительно ограничивал социально-экономические и полити-
ческие перспективы младших отпрысков даже самых знатных и влиятельных
родов. Стремясь сохранить дарованное происхождением положение в обще-
стве, младшие сыновья, а иногда и располагавшие ещё более туманными со-
циальными перспективами бастарды простых рыцарей, аристократов, а порой
и монархов нередко вынужденно избирали духовную карьеру. Самое общее
представление о соотношении наиболее образованных представителей (как
правило, младших) родов европейской знати, избравших церковную карьеру,
и тех, кто остался в миру, дают сведения о выпускниках старейших англий-
ских университетов - Оксфорда и Кембриджа. До конца XV в. их закончили
88 человек из английской титулованной знати. Из них лишь шестеро остались
мирянами4.
Ряд значимых английских, французских, испанских, итальянских, немец-
ких, польских, литовских, венгерских и шведских родов (включая королев-
ские) «отметился» по меньшей мере одним-двумя епископами, архиеписко-
2
Лишь в самом конце XVI в. один из Пушкиных - Евстафий Михайлович - после почти
30-летней службы сумел занять низшую ступень в иерархии Боярской думы, став думным дворя-
нином (Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове (1584-1605 гг.).
СПб., 1992. С. 64).
3
Rapp C. Holy Bishops in Late Antiquity: The Nature of Christian Leadership in a Time of Transition.
Berkeley, 2005. P. 183-195.
4
Стасевич В.А. Титулованная знать при ранних Тюдорах. СПб., 2020. С. 265.
4
пами и кардиналами. В некоторых землях Германии ограничивался доступ на
вершину церковной иерархии выходцев не только из простолюдинов, но даже
из семей низшего дворянства, и это привело к тому, что, по словам Т.Н. Та-
ценко, к XVI в., а скорее даже и раньше, церковные капитулы в Германии при-
обрели закрытый аристократический характер, туда допускались члены семей
лишь высшего титулованного дворянства, княжеских родов5. Среди иерархов
без труда обнаруживаются выходцы из таких родов как Альба, Мендоса, Гон-
зага, Плантагенет, Стаффорд, Бофорт, Амбуаз, Бурбон, Гиз, Ришельё, Нассау,
Изенбург, Гогенцоллерн, Виттельсбах, Меттерних, Ваза, Гедройц, Гольшан-
ские, Радзивилл, Кишка, Конецпольские, Сапега, Тышкевич, Чарторыйские,
Ягеллон и Батори.
Избирая римских пап, конклав (его члены порой зарабатывали на продаже
голосов на выборах состоятельным кандидатам), как правило6, предпочитал
потомков наиболее знатных и состоятельных родов (по преимуществу итальян-
ских) - Бофор, Колонна, Борджиа, Медичи и др. Из едва ли не самого знатного
и влиятельного римского рода эпохи Средневековья и Нового времени - Ор-
сини - вышли пять римских пап и около трёх десятков кардиналов. Для более
раннего и более позднего периода в целом характерна та же тенденция. В ряде
случаев происхождение избавляло отпрысков знатных родов от восхождения по
всем ступеням духовной иерархии - епископами и кардиналами они нередко
становились, едва достигнув дееспособного возраста, а порой и раньше.
В России XVI в. сложилась принципиально иная ситуация: выходцев из
аристократии в составе епископата оказались единицы. С чем это могло быть
связано? Безусловно, немалую роль играла традиция. Тесная генеалогическая
связь церковной и политической элит никогда не была характерна для Русской
церкви. Во многом это обусловливалось традициями Восточной Церкви, где,
в отличие от Западной, в гораздо бóльшей степени действовали меритократи-
ческие критерии отбора кандидатов на замещение вакантных кафедр. Сращи-
ванию политической и церковной элит в период создания и первых столетий
существования Русской митрополии не способствовало и то, что значительная
часть архиереев присылалась из Константинополя. В домонгольский период из
23 митрополитов лишь двое - Иларион и Климент Смолятич - не являлись
греками. Имели греческое происхождение и некоторые епископы (особенно
в первые десятилетия после крещения Руси)7.
Из 121 известного нам архиерея в XIV-XV вв. (имеющиеся перечни со-
держат ряд лакун) происходили из знатных родов очень немногие. Тверской
епископ Андрей (1289-1316) являлся сыном литовского князя Герденя, неко-
торое время правившего в Полоцке. Митрополит Алексий (1354-1378) про-
исходил из известного московского боярского рода Бяконтовых. Возможно,
ростовский архиепископ Арсений (около 1370 г.) являлся потомком ростовских
князей (характер его родства с известными представителями этого княжеского
5
Таценко Т.Н. Немецкое дворянство XVI в. // Европейское дворянство XVI-XVII вв.: грани-
цы сословия. М., 1997. С. 164.
6
Речь идёт о преобладающей тенденции. Отдельные папы не могли похвастаться знатными
и состоятельными родичами. Например, Николай V (1447-1455) был сыном врача. Явно не при-
надлежали к аристократии Адриан VI (1522-1523) и Пий V (1566-1572).
7
Щапов Я.Н. Государство и церковь в Древней Руси X-XIII вв. М., 1989. С. 169-179,
191-213.
5
рода до конца не ясен)8. К разорившемуся роду ростовских бояр принадлежал
ростовский архиепископ Фёдор (1390-1395). Из среды небогатых вотчинников
Солигалича вышел рязанский епископ (между 1410 и 1431-1448 гг.), а затем
митрополит всея Руси (1448-1461) Иона. Выходцем из землевладельцев Угли-
ча являлся его преемник на митрополичьей кафедре Феодосий (Бывальцев)
(1461-1464). Тверской владыка Геннадий (Кожин) (1461-1477) происходил
из кашинского служилого рода средней руки. Самыми знатными архиереями
XV в. были выходцы из рода служилых кн. Оболенских - ростовский архиепи-
скоп Иоасаф (1481-1488) и тверской епископ Вассиан (1477-1508). Даже при-
нимая во внимание то, что происхождение большинства руководителей Церкви
неизвестно - источниковая база по XIV-XV вв. существенно скромнее, неже-
ли по последующему периоду, - очевидно, что девять архиереев из не менее
чем 121 - не так много.
Однако традиции было недостаточно для игнорирования знатными лица-
ми духовной карьеры, дающей исключительно высокий статус, относительную
стабильность положения и немалые возможности. В XVI в. численность знати
резко возросла, в то время как материальное благосостояние большинства её
представителей существенно снизилось. Тем не менее и тогда «честные мужи»,
судя по числу архиереев из их числа, в отличие от своих европейских визави, не
слишком стремились покорять вершину церковно-административного олим-
па. Обращу внимание на социальные причины, по которым, на мой взгляд,
подавляющее большинство представителей русской знати не желало прини-
мать постриг в раннем возрасте и с течением времени становиться архиереями9
(уход от мира в старости был общей практикой).
В условиях отсутствия майората земельные владения представителей рус-
ской знати могли многократно дробиться (запрет на подобную практику ввёл
лишь указ Петра I о единонаследии 1714 г.). Плодовитость русских аристокра-
тов приводила к тому, что уже через несколько поколений многочисленные
потомки даже Рюриковичей - наследников великих и удельных князей XIII-
XV вв. - с экономической точки зрения мельчали. В XV-XVI вв. наблюдаем
многие десятки и даже сотни взрослых представителей родов или пронизанных
родственными связями территориальных корпораций (ростовской, ярослав-
ской, суздальской, стародубской и др.). Слова Ивана IV во Втором послании
кн. А.М. Курбскому о том, что «Божиим милосердием… у меня Прозоровских
было не одно сто (курсив мой. - А.У.)»10, отражали не только его презрительное
отношение к служилым людям даже очень знатного происхождения, но и ге-
неалогическую реальность.
Источники XV-XVI вв. упоминают 672 потомков ярославских князей
(Курбских, Прозоровских, Сицких, Ушатых, Шаховских). Подавляющее боль-
шинство из них служили московским великим и удельным князьям. Аналогич-
ную картину дают результаты исследования генеалогии многочисленных в XV-
XVI вв. кн. Оболенских (Курлятевых, Репниных, Стригиных, Телепнёвых):
8
Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238
по 1505 г. Биографические очерки по первоисточникам и главнейшим пособиям. Т. 2. СПб., 1891.
С. 52-54.
9
О продолжительности иноческого «стажа» и возрасте, в котором, как правило, в Рос-
сии XV-XVI вв. становились руководителями Церкви, см.: Усачёв А.С. Почему закончилась «воло-
коламская гегемония» в Русской церкви XVI в.? // Российская история. 2017. № 5. С. 106-109.
10
Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1979. С. 104.
6
источники упоминают не менее 339 представителей этого рода, в большинстве
состоящих на службе московских князей11. Многочисленны были и роды не-
титулованной знати. Например, одних только взрослых мужских представи-
телей рода Пушкиных в XVI в. насчитывалось не менее 9012. Счёт отпрыскам
даже сравнительно малочисленных родов также шёл на десятки. Источники
конца XV-XVI вв. фиксируют 22 представителей не самых многочисленных
кн. Палецких13.
Очевидно, что в подобной ситуации независимо от размера земельных вла-
дений родовой корпорации в целом, о сохранении прежнего объёма земельных
владений большинством потомков даже некогда крупных землевладельцев речи
не шло. С этим и связано то, что, судя по дошедшим источникам, русская знать
не отличалась расточительством, характерным для элиты Англии, Франции или
Польско-Литовского государства. Дело не только в природной скромности или
какой-то особой склонности к аскезе русских аристократов - у подавляюще-
го большинства из них просто не было достаточных средств. Тесть кн. Ивана
Меньшого Михайловича Мезецкого - состоятельный благовещенский прото-
поп, духовник Василия III Василий Кузьмич - «кормил» зятя 13 лет. Необ-
ходимые князю для службы доспехи, коней, одежду ему лично и его боевым
холопам приобретал тесть, вдобавок к тому потративший не менее 1 тыс. руб.
на покрытие долгов и выкуп владельческих прав у родичей своего знатного,
но обедневшего зятя14. Как сообщает С. Герберштейн, выходец из рода яро-
славских князей И.И. Засекин, «который от имени своего государя был послом
у цесаря Карла в Испаниях… был настолько беден, что взял взаймы… на дорогу
платье и колпак»15. Порой даже члену Боярской думы не хватало средств на то,
чтобы снарядить на «государеву службу» себя и своих боевых холопов. Одному
из кн. Шуйских - Александру Борисовичу Горбатому (в недалёком будущем de
facto командующему в победоносном Казанском походе 1552 г.) - в 1540-е гг.,
снаряжаясь в поход, пришлось заложить платье жены16. Роскошь стала входить
в быт русского аристократа позднее - во второй половине XVII в.17 Однако
при этом значительная часть потомков измельчавших родов вотчины (порой
весьма незначительного размера) всё-таки наследовали. Тем самым они сохра-
няли свой дарованный происхождением статус, если не имущественный, то, по
крайней мере, социальный.
Другое обстоятельство, оказавшее существенное - возможно, определяю-
щее - влияние на социальный состав русского епископата и церковной элиты
11
Кобрин В.Б. Материалы генеалогии княжеско-боярской аристократии XV-XVI вв. М., 1995.
С. 19-137.
12
Веселовский С.Б. Род и предки А.С. Пушкина в истории. М., 1990. С. 92-120.
13
Сергеев А.В. Политическая деятельность и землевладение княжеской аристократии Москов-
ского государства XVI в.: князья Палецкие // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2019. № 3(77).
С. 43-59.
14
Назаров В.Д. Великокняжеский духовник в семейном портрете и в контексте кремлёвско-
го сообщества // Кремли в истории России: к 500-летию Александровского кремля. Материалы
международной научно-практической конференции, 11-13 ноября 2013 г., г. Александров. Т. 1.
Владимир, 2014. С. 13-14.
15
Герберштейн С. Записки о Московии. В 2 т. Т. 1. М., 2008. С. 359.
16
Рождественский С.В. Служилое землевладение в Московском государстве XVI века. СПб.,
1897. С. 82-83.
17
Седов П.В. Закат Московского царства. Царский двор конца XVII века. СПб., 2006.
С. 491-494.
7
в целом. Сравнительно недавно сложившееся Русское государство остро нуж-
далось в служилых людях для обслуживания его военных и административных
нужд, резко возросших во второй половине XV в. В условиях Средневековья
это были служилые люди «по отечеству», на протяжении ряда поколений нёс-
шие военную и административную службу. Именно представители этого слоя
в эпоху Средневековья составляли главную ударную силу армий всех государей
Европы - тяжеловооружённую конницу рыцарского типа («кованую рать» рус-
ских источников XV-XVII вв.).
В Русском государстве численность русских «честных мужей» в период
Средневековья была заметно ниже, нежели число дворянства крупнейших го-
сударств Западной и Центральной Европы. Среди прочего это обусловливалось
общей скудостью демографических ресурсов в стране в то время. Численность
её населения в XVI в. историки оценивают от 2,5-2,9 до 8-11 млн человек18.
Во Франции середины XVI в. проживало около 18 млн человек. Численность
населения не самой крупной страны Европы - Венгрии - в XVI в. составля-
ла около 3-3,5 млн человек, Польши (без Великого княжества Литовского)
к 1500 г. - 7,5 млн, в 1650 г. - порядка 11 млн человек19.
Однако дело было не столько в численности населения страны, сколько
в нехватке людей того слоя, в представителях которого так нуждался великий
князь. В России на начало XVI в., согласно С.Б. Веселовскому, насчитывалось
около 20 тыс. светских феодалов. На протяжении столетия цифра, конечно, не-
сколько возросла и могла достигнуть 25 тыс. человек20. В зимнем походе 1562-
1563 гг. русского войска на Полоцк приняли участие, возможно, до 18 тыс.
служилых людей «по отечеству»21. Примерно такую же цифру привёл и Гер-
берштейн, побывавший в России в первой четверти XVI в. По его данным,
ежегодно великий князь Василий III в ожидании нападения войск крымского
хана выставлял на южной границе 20 тыс. воинов. Альберт Кампенский в со-
чинении о России (около 1523-1525 гг.) сообщил, что в Московском княжестве
насчитывалось «тридцать тысяч бояр, то есть знатных людей, выступающих
на войну конными»22. Примерно таково же было количество служилых людей
«по отечеству» в 1632 г.23
18
Копанев А.И. Население Русского государства в XVI в. // Исторические записки. Т. 64.
М., 1959. С. 233-254; Водарский Я.Е. Население России за 400 лет: (XVI - начало ХХ вв.).
М., 1973. С. 26-27; Kaštanov S.M. Zu einigen Besonderheiten der Bevolkerungssituation Russlands
im 16. Jahrhundert // Jahrbucher für Gechichte Osteuropas. Bd. 43. Wiesbaden, 1995. Hf. 3. S. 321-346.
19
Пименова Л.А. Дворянство Франции в XVI-XVII вв. // Европейское дворянство… С. 70;
Гусарова Т.П. Дворянство Венгрии в XVI-XVII вв. // Европейское дворянство… С. 184; Дмитри-
ев М.В. Польская шляхта в XVI-XVIII вв. // Европейское дворянство… С. 193.
20
Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969.
С. 32; Бенцианов М.М. Дети боярские «наугородские помещики». Новгородская служилая корпора-
ция в конце XV - середине XVI в. // Новгородская Русь: историческое пространство и культурное
наследие. Екатеринбург, 2000. С. 266.
21
Приведённая цифра отражает численность поместной конницы, принявшей участие в этом
походе (Курбатов О.А. Отклик на статью А.Н. Лобина «К вопросу о численности вооружённых
сил Российского государства в XVI в.» // Петербургские славянские и балканские исследования =
Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2009. № 1-2(5-6). С. 109-112).
22
Герберштейн С. Указ. соч. Т. 1. С. 241; Россия в первой половине XVI в.: взгляд из Европы /
Сост. О.Ф. Кудрявцев. М., 1997. С. 102.
23
Государев двор в 1632 г. насчитывал 2 769 человек, служилые корпорации различных уез-
дов - около 25 тыс. (Козляков В.Н. Служилые люди России XVI-XVII веков. М., 2018. С. 415-416).
8
В далеко не самой крупной и густонаселённой стране этого периода -
Англии - в XVI в. только эсквайрами себя именовали 40-50 тыс. человек.
В последней четверти XVI в. сопоставимой являлась численность дворянства
в гораздо более густонаселённой, но разорённой в ходе длительных граждан-
ских войн Франции - от 30 до 50 тыс. Количество испанского и, что для нас
особенно важно, польского дворянства была существенно выше. На 1591 г.
только в Кастилии насчитывалось 134,2 тыс. дворянских семей, что состав-
ляло около 10,2% её населения. Примерно такое же соотношение характерно
и для Польши, где шляхта могла составлять от 8 до 10% всех жителей страны
(в 1500 г. - 7,5 млн, в 1650 г. - 11 млн) (в прочих государствах Европы дворян
было от 1 до 3% от общей численности населения)24. Если это действительно
так, то число взрослых польских шляхтичей мужского пола могло в 5-6 раз
превышать количество русских служилых людей «по отечеству».
В условиях активизации внешней политики государства великокняжеская
власть нуждалась в значительном увеличении армии, ядро которой составля-
ла дворянская конница. Поддержание её на определённом уровне требовалось
для обеспечения по меньшей мере военного паритета с главным противником
на западных рубежах - Великим княжеством Литовским, нередко имевшим
военную поддержку состоявшей с ним в унии Польши с её многочисленной
шляхтой. Значительные силы требовались и для несения регулярной - с пер-
вой четверти XVI в. ежегодной - службы на границах страны.
В XV в. начался процесс формирования бюрократического аппарата, осно-
ву которого до XVII в. составляли выходцы из родов служилых людей «по оте-
честву». Счёт дьякам и подьячим в XVI в. шёл на сотни25. Ряд представителей
служилых родов назначались на административную службу, тем самым отвле-
каясь от службы военной. К этому следует прибавить и возросшую «нагрузку»
по управлению значительной территорией, что требовало привлечения мно-
гих сотен наместников, волостелей и городовых воевод, сочетавших воинскую
службу с административной26. Несмотря на то что последняя давала им воз-
можность улучшить материальное положение (нередко она рассматривалась
как награда за верность на поле боя), она отвлекала значительное число слу-
жилых людей от воинской службы.
Как видим, с одной стороны, Россия располагала более малочисленным
слоем профессиональных воинов и управленцев, нежели прочие крупные го-
сударства Европы. С другой, учитывая размер подведомственной территории
и протяжённость границ (особенно южной), социальная «нагрузка» на него
оказалась существенно выше, чем в других европейских странах. Именно
24
Дмитриева О.В. Английское дворянство в XVI - начале XVII в.: границы сословия // Ев-
ропейское дворянство… С. 25; Пименова Л.А. Дворянство Франции… С. 69-70; Ведюшкин В.А.
Идальго и кабальеро: испанское дворянство в XVI-XVII вв. // Европейское дворянство… С. 101;
Дмитриев М.В. Польская шляхта… С. 193-194.
25
Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XV-XVII вв. М., 1975; Лисейцев Д.В. Приказная система
Московского государства в эпоху Смуты. М.; Тула, 2009. С. 518-533, 585-636; Кром М.М. «Вдов-
ствующее царство»: Политический кризис в России 30-40-х годов XVI века. М., 2010. С. 814-854;
Рыбалко Н.В. Российская приказная бюрократия в Смутное время начала XVII в. М., 2011; Савоси-
чев А.Ю. Дьяки и подьячие XIV - первой трети XVI вв.: происхождение и социальные связи. Опыт
просопографического исследования. Орёл, 2013; Савосичев А.Ю. Новые верники Грозного царя.
Орёл, 2015.
26
О численности и персональном составе этой группы лиц см.: Пашкова Т.И. Местное управ-
ление в Русском государстве первой половины XVI века: наместники и волостели. М., 2000.
9
поэтому великокняжеская власть рассматривала повышение численности со-
ответствующего социального слоя как свою едва ли не главную внутри- и осо-
бенно внешнеполитическую задачу. Не позднее последней четверти XV в. она
приступила к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на её
решение - формированию особой служебной организации. Специально не
рассматривая историю её создания и функционирования27, остановлюсь лишь
на фактах, которые могли оказать влияние на социальный состав церковной
элиты.
Главной среди соответствующих мер, принимаемых в условиях недоста-
точной развитости товарно-денежных отношений, было создание поместной
системы, позволявшей выходцам из мельчающих служилых родов сохранить
свой статус и материальное положение. Это являлось необходимым услови-
ем для обеспечения армии и государственного аппарата кадрами, с малых лет
обученными основам воинского и административного ремесла. По сути, речь
шла о заключении взаимовыгодного союза между представителями знати и ве-
ликокняжеской властью. Первые получали гарантированную властью широко
понимаемую «службу» и связанный с ней высокий статус в обществе, вторая -
необходимых ей в условиях хронического дефицита людских ресурсов квали-
фицированных потомственных специалистов.
Во многом этим и определялась ситуация, немыслимая в других странах
Западной, Центральной и Восточной Европы раннего Нового времени: почти
все или большинство «честных мужей» различного статуса поступали на службу
к государю, за что получали гарантированное содержание. Для России ран-
него Нового времени не характерно наличие более или менее значительного
числа «безработных» дворян и детей боярских. Конечно, процесс включения
в служебную организацию землевладельцев был растянут во времени и имел
региональную специфику. До середины XVI в. ещё сохранялись мелкие вот-
чинники, не служившие великому князю, а находившиеся на службе крупных
землевладельцев или не служившие вовсе. По данным писцовых книг, в 1551-
1554 гг. значительная часть мелких тверских вотчинников ещё не была обреме-
нена обязательной службой русскому государю28. По подсчётам М.М. Крома,
из 1 173 землевладельцев Тверского уезда лишь 489 служили великому князю;
168 - тверскому епископу и светским лицам, 220 не служили никому29.
Как видим, русский служилый человек «по отечеству» (как, впрочем,
и иные, менее привилегированные категории служилых людей) получал со-
циальные гарантии, которых не имел его европейский визави. По мнению
Б.Н. Флори, в Московской Руси XVI-XVII вв. сохранились элементы сложив-
шейся ещё в XI-XIII вв. у западных и восточных славян «служебной организа-
27
О формировании и функционировании этой системы во второй половине XV - XVII в. см.:
Рождественский С.В. Указ. соч.; Веселовский С.Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной
Руси. Т. 1. М.; Л., 1947. С. 212-216, 281-325; Флоря Б.Н. Служебная организация и её наследие
в Московской Руси XVI-XVII вв. // Zbornik filozofske fakulty University Komenskeho. Historica.
XLIII. Bratislava, 1997. С. 183-188; Правящая элита Русского государства IX - начала XVIII вв.
(Очерки истории). СПб., 2006; Бенцианов М.М. Дети боярские «наугородские помещики»… С. 241-
277; Бенцианов М.М. «Князья, бояре и дети боярские». Система служебных отношений в Москов-
ском государстве в XV-XVI вв. М., 2019; Бенцианов М.М. Служилые элиты Московского государ-
ства. Формирование, статус, интеграция. XV-XVI вв. М., 2021; Козляков В.Н. Служилые люди…
28
Веселовский С.Б. Феодальное землевладение… Т. 1. С. 212-213.
29
Кром М.М. Частная служба в России XVI века // Русское Средневековье. Сборник статей
в честь профессора Ю.Г. Алексеева. М., 2012. С. 427.
10
ции». Это касалось и иных необходимых государю профессионалов. Примерно
50 слобод (Денежная, Пушкарская, Бронная, Хамовная, Печатных мастеров,
Гончарная и др.), подчинённых ряду ведомств (в первую очередь дворцово-
му) и населённых специалистами, из поколения в поколение обслуживающими
нужды русского государя в раннее Новое время, историк сопоставил с кате-
гориями зависимого от киевского князя населения XI-XIII вв. (бобровники,
бортники). По мнению Флори, в России в XVI-XVII вв. шла «реанимация»
«служебной организации», в других странах уже ушедшей в прошлое30. В про-
чих странах Европы ситуация была иной.
Десятки тысяч безземельных рыцарей в Европе эпохи Средневековья
и раннего Нового времени - пожалуй, самый «взрывоопасный» элемент фео-
дального общества, - стремясь поддержать свой если не социальный, то, по
крайней мере, материальный статус, были вынуждены отправляться в кресто-
вые походы, в Новый свет, заниматься разбоем, пополнять ряды наёмников
или порывать со своей средой.
В раннее Новое время ослабление связей со своей средой - как генеало-
гических, так и по роду занятий - было характерно не только для младших
потомков знатных родов, но и для старших, в той или иной мере сохранявших
свои социальные позиции. Например, во второй половине XVI в. 78% аристо-
кратических семейств Англии занимались предпринимательством, принимая
участие в паевых товариществах, организации горнорудного производства,
финансировании торговых компаний или даже пиратства. Разорившиеся ан-
глийские лорды порой уговаривали состоятельных горожан отдавать дочерей за
своих сыновей. Представителей французского дворянства в XV-XVI вв. от уча-
стия в коммерции не удерживали даже многократные королевские запреты31.
Неудивительно, что выходцы из знатных и влиятельных родов Европы, стре-
мясь сохранить дарованный происхождением статус, шли в Церковь, пополняя
число аббатов, епископов, кардиналов и римских пап.
В России раннего Нового времени социальных причин для массового ис-
хода аристократов в Церковь не имелось. Благодаря комплексу мероприятий,
проводившихся с эпохи Ивана III, возникли условия для удержания их почти
всех (в случае с представителями родов «первой строки» - всех) в рамках со-
ответствующей социальной страты. Конечно, какая-то более или менее значи-
тельная часть измельчавших вотчинников пополняла штаты слуг более состоя-
тельных светских землевладельцев, а также удельных князей, иерархов Церкви
и монастырей. Однако, по сути, род их занятий не менялся: они по-прежнему
выполняли преимущественно военно-административные поручения и вместе
со своими патронами по первому зову великого князя отправлялись в поход32.
В отличие от Гизов, Меттернихов, Гольшанских, Радзивиллов или Борджиа,
основным занятием русских аристократов являлась служба государю - военная
30
Флоря Б.Н. «Служебная организация» и её роль в развитии феодального общества у вос-
точных и западных славян // Отечественная история. 1992. № 2. С. 56-74; Флоря Б.Н. Служебная
организация и её наследие… С. 183-188.
31
Дмитриева О.В. Английское дворянство… С. 18, 19; Пименова Л.А. Дворянство Франции…
С. 66-68.
32
Веселовский С.Б. Феодальное землевладение… Т. 1. С. 221-230; Панеях В.М. Кабальное хо-
лопство на Руси в XVI веке. Л., 1967. С. 74-78; Пономарёва И.Г. Слуги Троице-Макарьева Калязина
монастыря // Архив русской истории. Вып. 7. М., 2002. С. 85-87; Кром М.М. Частная служба…
С. 422-432.
11
и административная. Очевидно, что в Русском государстве можно говорить
о принципиально ином уровне слияния подавляющего большинства «честных»
родов со службой (находившиеся на менее «престижной» службе - удельным
князьям или иерархам Церкви - лица нередко переходили на службу великому
князю, при этом представители одного рода могли одновременно служить как
великим, так и удельным князьям33). Именно этим и обусловлен социальный
феномен эпохи раннего Нового времени, не характерный для прочих стран
Европы: в последних речь идёт о знати, в России - о служилой знати. Если на
Западе Европы служба аристократа монарху являлась привилегией, то на Восто-
ке стала обязанностью34.
Конечно, путь к формированию этого явления русской социальной дей-
ствительности был непрост. Наряду с борьбой с проявлениями глухого ропота
некоторых относительно состоятельных представителей знати (И.Н. Берсеня--
Беклемишева и иных), недовольных значительным увеличением объёма слу-
жебной «нагрузки»35, великокняжеской власти приходилось решать и эконо-
мические проблемы. В конце XV - XVI в. она предпринимала титанические
усилия для наделения землёй служилых людей, постоянно изыскивая для этого
новые возможности. Главным ресурсом являлся фонд «чёрных» земель, ко-
торых в Русском государстве в рассматриваемый период имелось существен-
но больше, чем, например, в Польше36. Использовались и иные источники.
В конце XV в. были задействованы ресурсы владычной кафедры недавно при-
соединённого Новгорода, а также конфискованные вотчины его крупных зем-
левладельцев37. Это дало возможность довести численность новгородских поме-
щиков примерно до 1,3 тыс. человек. В середине XVI в. их насчитывалось уже
не менее 4 119 (возможно, до 5,5-6 тыс.) человек38.
Дефицит служилых людей был настолько велик, что власти, стремившей-
ся в кратчайшие сроки повысить численность военно-служилой страты обще-
ства, пришлось пойти на некоторую генеалогическую девальвацию её статуса.
На территории Новгородской земли испомещали не только «честных мужей»,
но и их располагавших боевым опытом послужильцев (нередко разорившихся
выходцев из той же социальной среды), чей статус был ниже (в тот период
распустили дворы ряда представителей аристократии - кн. Патрикеевых, Ря-
половских и др.). В конце XV в. более 10% новгородских помещиков соста-
вили представители этого слоя39. В XVI - начале XVII в. испомещали лиц, не
33
Например, Колычевы служили как великому князю, так и старицким князьям (Зимин А.А.
Колычевы и русское боярство в XIV-XVI вв. // Археографический ежегодник за 1963 г. М., 1964.
С. 55-71).
34
Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в. Формирование бюрократии.
М., 1974. С. 113.
35
Хорошкевич А.Л. Великий князь и его подданные в первой четверти XVI в. // Сословия
и государственная власть в России. XV - середина XIX в. Международная конференция - Чтения
памяти академика Л.В. Черепнина. Тезисы докладов. Ч. 2. М., 1994. С. 169-173.
36
Флоря Б.Н. Два пути формирования общегосударственной политической элиты (на матери-
але, относящемся к истории Польши XIV в. и Русского государства XV-XVI в.) // Древняя Русь.
Вопросы медиевистики. 2011. № 4(46). С. 12.
37
В этот период примерно 87% новгородских земельных владений сменили хозяев (Правящая
элита Русского государства… С. 158).
38
Бенцианов М.М. Дети боярские «наугородские помещики»… С. 265-266.
39
Веселовский С.Б. Феодальное землевладение… Т. 1. С. 223-230; Панеях В.М. Кабальное
холопство… С. 74-78; Бенцианов М.М. Дети боярские «наугородские помещики»… С. 251-255.
12
являвшихся потомственными служилыми людьми, и в других уездах. Лишь по-
сле Смуты служилым людям «по отечеству» удалось добиться от правительства
запрета на верстание в дети боярские служилых людей «по прибору» и выход-
цев из податных слоёв населения40.
В поместную раздачу «государь всея Руси» был не прочь пустить и немалые
монастырские вотчины. На Соборе 1503 г. Иван III поставил вопрос о воз-
можности их конфискации. Однако внезапный недуг (по-видимому, инсульт),
сразивший государя в самый разгар напряжённых споров о возможности кон-
фискации владений Церкви, истолкованный как Божья кара41, снял с повестки
эту перспективу. Тем не менее с середины XVI в. правительство ограничивало
рост земельных владений Церкви, особенно в последние годы разорительной
для служилых землевладельцев Ливонской войны42.
Однако оставались и иные ресурсы - как внутренние, так и внешние.
О последних красочно писал в 1540-е гг. Иван Пересветов, ратуя за наделение
русских «воинников» казанской «подрайской землицей»43. В поместную разда-
чу стали поступать вотчины, конфискованные у репрессированных лиц. Кроме
того, служилые люди получали поместья в недавно присоединённом Среднем
Поволжье, а также на территориях Ливонии и Великого княжества Литовского,
временно входивших в состав России в годы Ливонской войны. С реалиями
формирования поместной системы связаны многочисленные факты земле-
владения представителей одного рода в различных регионах страны. Соглас-
но наблюдениям Веселовского, на территориях, присоединённых к Русскому
государству с конца XV в. (Новгород, Псков, Смоленск, Дорогобуж, Торопец,
Великие Луки, Орёл), вотчин почти не было. Львиная доля земель здесь посту-
пила в поместную раздачу44.
И всё же внутренних демографических ресурсов не хватало, поэтому с по-
следней четверти XV в. стали системно проводиться мероприятия, направ-
ленные на увеличение численности столь необходимого власти социального
слоя путём привлечения на службу иноземцев. Если выходцев из стран Европы
было сравнительно немного (несколько сотен преимущественно узких специ-
алистов в артиллерии, инженерном деле, градостроительстве и медицине)45, то
выходцев с Востока (в первую очередь татар) оказалось значительное число.
Демонстрируя чудеса политической гибкости и конфессиональной толерантно-
сти, власти, не требуя срочного и поголовного крещения, испомещали их как
на территории Среднего Поволжья и в Мещере, так и в центральных уездах
40
Козляков В.Н. Служилые люди… С. 152, 208.
41
Усачёв А.С. Об одной аналогии рассказу о болезни Ивана III в 1503 г. // Великое стояние
на Угре и формирование Российского централизованного государства: локальные и глобальные
контексты. Материалы всероссийской с международным участием научной конференции (30 мар-
та - 1 апреля 2017 г., Калуга). Калуга, 2017. С. 343-349.
42
Рождественский С.В. Указ. соч. С. 113-120; Веселовский С.Б. Феодальное землевладение…
Т. 1. С. 99-109; Дмитриева З.В., Козлов С.А. Налоги и войны в России XVI-XVIII вв. СПб., 2020.
С. 61-62.
43
Сочинения И. Пересветова. М.; Л., 1956. С. 182, 208.
44
Веселовский С.Б. Феодальное землевладение… Т. 1. С. 321-326.
45
Ковригина В.А. Немецкая слобода Москвы и её жители в конце XVII - первой четверти
XVIII вв. М., 1998; Скобелкин О.В. Западноевропейцы на русской военной службе в XVI - 20-х гг.
XVII в. Дис. … д-ра ист. наук. Воронеж, 2015; Орленко С.П. Выходцы из Западной Европы в Рос-
сии ХVII века: правовой статус и реальное положение. М., 2004; Опарина Т.А. Иноземцы в Рос-
сии XVI-XVII вв. Очерки исторической биографии и генеалогии. М., 2007.
13
государства, а также в Новгородской земле46. Стремясь увеличить численность
поместной конницы, правители «Третьего Рима» - главные гаранты чистоты
вселенского православия - не останавливались и перед прямым нарушением
канонов, воспрещавших отдавать православных в «порабощение» иноверцам
(число крестившихся татар на русской службе до середины XVII в. оставалось
сравнительно небольшим)47. Благодаря этому к концу XVI в. тысячи служилых
татар составляли до 10% русской поместной конницы48.
Специально не рассматривая очевидных внешнеполитических следствий
формирования служебной организации Русского государства (к середине XVI в.
этот процесс в целом завершился), зафиксирую важный результат её созда-
ния и функционирования: социальные причины для раннего ухода в Церковь
у представителей знати отсутствовали. В отдельных случаях имелись причины
политические. Например, постриг Вассиана (Патрикеева) обусловила опала
кн. Патрикеевых и Ряполовских. Очевидна и связь пострига Филарета (Ро-
манова) с опалой Романовых при Борисе Годунове. По тем или иным причи-
нам негодный к военной службе - великому князю, значимому светскому или
духовному лицу - служилый человек мог влиться в стремительно разрастаю-
щийся бюрократический аппарат. Весьма заманчивые служебные перспективы,
гарантированные местничеством, побуждали представителей знатных родов,
стремящихся сохранить или повысить свой статус, обращать взор не на Цер-
ковь, а на Государев двор, вбиравший в себя многие сотни молодых выходцев
из наиболее «честных» родов. Если говорить о представителях самых знатных
и влиятельных семейств (кн. Патрикеевы, Бельские, Мстиславские, Воротын-
ские и Шуйские), то своё место в Боярской думе они, по сути, с гарантией
получали едва ли не сразу по достижении дееспособного возраста. Занимав-
ший несколько десятилетий и сопряжённый с различными лишениями путь
от инока до архиерея в подобной социальной ситуации не являлся заманчивой
перспективой для аристократа.
С этим, по крайней мере отчасти, можно связать любопытный демографи-
ческий казус. Судя по имеющимся отрывочным данным, 11 из 13 архиереев со-
ответствующего происхождения решение об уходе от мира приняли во второй
половине XV - первой трети XVI в. Видимо, в Церковь в относительно раннем
возрасте в середине - второй половине XVI в. пришли лишь Тихон (Хворости-
нин) и Варлаам (Пушкин). Трудно удержаться от соблазна связать это с завер-
шением процесса формирования служебной организации в середине XVI в. Во
всяком случае, несомненным фактом является резкое снижение интереса к цер-
ковной карьере у представителей знати в XVII в. Если в XV-XVI вв. кафедры
46
Гурлянд И.Я. Романовские мурзы и их служилые татары. Тверь, 1904; Беляков А.В. Чин-
гисиды в России XV-XVII веков. Просопографическое исследование. Рязань, 2011; Беляков А.В.
Землевладение ногайских мирз и князей в России второй половины XVI-XVII вв. // Сборник
статей по русской истории в честь А.И. Гамаюнова к его 60-летию от друзей и коллег. М., 2019.
С. 85-106; Селин А.А. Татары-мусульмане и новокрещены в Новгородской земле: формирование
и функционирование малой социальной группы (конец XVI - начало XVII в.) // Quaestio Rossica.
2016. Т. 4. № 3. С. 93-110; Моисеев М.В. Землевладение служилых татар в Коломенском уезде
в конце XVI в. (предварительные замечания) // Вестник Университета Дмитрия Пожарского. 2017.
№ 2(6). С. 236-247.
47
Усачёв А.С. Состав заказчиков рукописных книг XVI в. и проблемы формирования русской
военно-служилой элиты // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2019. № 3(77). С. 75-80.
48
Беляков А.В. «…И бе их столько, еже несть числа»: форум // Петербургские славянские
и балканские исследования = Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2009. № 1-2(5-6). С. 127.
14
занимали, пусть и не слишком часто, выходцы из аристократических родов
(кн. Оболенских, Траханиотовых, Колычевых), то в XVII в. представителей
сопоставимых по происхождению и социальному весу родов в роли архиереев
не оказалось (единственное исключение - вынужденно принявший постриг
Филарет Романов). Как число происходящих из этой среды архиереев XVII в.,
так и их статус в миру были существенно ниже по сравнению с XVI в. Митро-
политов тобольского Игнатия (Римского-Корсакова) (1692-1701) и псковского
Иосифа (Римского-Корсакова) (1698-1717), а также патриарха Иоакима (Савё-
лова) (1674-1690) с точки зрения статуса в миру стоит сопоставлять не с кн.
Стригиными-Оболенскими или Колычевыми, а скорее со Скрипицыными,
Стремоуховыми или Заболоцкими. Выходца из литовско-русского княжеского
рода Курцевичей Иосифа, занимавшего Суздальскую кафедру в 1626-1634 гг.,
впервые на кафедру (Владимирскую и Брестскую) поставили на территории
Речи Посполитой (1621)49.
На снижение притягательности пути в Церковь представителей знати ука-
зывает и характер эволюции социального статуса преподобных. Согласно под-
счётам Е.В. Романенко, из 48 преподобных XV-XVI вв., чей статус в миру
известен, бояр, детей боярских и дворян было 13 человек, крестьян - 14, про-
столюдинов - двое, горожан и ремесленников - 10, купцов - пятеро, пред-
ставителей белого духовенства - четверо. В XVII в. сложилась принципиально
иная картина: из 22 преподобных знатными являлись лишь двое, по столько же
происходили из среды состоятельных горожан и из купцов, а 16 - из крестьян.
Романенко связывает ослабление интереса представителей знати к иноческой
жизни с комплексом лишавших их «надёжной перспективы» мероприятий по-
следней четверти XVI в., направленных на ограничение роста монастырского
землевладения50. На мой взгляд, причина скорее в ином: функционирование
созданной во второй половине XV - середине XVI в. служебной организации,
гарантировавшей «трудоустройство», высокий статус и материальное обеспече-
ние всех взрослых выходцев мужского пола из соответствующей страты, сни-
жало их потребность в поиске иных социальных полей для самореализации.
Причины ухода в Церковь в раннем возрасте очень немногих предста-
вителей знати в рассматриваемый и более ранний период следует искать не
в социальной сфере, а в области религиозного сознания. Это наглядно де-
монстрирует судьба самого знатного архиерея XVI в. - тверского епископа
Вассиана (1477-1508) (в миру - кн. Василий Иванович Стригин-Оболенский).
Это единственный известный пример того, как знатный человек, занявший
в Церкви значимое место, в миру мог рассчитывать на такое же или даже более
высокое положение. Потомок черниговских князей, внук и сын ближайших
к Василию II и Ивану III бояр, старший сын полководца кн. Ивана Стриги, как
показывает судьба его младших братьев, неизбежно занял бы одно из первых
мест в Думе. Однако он избрал иной путь и, уходя в Церковь, явно не стремил-
ся сохранить или повысить дарованный происхождением и без того высокий
49
Устинова И.А. Из практики архиерейских поставлений в XVII в.: традиции и новации //
История России с древнейших времён до XXI века: проблемы, дискуссии, новые взгляды. Сборник
статей участников международной научно-практической школы-конференции молодых учёных
(24-25 ноября 2020 г.). М., 2020. С. 58-64.
50
Романенко Е.В. Основатели монастырей на Руси: их социальный и образовательный ста-
тус (XIV-XVII вв.) // Монастырская культура как трансконфессиональный феномен. М., 2020.
С. 37, 38.
15
статус51. Сходным образом обстояло дело и с митрополитом Филиппом (Колы-
чевым) (1566-1568). Представитель новгородской ветви «крепкого» старомо-
сковского рода, имевший неплохие служебные перспективы (два его дяди и два
двоюродных брата в 1540-1560-е гг. входили в Думу), судя по всему, с юности
тяготел к церковной карьере. В зрелом по меркам Средневековья 27-летнем
возрасте он ещё не был женат. Это, а также место пострига - отдалённый
Соловецкий монастырь, не являвшийся ни обителью элиты, ни «кузницей»
архиереев, - убеждает в искренности стремления аристократа уйти от мира52.
Резюмируя, отмечу, что относительно невысокая доля аристократов среди
русских архиереев XVI в. обусловлена двумя обстоятельствами. В первую оче-
редь, это связано с традициями Русской церкви, заложенными ещё в первые
десятилетия её существования под влиянием практики восточного христиан-
ства, для которого генеалогическая уния епископата и политической элиты
не характерна. Вторым обстоятельством являлась сравнительная малочислен-
ность необходимого русским государям в XV-XVI вв. слоя служилых людей
«по отечеству», способных защищать и управлять обширным, но ещё достаточ-
но рыхлым в административном отношении государством. Великокняжеская
власть, предпринимая все возможные усилия, чтобы удержать всех или, по
крайней мере, большинство представителей «класса служилых землевладель-
цев» на своей орбите, в целом успешно решала две взаимосвязанные задачи.
С одной стороны, она не допускала их окончательного измельчания, разорения
и «вымывания» из соответствующего слоя53, с другой - самыми различными
методами накрепко «привязывала» их к служебной организации. Даже отъез-
ды на богомолья (особенно в отдалённые обители) контролировались властью:
служилые люди должны были подавать челобитные, отпрашиваясь со службы.
Временные отлучки по другим «уважительным» причинам (смерть близкого
родственника, пожар в поместье и т.д.) также подлежали согласованию, при-
чём возраст и состояние здоровья вескими причинами для ухода со службы
признавались не всегда. Источники содержат сведения о паническом страхе
дворян перед неявкой на службу, что в перспективе приводило большинство
из них к утрате единственного источника доходов - жалованья и поместья54.
Демографическая ситуация не оставляла власти выбора - наличие значитель-
ного числа свободных от службы потомственных воинов и управленцев для неё
являлось непозволительной роскошью.
Своего апогея процесс прикрепления всех без исключения дворян к служ-
бе государю достиг в период правления Петра I. Если его предшественники
предпочитали использовать сравнительно «мягкие» механизмы принуждения
к службе, повышая поместные и денежные оклады, раскрывая перед провин-
циальным служилым человеком заманчивую перспективу попадания в состав
51
Усачёв А.С. «Честные и благородные люди» в Русской церкви XV-XVI вв. Особенности
самоидентификации // Диалог со временем. Вып. 77. М., 2021. С. 323-324.
52
Усачёв А.С. Время и причины ухода Фёдора Колычева в Соловецкий монастырь // Quaestio
Rossica. 2022. Т. 10. № 1. С. 319-334.
53
Это достигалось, в частности, запретами на закабаление детей боярских состоятельными
землевладельцами (Панеях В.М. Кабальное холопство… С. 78).
54
Горбатов Е.Н. Отпускные челобитные служилых людей 1626-1629 годов // Очерки фео-
дальной России. Вып. 17. М.; СПб., 2013. С. 213-396; Отпускные челобитные московских чинов
в начале царствования Алексея Михайловича (1645 г.) / Публ. Е.Н. Горбатова // Российская генеа-
логия. Вып. 4. М., 2018. С. 19-98; Козляков В.Н. Служилые люди… С. 161-162, 164, 198.
16
«выбора» и, соответственно, Государева двора, то Пётр гораздо чаще использо-
вал более жёсткие методы. Под страхом конфискации владений он обязал всех
дворян служить с 15 лет, являясь на смотры в ещё более раннем возрасте (лица,
информировавшие власти о «нетчиках», получали часть их имущества). Серьёз-
ным «стимулом» к службе являлся и запрет на покупку земельных владений
лицами, не располагавшими значимым «стажем» на военной или гражданской
службе55. Итоги анализа правового - прямо скажем, незавидного - положения
дворянства петровской эпохи дали основания Е.В. Анисимову не только задать-
ся вопросом о том, «можно ли назвать господствующим классом-сословием»
«забюрократизированное, зарегламентированное дворянство, обязанное учить-
ся, чтобы затем служить, служить и служить», но и дать на него отрицательный
ответ56. По предположению Н.Н. Петрухинцева, желая развеять возможные ил-
люзии представителей русской знати относительно их социальных перспектив
в рамках «регулярного государства», Пётр I, поначалу использовавший термин
«шляхетство», от него отказался. Слишком явные ассоциации с «шляхетскими
вольностями» соседней Речи Посполитой «Отцу Отечества» были ни к чему57.
Ситуация изменилась лишь во второй половине XVIII в.
«Манифест
о вольности» дворянства и развившая его основные положения «Жалованная
грамота» предоставили дворянам право самим определять свою судьбу. Служ-
ба для них стала необязательной. Освобождение дворянства от обязательной
службы запустило процесс постепенного выветривания из социальной почвы
гумуса, породившего служебную организацию, с известными модификациями
функционировавшую со второй половины XV до второй половины XVIII в.
Конечно, в силу ограниченности своих имущественных возможностей далеко
не все представители благородного сословия поспешили воспользоваться даро-
ванным правом покинуть полки и коллегии58. Как правило, службу оставляли
состоятельные лица, не удерживаемые её экономическими выгодами. Однако
в XVIII в. и позднее после секуляризации и ослабления роли Церкви в обще-
стве духовная карьера их уже не прельщала59. Покинувшие службу дворяне
сосредоточились на обустройстве имений, светской жизни в салонах, обще-
ственной и литературной деятельности60.
55
Анисимов Е.В. Время петровских реформ. Л., 1989. С. 304-312; Павленко Н.И. Пётр Вели-
кий. М., 1990. С. 493-496.
56
Анисимов Е.В. Время петровских реформ. С. 310-313.
57
Петрухинцев Н.Н. Консолидация дворянского сословия и проблемы формирования оформ-
ляющей его терминологии // Правящие элиты и дворянство России во время и после петровских
реформ (1682-1750). М., 2013. С. 256-281.
58
Фаизова И.В. «Манифест о вольности» и служба дворянства в XVIII столетии. М., 1999.
59
Запальский Г.М. Настоятели мужских монастырей в России в синодальный период и их
социальное происхождение // Монастырская культура… С. 279-287.
60
О размывании традиционных ценностных ориентиров дворян и постепенном выходе их ак-
сиологического горизонта за пределы успешной карьеры на службе государю см.: Марасинова Е.Н.
Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века (По материалам перепи-
ски). М., 1999.
17