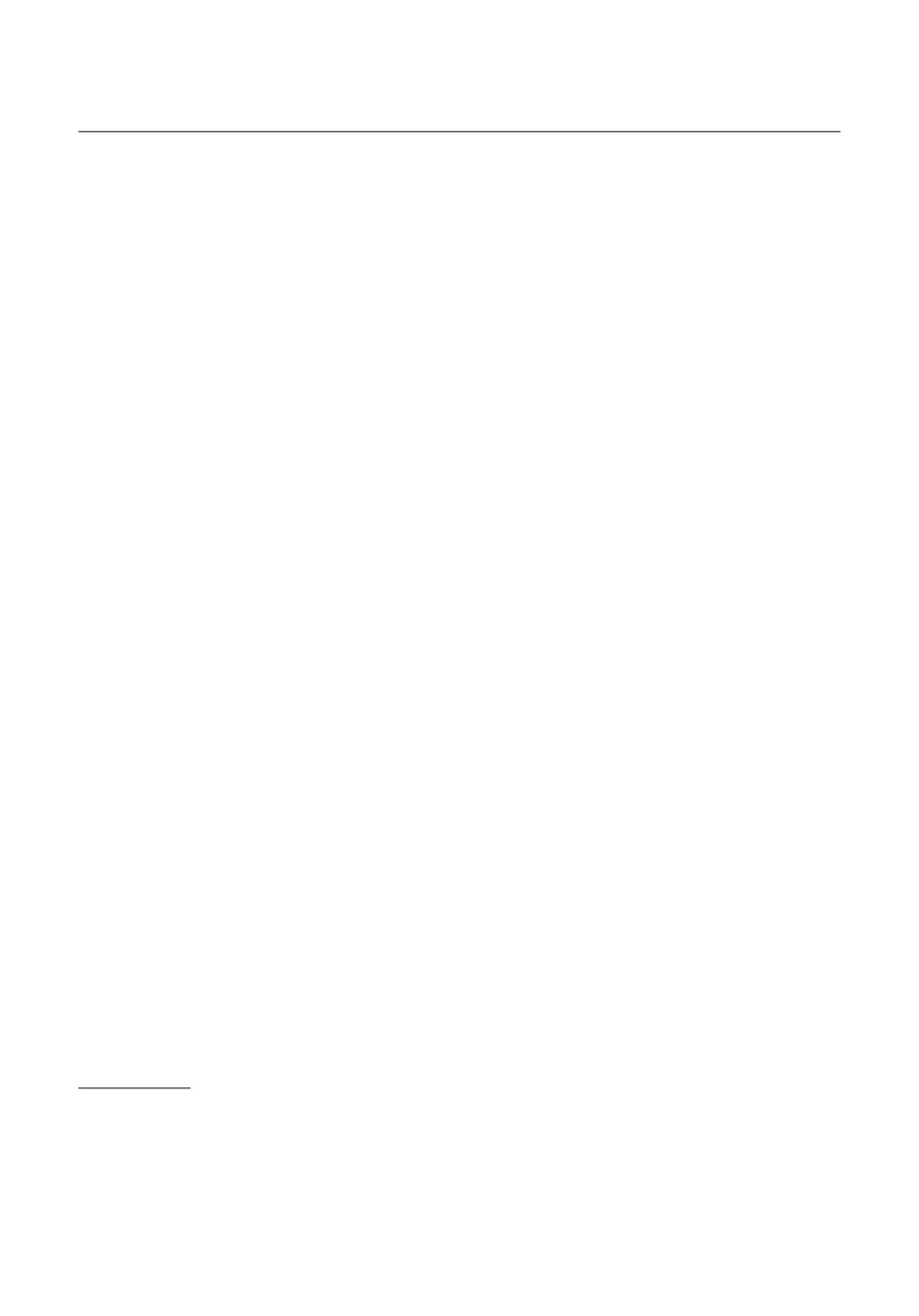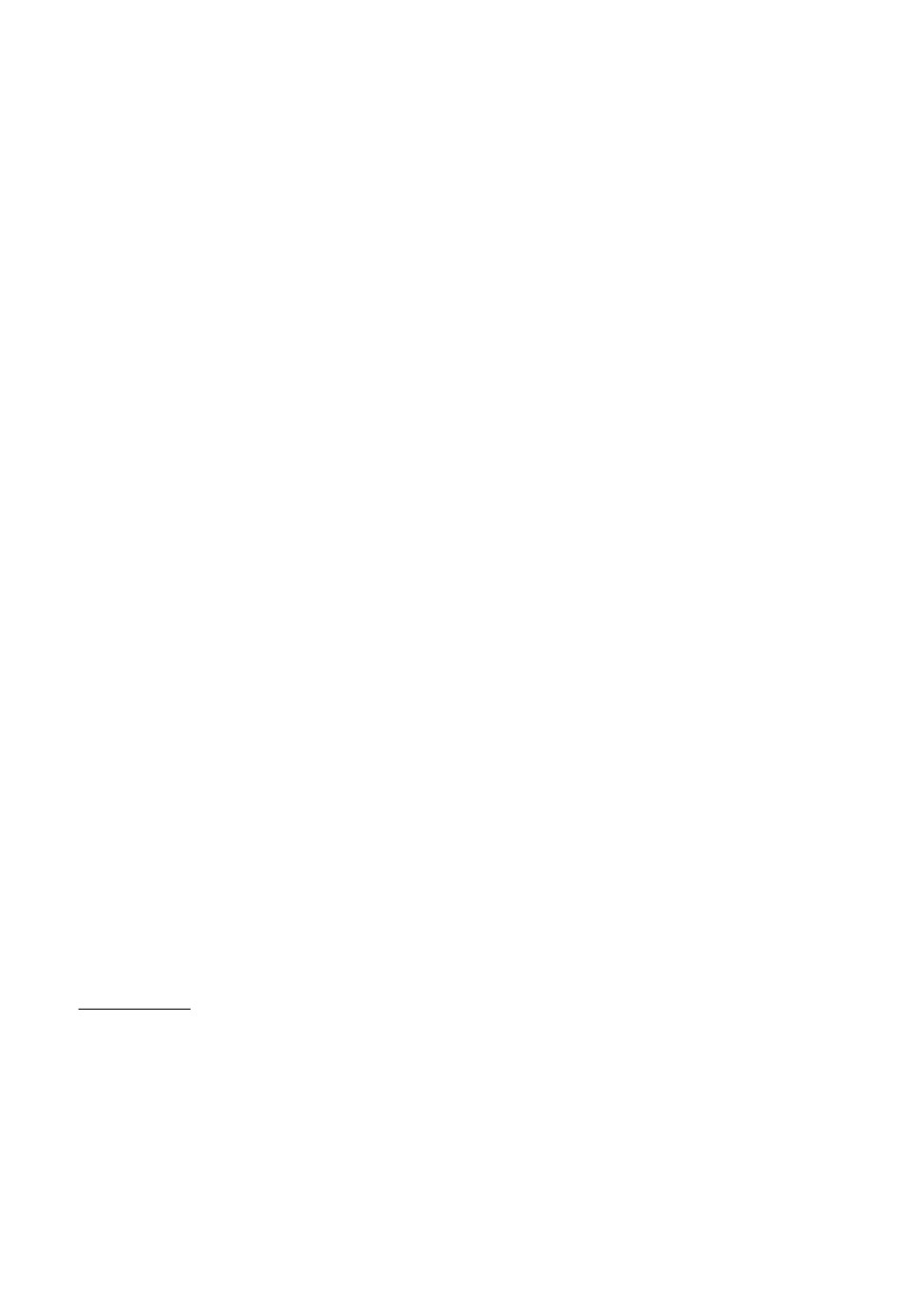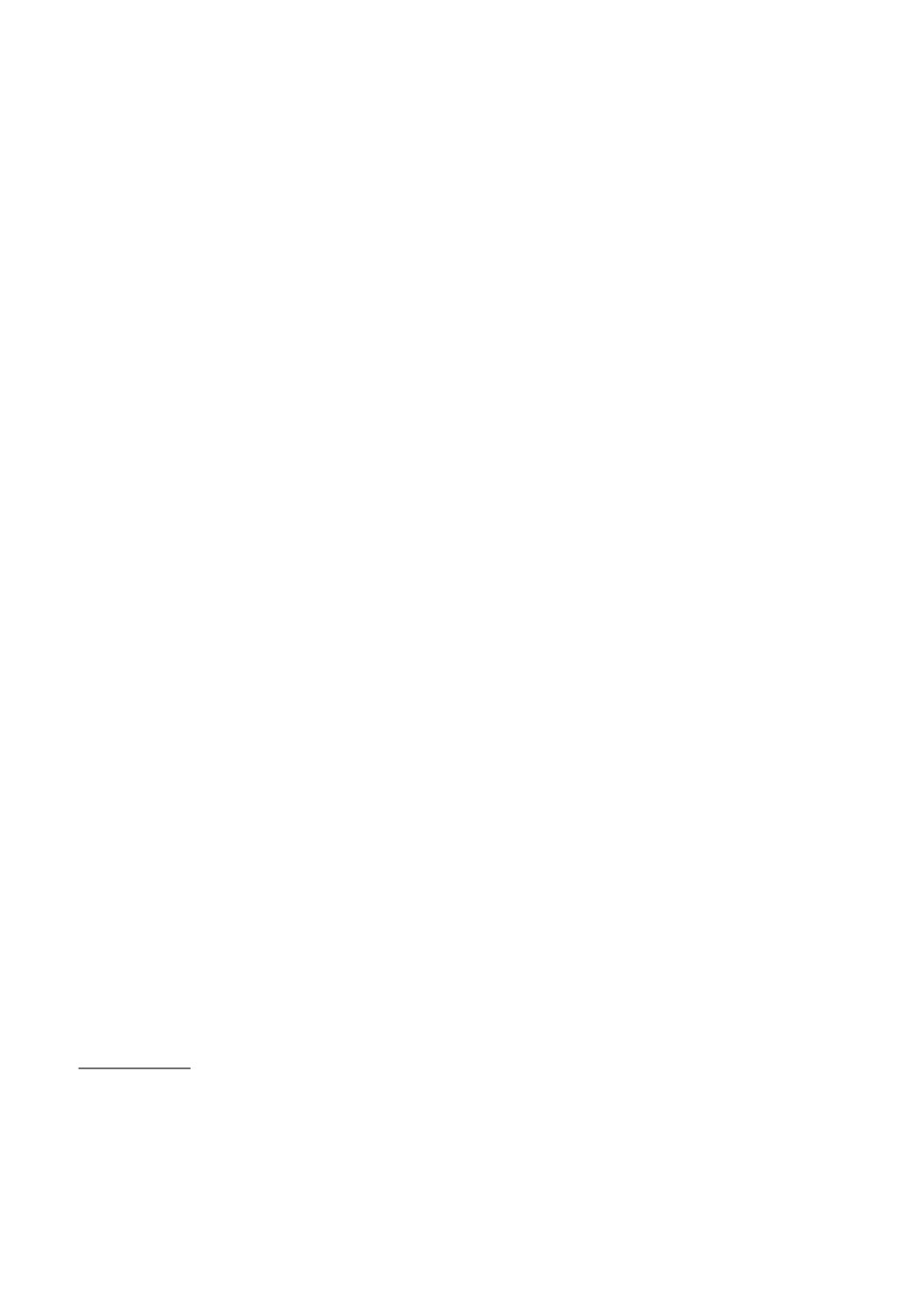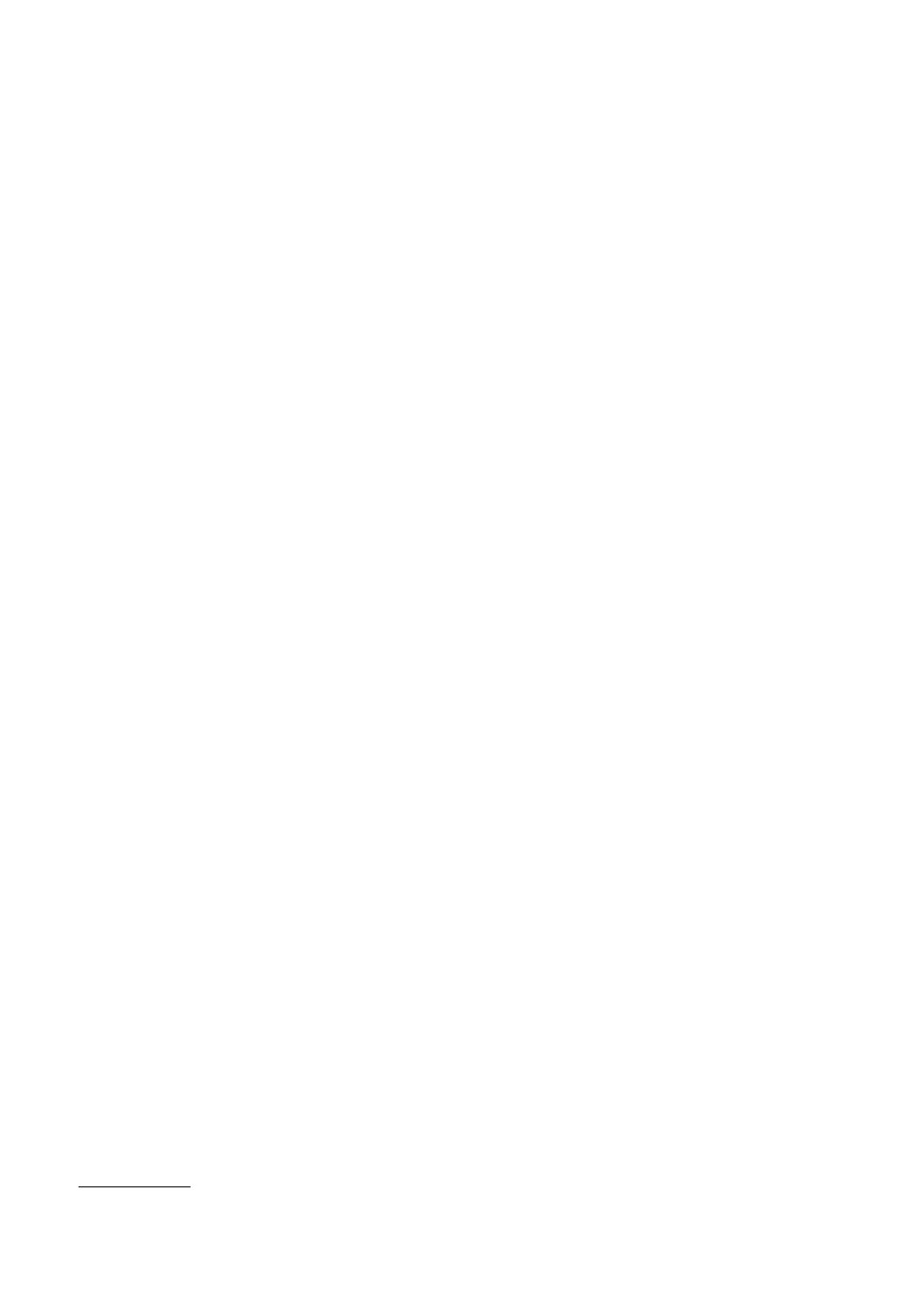Лица и взгляды
«Великий реформатор» или «гениальный бюрократ»:
М.М. Сперанский в общественном мнении
начала 1860-х гг.
Ирина Ружицкая
«Great Reformer» or «Brilliant Bureaucrat»:
M.M. Speransky in public opinion in the early 1860s
Irina Ruzhitskaya
(Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences, Moscow)
DOI: 10.31857/S0869568722040045, EDN: FZDJCW
«Провозглашённая» весной 1855 г. Ф.И. Тютчевым «оттепель» свидетель-
ствовала об окончании «николаевской» эпохи, и хотя никакого обновления
страны в первые годы нового царствования не последовало, с началом ре-
форм на авансцену вышли представители высшего чиновничества, получившие
позднее в историографии наименование «либеральных» или «просвещённых»
бюрократов. Именно они стали основной движущей силой преобразований
Александра II. К их числу принадлежал и барон М.А. Корф, в середине сен-
тября 1861 г. опубликовавший двухтомную биографию гр. М.М. Сперанского1,
которого многие исследователи по праву считают идейным вдохновителем рос-
сийского правительственного реформизма первой половины XIX в. Однокаш-
ник А.С. Пушкина по Царскосельскому лицею, Корф вполне соответствовал
тем ожиданиям, которые связывались с воспитанниками этого учебного заве-
дения, созданного по замыслу Сперанского для «подготовки юношей к важ-
ным частям службы государственной». Будучи государственным секретарём
(1834-1843), а впоследствии главноуправляющим II отделением Собственной
е.и.в. канцелярии (1861-1864) и председателем Департамента законов Государ-
ственного совета (1864-1872), Корф активно участвовал в подготовке преоб-
разований 1860-х гг. и в известной мере продолжал дело Сперанского, ранее
занимавшего эти же посты или исполнявшего те же обязанности2. По словам
Е.Л. Рудницкой и А.Г. Тартаковского, Корф был среди тех «просвещённых
сановников прежнего царствования», которые примкнули «к либеральной бю-
рократии, включившейся в подготовку буржуазных реформ»3.
Это новое поколение чиновников возникло в немалой степени благодаря
усилиям Сперанского. Сам Корф проработал непосредственно под руковод-
ством Михаила Михайловича во II отделении Собственной е.и.в. канцелярии
пять лет (1826-1831): именно столько понадобилось на создание 15-томного
© 2022 г. И.В. Ружицкая
1
Корф М.А. Жизнь графа Сперанского. Т. 1-2. СПб., 1861.
2
Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская
альтернатива? М., 1991. С. 237-239; Эймонтова Р.Г. Русские университеты на путях реформы.
М., 1993. С. 36.
3
Рудницкая Е.Л., Тартаковский А.Г. Вольная русская печать и книга барона Корфа // 14 де-
кабря 1825 г. и его истолкователи. Герцен и Огарёв против барона Корфа. М., 1996. С. 11.
38
Свода законов, из которых Модест Андреевич подготовил 5. Эти годы прошли
в тесном общении и сотрудничестве, которое Корф подробно описал в 1839 г.
в «Кратком очерке моей жизни»4. За время совместной ежедневной работы они
достаточно сблизились: их переписка носила дружеский характер5. Сперанский
называл Корфа «лучшим своим работником». Тот же неоднократно отмечал,
насколько важным для него оказалось знакомство с «гением в полном смыс-
ле слова», «едва ли не превзошедшим всех прежних государственных людей
наших… имя которого глубоко врезалось в историю», а кончина представля-
ла собой «бедствие государственное». «Светило русской администрации угас-
ло», - записал в день его смерти Корф6. Окружающие, и прежде всего Нико-
лай I, видели в нём ученика и последователя Сперанского. Неудивительно, что
именно Корф стал его биографом.
Однако их взгляды далеко не во всём совпадали. Иные проекты Михаила
Михайловича Модест Андреевич жёстко критиковал как «кабинетные», ото-
рванные от жизни или несвоевременные. В конспекте барона об Александре I
и Сперанском говорилось: «Оба, без сомнения, одушевлены были одним ис-
кренним стремлением к благу России, между тем оба одинаково заблуждались
в предызбранности того пути, увлекаясь взаимными суждениями и доводами,
от одной теории заимствованными»7.
Впрочем, современники часто обвиняли Сперанского в утопизме и во вре-
мя его наибольшего влияния на императора в 1808-1812 гг., и после возвра-
щения из ссылки в Петербург. Между тем историки нередко видят отражение
идей, изложенных Сперанским в 1809 г. во «Введении к Уложению государ-
ственных законов», в «Проекте Уложения государственных законов», «Кратком
начертании государственного образования» и «Общем обозрении всех преобра-
зований и распределении их по временам», в том политическом строе, который
сложился в Российской империи после Манифеста 17 октября 1905 г. (особое
значение при этом придаётся строгому разделению в проектах реформатора
законодательной, исполнительной и судебной власти).
В 1847 г. в рамках курса правоведения Корф прочёл вел. кн. Констан-
тину Николаевичу лекцию «Исторический взгляд на законодательные наши
учреждения», рассмотрев в ней планы Сперанского и Александра I, которые
«содержали в себе полную систему народного представительства» и предпола-
гали предоставление законодательной власти выборной Государственной думе.
Корф, как и другие умеренные реформаторы, так далеко не шёл. По его мне-
нию, «власть законодательная в России так всегда была не разделена с само-
державною, что никакой закон у нас ни прежде не мог, ни теперь не может
исходить иначе, как только от верховного начала всех законов - государя»,
и соответственно «единая истинная власть законодательная - государь», а «не-
обходимость самодержавия для России есть аксиома, как аксиома и то, что без
сей связывающей силы громадный её состав мгновенно распадётся в прах».
Этим он объяснял и незыблемость самодержавия в России, и невозможность
введения «системы народного представительства». «Существо законных уста-
новлений» Корф усматривал «единственно в совещательном соображении, т.е.
в том, 1. Чтобы представить мнение своё по тем законодательным вопросам,
4
ОР РНБ, ф. 380, д. 1.
5
См.: ГА РФ, ф. 728, оп. 1, д. 1415.
6
Корф М.А. Дневники 1838 и 1839 гг. М., 2010. С. 275.
7
ГА РФ, ф. 728, оп. 1, д. 3204, л. 8.
39
которые представляются на их обсуждение непосредственно от верховной
власти; 2. Чтобы признавать и удостоверять необходимость нового закона, от
уполномоченных к тому властей (теперь министров) внесённого; 3. Чтобы об-
суживать проект такого закона и представлять его на усмотрение государя»8.
Как считал барон, сначала Сперанский не мог осознать, «что для России необ-
ходимо самодержавие, позднее опыт и глубокое душевное убеждение превра-
тили его в ревностного поборника самодержавия для России»9. Впрочем, неиз-
вестно, действительно ли Сперанский, вернувшись в Петербург, думал именно
так. С большой долей уверенности можно предполагать, что он до конца жизни
надеялся на осуществление проектов 1809 г.
Характерно, что даже в начале 1860-х гг., в обстановке общественного
подъёма, Корф не мог предать гласности все собранные им факты: из руко-
писи по настоянию гр. Д.Н. Блудова и Александра II были изъяты несколько
глав, в том числе о «Плане государственного преобразования» и обстоятель-
ствах высылки Сперанского из Петербурга в 1812 г.10 Иначе «книга совсем
и не могла бы явиться в свете»11. Понимая это, барон «охотно принимал на
себя» предсказуемый «упрёк о разных умолчаниях в уверенности, что никакой
рассудительный человек не вменит их в вину». Оправдывая подобные цезуры,
он писал в 1863 г. близкому другу и соратнику А.Ф. Бычкову: «Действительно,
мог ли я, в моём общественном положении и в моей истинной и не гоняю-
щейся за модными фактами любви к России, проводить и воскрешать перед её
глазами - именно в настоящую минуту, когда вся наша атмосфера наполнена
несбыточными конституционными мечтами - утопические планы, которыми
тешились в этом круге идей полвека тому назад Александр и Сперанский»12.
Между тем в то время Корф активно участвовал в обсуждении проектов
земской и судебной реформ, преобразований в сфере народного просвещения
и т.д. А в декабре того же 1863 г. он подготовил для императора «Исторический
очерк конституционных начинаний в России». В этой записке «конституцион-
ные начинания» усматривались ещё в действиях Боярской думы, а «полити-
ческие свободы» - при Петре I, подробно анализировались тексты «Всемило-
стивейшей грамоты, российскому народу жалуемой», и «Введения к Уложению
государственных законов». Однако при этом оговаривалось: «Если Сперанский
был смел до дерзости в замысле преобразований, то показал гораздо более
осмотрительности в исполнении; он понял светлым своим умом, что неиз-
меримо легче было написать, чем осуществить написанное; понял и то, как
опасно превратить вдруг вековые основы монархии и поверья народа, и как
при внезапности переворота действительные последствия могут выйти совсем
наперекор надеждам». Именно поэтому он сам отказался от полномасштабной
реализации своих замыслов, и их постигла та же судьба, что и «кондиции»
8
Там же, л. 2, 9, 14-15. Эта фраза почти дословно повторяла мысли Сперанского конца
1826 - начала 1827 г.: «Существо законодательных наших установлений состоит единственно в со-
вещательном соображении, т.е. в том, 1) чтобы признать и удостоверить необходимость нового
закона; 2) чтобы составить проект закона и представить его на усмотрение единой истинной вла-
сти - законодательной власти государя» (Сперанский М.М. О государственных установлениях //
План государственного преобразования графа М.М. Сперанского. М., 2004. С. 148).
9
ГА РФ, ф. 728, оп. 1, д. 3204, л. 2, 7, 9, 14-15.
10
Несколько данных к истории книги бар. М.А. Корфа «Жизнь графа Сперанского» (Из бу-
маг академика А.Ф. Бычкова) / Сообщ. И.А. Бычков // Русская старина. 1902. № 1. С. 141-174.
11
Бычков А.Ф. Граф М.А. Корф // Древняя и новая Россия. 1876. № 4. С. 335.
12
Несколько данных к истории книги бар. М.А. Корфа… C. 172-173.
40
Анны Иоанновны, и «Наказ» Екатерины II. Роль Александра I тут явно стушё-
вывалась. Завершая обзор «конституционных начинаний» в России, связанных
с «прочными учреждениями для ограничения самодержавной власти», Корф
заключал, что в изменившейся к началу 1860-х гг. общественной атмосфере
такие шаги «в разуме времени» и создание высших представительных законо-
совещательных институтов уже не противоречат сложившимся политическим
обстоятельствам13. Тем самым в его позиции и внутренних убеждениях имелась
некоторая двойственность, проявившаяся и в работе над книгой о Сперанском.
Кроме того, отсутствие в биографии целого ряда сюжетов связано с тем,
что основная часть текста была создана ещё в конце 1847 г. Судя по записям
в дневнике Корфа, этому предшествовала многомесячная работа14. В предисло-
вии же к первому тому сообщалось, что дочь гр. Сперанского Е.М. Фролова--
Багреева, отдавая в Императорскую Публичную библиотеку оставшиеся после
отца бумаги и письма, желала видеть их изданными. При подготовке публи-
кации Корф сначала «почёл нужным» сделать «объяснительные примечания»,
но вскоре решил заменить их «последовательным рассказом, который служил
бы введением и ключом к содержанию писем». Этот текст Модест Андреевич
«извлёк из материалов, собранных им для обширной биографии Сперанско-
го, написать которую он было вздумал лет шестнадцать тому назад»15. Тем не
менее это не помешало ему в 1868 г. опубликовать бумаги Сперанского без
каких-либо подробных комментариев16.
Несмотря на цезуры, читательский интерес к работе Корфа оказался очень
высок. «Книга моя была прочтена всеми, кто только читает в России», - сообщал
он Бычкову. Более того, ей «выпала довольно редкая для сочинений на русском
языке участь: быть прочитанной и в высшем обществе, и даже всеми так называ-
емыми государственными людьми», при этом избегнув их “острацизма”»17. Сразу
после её выхода на страницах столичных изданий развернулась бурная полемика.
По словам Корфа, «не было ни одной газеты, большой или мелкой, как ни одно-
го толстого журнала, которые не поспешили бы заявить своё мнение о “Жизни
графа Сперанского”». Сам автор довольно точно описал процесс обсуждения
своей книги: «Одни выдавали меня за пристрастного сторонника Сперанско-
го, который, по их уверениям, совсем и не стоит биографии; другие называли
врагом его, не довольно признающим достоинства единственного нашего го-
сударственного человека; те утверждали, что целью моей было возвести его на
незаслуженный пьедестал, эти - что я хлопочу только о том, как бы свергнуть
его с пьедестала. Были и такие, которым хотелось уверить, что публика ничем не
больше узнает Сперанского после моей биографии, чем прежде»18.
Но всё же большинство рецензентов высоко оценили вышедший труд19.
Так, М.Н. Лонгинов, отдавая должное «добросовестности и беспристрастии ав-
тора», утверждал, что «уже один факт появления такой книги, как сочинение
барона Корфа», представляет огромный «общественный интерес», и обращал
13
ГА РФ, ф. 728, оп. 1, д. 2748.
14
Там же, д. 1817, ч. 10.
15
Корф М.А. Жизнь графа Сперанского. Т. 1. С. IV.
16
Русский архив. 1868. № 7-8. Стб. 1103-1212; № 11. Стб. 1681-1811.
17
Несколько данных к истории книги бар. М.А. Корфа… C. 172.
18
Бычков А.Ф. Указ. соч. С. 334.
19
Сын Отечества. 1861. 15 октября. № 42; Наше время. 1862. 14 марта. № 56; Северная пчела.
1862. № 21.
41
внимание читателей на «богатство материала… ясность, выразительность, пра-
вильность языка» и множество «совершенно новых подробностей»20. Однако
Корф не обольщался подобными отзывами, связывая их со своим высоким
положением в империи и прямым указанием на титульном листе, что его про-
изведение «печатается с высочайшего соизволения».
Ещё до публикации, 23 мая 1861 г., он делился с Г.С. Батеньковым своими
опасениями, предвидя болезненную реакцию части сановников, придерживав-
шихся, по его выражению, «карамзинского мнения» и «ищущих единственно-
го якоря спасения в неподвижности, исторической тайне»21. Впоследствии он
сетовал на то, что «при нынешнем направлении и тоне» критики, говоря о его
книге, публицисты «под шумок» пропагандируют свои взгляды22. Действитель-
но, затронутые бароном сюжеты открывали широкий простор для рассуждений
о путях переустройства русского общества, о типах реформаторов и характере
преобразований. Пресса спешила высказаться на столь животрепещущую тему.
Ф.М. Дмитриев резонно заметил, что освещение деятельности Сперанского
представляло для людей 1860-х гг. «практический интерес»23. Я.К. Грот назвал
вышедшую биографию «памятником нового духа, повеявшего на Россию с пер-
вых лет царствования Александра II»24. При этом даже те, кто в целом высоко
оценивал рецензируемое издание, нередко критически высказывались об идеях
самого Сперанского. Его объявляли «крайним прогрессистом» (М.Н. Катков),
реформатором «слишком поспешным и опрометчивым» (М.П. Погодин), в нём
видели человека, «вознамерившегося перенести идеи французской революции
на русскую почву», радуясь крушению его планов и отрицая их прогрессивный
характер25.
В частности, в «Санкт-Петербургских ведомостях» отмечали, что сравнение
гр. Сперанского с бароном Г.-Ф.-К. фон Штейном в книге Корфа - отнюдь
не в пользу Михаила Михайловича. Прусский государственный деятель шёл
«снизу», начав «свои преобразования с действительных нужд», исходя «из ин-
тересов человека» и закрепляя уже «фактически свершившееся». В результате
им была выполнена «великая социальная задача». Сперанский же, напротив,
«всю силу своих способностей устремил на изобретение и устройство формы»,
испытывая «пристрастие к формам, бюрократизму и административной регла-
ментации», «что ненавидел и гнал Штейн». В статье даже говорилось, будто
Сперанский считал, что «русскому человеку ничего, кроме форм, не нужно;
если облагодетельствовать его новым уложением, взятым из французского, то
он сам собою представит такую массу зрелости, такое политическое образова-
ние и крепость исторических основ», какие позволят избежать «разыгравшихся
страстей», как это случилось во Франции. Поэтому рецензент признавал Спе-
ранского всего лишь «гениальным бюрократом», не являвшимся ни новатором,
ни сколько-нибудь значительной для общественной жизни фигурой26.
20
Русский вестник. 1861. № 11. С. 92, 94.
21
Сладкевич Н.Г. Очерки истории общественной мысли России в конце 50-х - начале 60-х гг.
XIX в. Л., 1962. С. 253.
22
Несколько данных к истории книги бар. М.А. Корфа… C. 145-146, 172.
23
Дмитриев Ф. Сперанский // Наше время. 1862. 18 января. № 13. С. 51.
24
Грот Я.К. Воспоминания о графе М.А. Корфе // Русская старина. 1876. № 2. С. 425.
25
[Катков М.Н.] Кое-что о прогрессе // Русский вестник. 1861. № 10. С. 123; Погодин М.П.
Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям. Ч. II. М., 1866. С. 84.
26
Санкт-Петербургские ведомости. 1861. 25 октября. № 236.
42
В «Библиотеке для чтения» появилась рецензия «Реформатор без рефор-
мы», где указывалось, что «барон Корф не сообщает ни одной черты из про-
екта общей реформы», задуманной Сперанским, о замыслах которого можно
судить лишь по отрывку из его пермского письма 1813 г. к Александру I и по
реализованным частям плана, прежде всего - по финансовой реформе. Однако
и в них нет ничего «не только нового, но и смелого». Тем не менее рецензент
неожиданно и парадоксально заключал: «Велики были ошибки этого замеча-
тельного человека, страшно обманулся он в своих главных верованиях, но он
был звеном в непрерывной цепи лучших людей отечества, этих дорогих нам
реформаторов, хотя и оставшихся без реформ». При этом автор с явной симпа-
тией отзывался о книге Корфа, в которой «часто высказываются очень светлые
взгляды»: «Несмотря на то что она не передаёт нам главного содержания жизни
Сперанского, написана она старательно и потребовала больших трудов. Всего
более приятно нам сказать, что слог барона Корфа перешёл в наш обыкновен-
ный язык»27.
В «Современнике» Н.Г. Чернышевский констатировал: «Если барон Корф
находит неуместным знакомить нас в пересматриваемой нами теперь книге
с характером общего плана преобразований, предположенных Сперанским во
время его силы пред государем, то само собою разумеется, что мы должны
согласиться с бароном Корфом относительно неуместности подобных объяс-
нений: но можно сказать, что это обстоятельство отнимает у нас возможность
рассуждать о Сперанском как о государственном человеке. Оставляя в неиз-
вестности главные его мысли и основное его стремление, мы не в силах сказать
что-нибудь положительное о нём как о реформаторе». Под видом критического
разбора книги он посвятил около сотни страниц рассуждениям об условиях,
необходимых для успешной реализации реформаторских проектов в России.
Причину неудачи, постигшей «русского реформатора», Чернышевский видел
в том, что Сперанский «был русский сановник, и, конечно, никогда не при-
ходила ему в голову мысль прибегнуть к замыслам или мерам, несогласным
с законными приёмами и обязанностями его положения». Так, будучи «отчасти
приверженцем той политической системы, которая преобразовала Францию»,
он «желал… изменять не одни второстепенные подробности и не одни внешние
формы прежнего государственного быта, а и некоторые существенные черты
его», но в то же время оставался «искренно предан императору и преобразо-
вывать государство хотел не низвержением его, а именно его властью». Неуди-
вительно, что для радикального критика «реформаторская деятельность» Спе-
ранского была «жалка, а сам он странен или даже нелеп». При этом «сущность
ошибки состояла в том, что Сперанский не понимал недостаточности средств
своих для осуществления задуманных преобразований», хотя планы его, как
признавал Чернышевский, были «действительно громадные». Таким образом,
иронизировал, завершая свой очерк, Николай Гаврилович, «читатель видит,
что мы столь же строги к Сперанскому, как и сам барон Корф, и главный
упрёк Сперанскому от нас тот же самый, какой делается ему бароном Корфом:
Сперанский был увлекающийся мечтатель. Нам очень приятно, что мы могли
сойтись в этом выводе с автором пересмотренной нами книги»28.
27
Библиотека для чтения. 1862. № 2. С. 64-66, 87.
28
Чернышевский Н.Г. Русский реформатор // Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений
в 15 т. Т. VII. М., 1950. С. 804-805. Первая публикация (без подписи автора): Современник. 1861.
№ X. С. 211-250.
43
Откликнулся на «прекрасную книгу барона М.А. Корфа о Сперанском»
и М.Н. Катков. Отметив, что «такие книги - редкость в нашей литературе», он
обнаружил в ней много фактов, свидетельствующих о несвоевременности для
России преобразований, опирающихся на «внешний» опыт, в особенности -
французский. Катков не сомневался ни в глубоком уме, ни в способностях
Сперанского, ни в том, что «не могла не оставить значительных следов жизнь
такого человека», хотя «следов этих окажется, может быть, более на других
путях, чем на той триумфальной дороге преобразователя, по которой пронёс-
ся он с громом». Однако московский журналист видел в нём только «ловкого
канцелярского чиновника, хотя бы и очень гениального, но не знавшего ни
русских законов, ни потребностей русской жизни». Именно поэтому «крайний
прогрессист», пытавшийся опереться на зарубежные образцы, не мог добиться
успеха, несмотря на свои выдающиеся качества и желание принести пользу
своему отечеству. Катков с сарказмом писал о желании сотрудников Алексан-
дра I «поставить Россию на путь безостановочного прогресса» и искренне радо-
вался тому, что «преобразованиям этим не суждено было сбыться», поскольку,
«если б они сбылись в то время, то они были бы чем угодно, только не прогрес-
сом». Ему казалось, что «наше общественное развитие будет и плодотворнее,
и охранительнее вместе в той мере, в какой мы будем сознавать, что прогресс
совершается в жизни и для жизни, не в облаках, а на земле, не в воздушных
постройках, а в данных действительного опыта». Соответственно, следовало
«искать элементов прогресса в самой действительности»29.
«Жизнь графа Сперанского», конечно, имела немало недостатков, многие
из них были неизбежны в тех условиях, в которых она создавалась. Не следует
забывать, что она являлась «первой связной и достоверной биографией Спе-
ранского, составленною на основе многих письменных документов, едва ли
кому-либо другому доступных»30. Кн. Н.А. Орлов писал Корфу из-за границы
после её публикации: «Ваша книга составит эпоху в исторической литературе
нашей. Со всех сторон России мне пишут о ней, и люди всех оттенков и пар-
тий оценивают Ваш труд, называя его единственным… и талантливым истори-
ческим произведением. Это единодушие лучше всяких похвал». Князь хорошо
понимал, с какими трудностями приходилось сталкиваться автору: «Многие
жалеют, что Вы не поместили всего проекта преобразований Сперанского. Я не
виню Вас в том и писал спрашивающим, что это было бы в настоящее время
невозможно»31. Далеко не случайно за свой труд Корф был удостоен полной
Демидовской премии, которая вручалась тем, кто много сделал «для содей-
ствия к преуспеянию наук, словесности и промышленности в своём отечестве».
Сам Модест Андреевич придавал данному произведению большое значе-
ние. «Написав и издав эту книгу, - делился он своими мыслями с Бычко-
вым, - я прожил на свете не совсем бесполезно и, думаю, совершил вместе
и подвиг гражданского мужества, ибо легко представить, как возопиют кама-
рилла и длинный ея хвост. “Камениями побиют”, как говаривал Сперанский.
А передовая партия всё-таки будет недовольна за умолчания и выставку напо-
каз императора Николая I»32. Ещё более определённо он высказался в письме,
отправленном 3 июня 1862 г. кн. В.Ф. Одоевскому: «Устройство библиотеки,
29
[Катков М.Н.] Кое-что о прогрессе. С. 107, 123.
30
Бычков А.Ф. Указ. соч. С. 336.
31
ГА РФ, ф. 728, оп. 1, д. 2688, л. 5-5 об.
32
Несколько данных к истории книги бар. М.А. Корфа… С. 146.
44
издание моего Сперанского и ещё это дело (отстаивание в Совете министров
проекта отмены телесных наказаний), после этого мне можно будет спокойно
вложить меч в ножны и надеяться на справедливость, по крайней мере, потом-
ства, если не современников»33.
Труд Корфа сыграл определённую роль в формировании либеральной кон-
цепции переустройства России. Его обращение к личности Сперанского свиде-
тельствовало о глубоком интересе к реформам и реформаторам. Поэтому нельзя
согласиться с тем, что, работая над «Жизнью графа Сперанского», Корф лишь
«играл в умеренный либерализм»34. Обсуждение биографии человека, чьё имя
неразрывно связано с преобразованиями первой половины XIX в., опублико-
ванной в то время, когда процесс реформирования империи набирал обороты,
стало важным событием в общественной жизни начала 1860-х гг. и вылилось
в дискуссию о том, нужны ли России перемены того или иного масштаба, и ка-
кими качествами должны обладать те, кто будет их осуществлять.
33
Императорская Публичная библиотека за сто лет. 1814-1914. СПб., 1914. С. 332.
34
Сладкевич Н.Г. Указ. соч. С. 253.
45