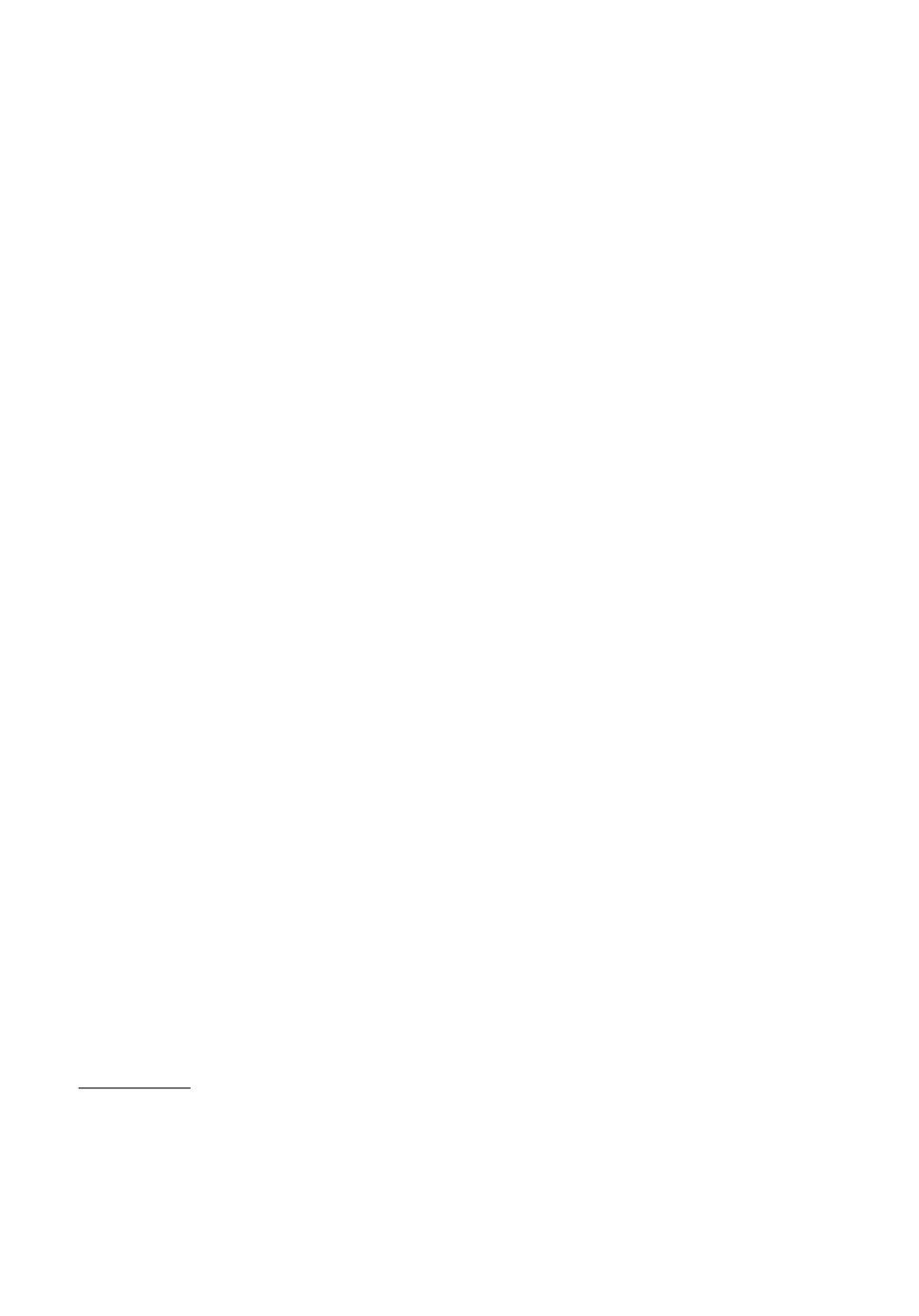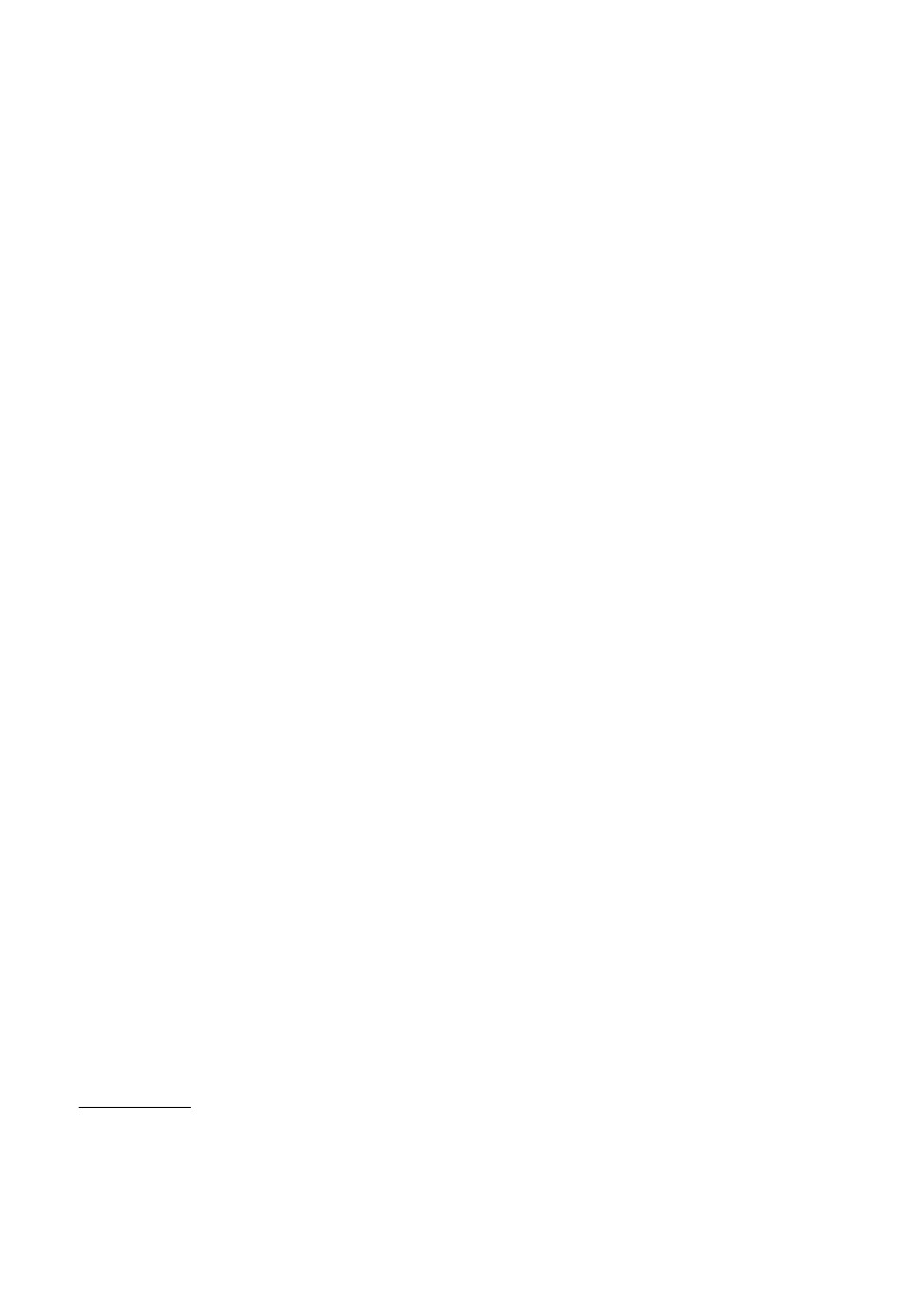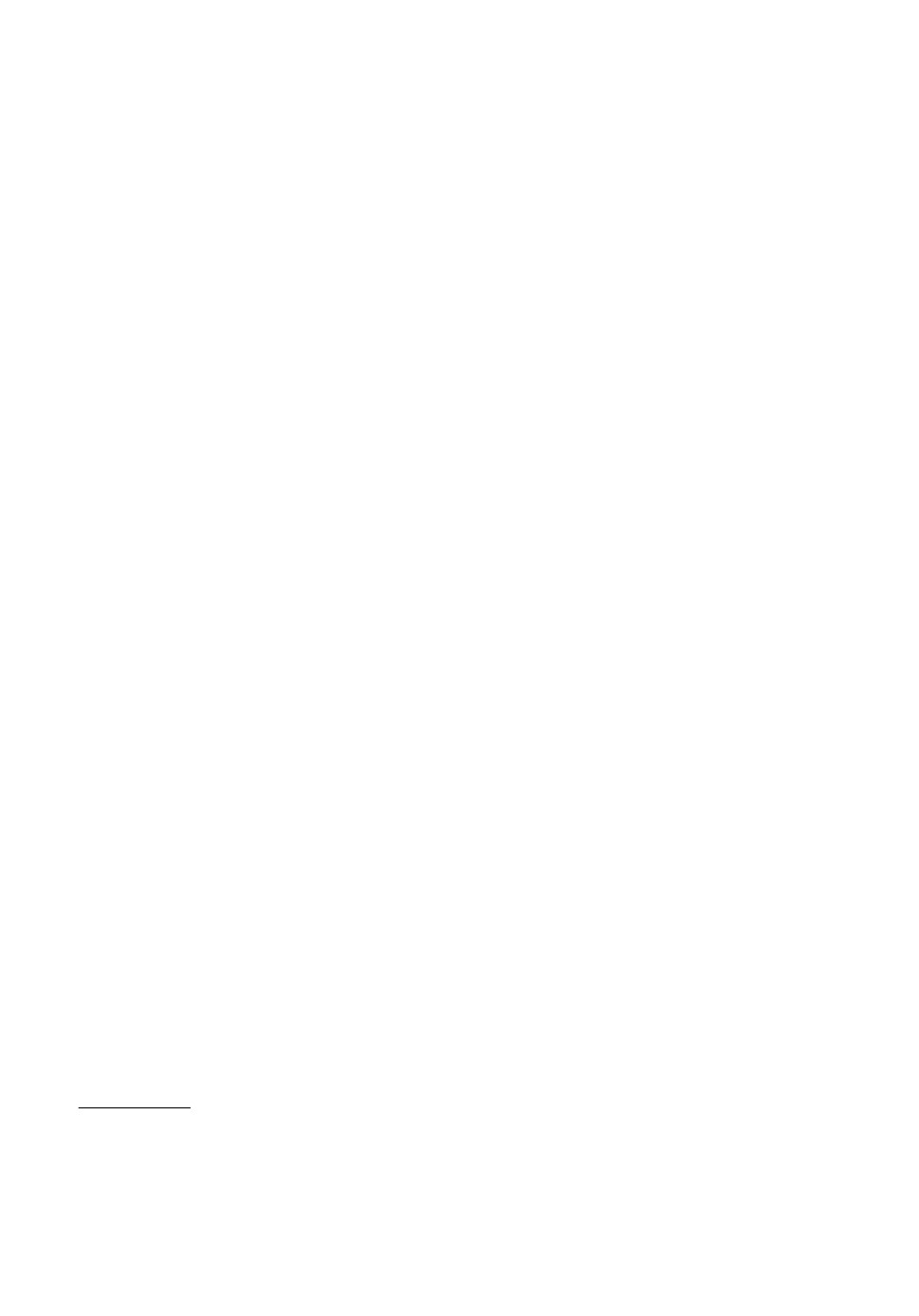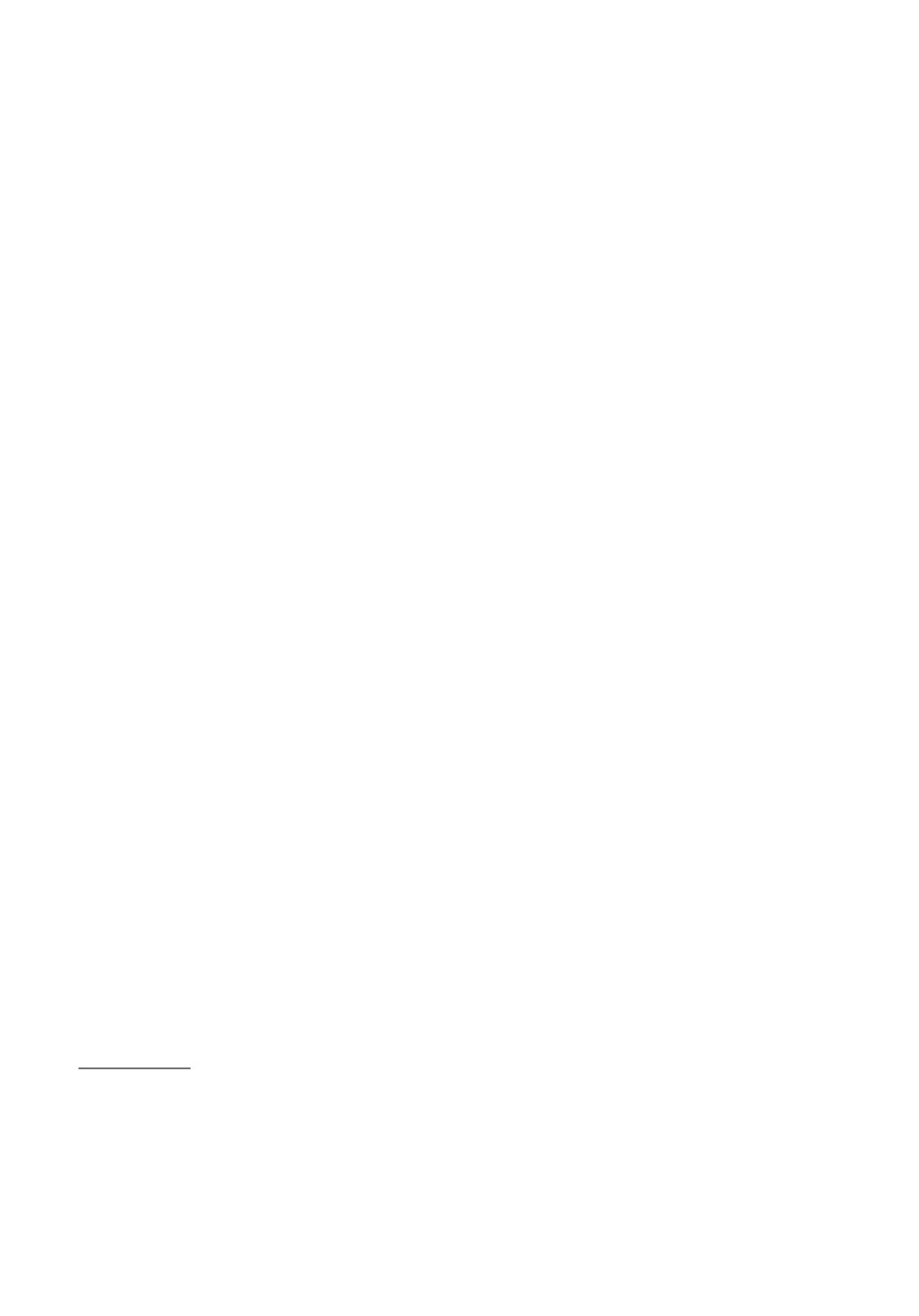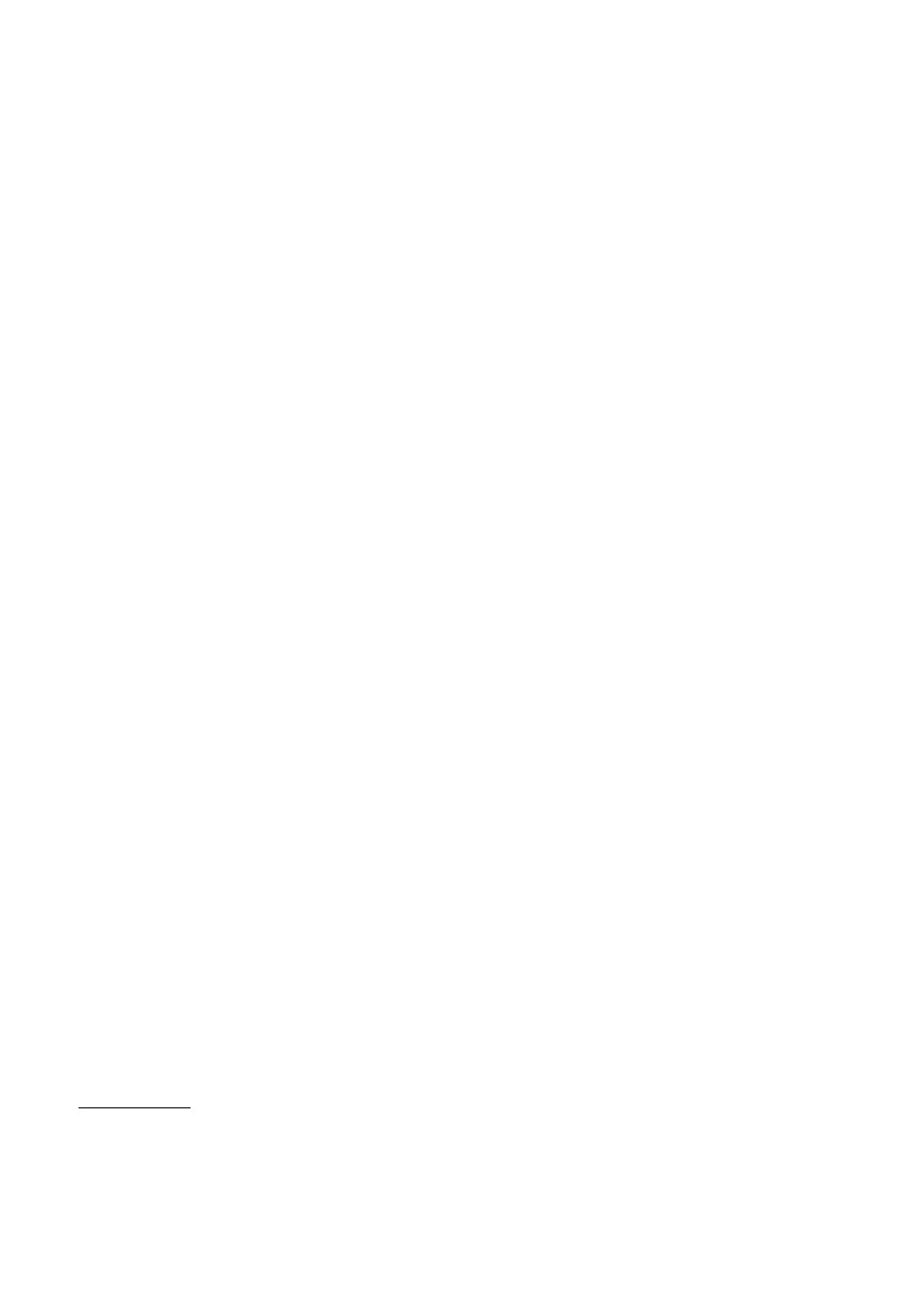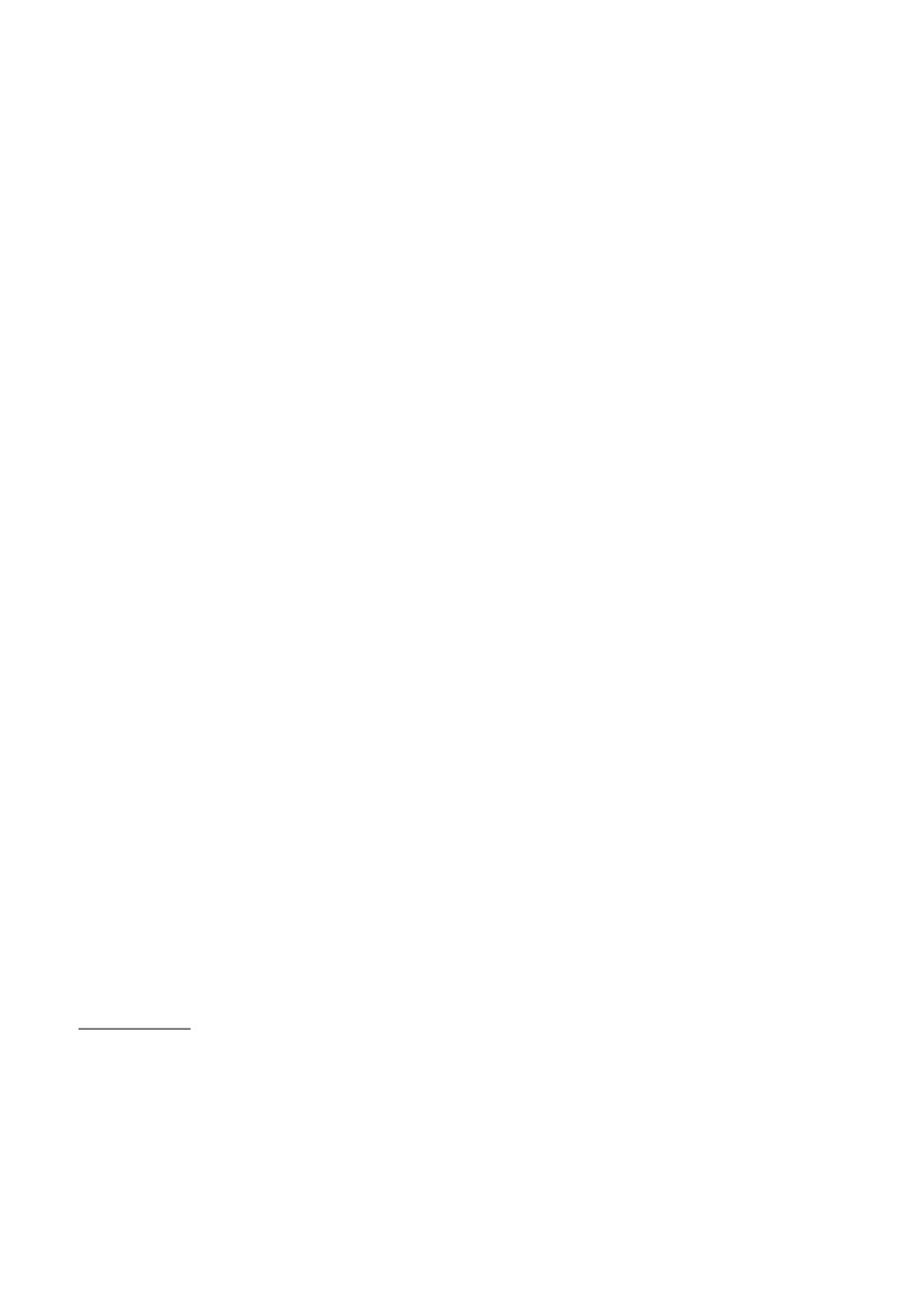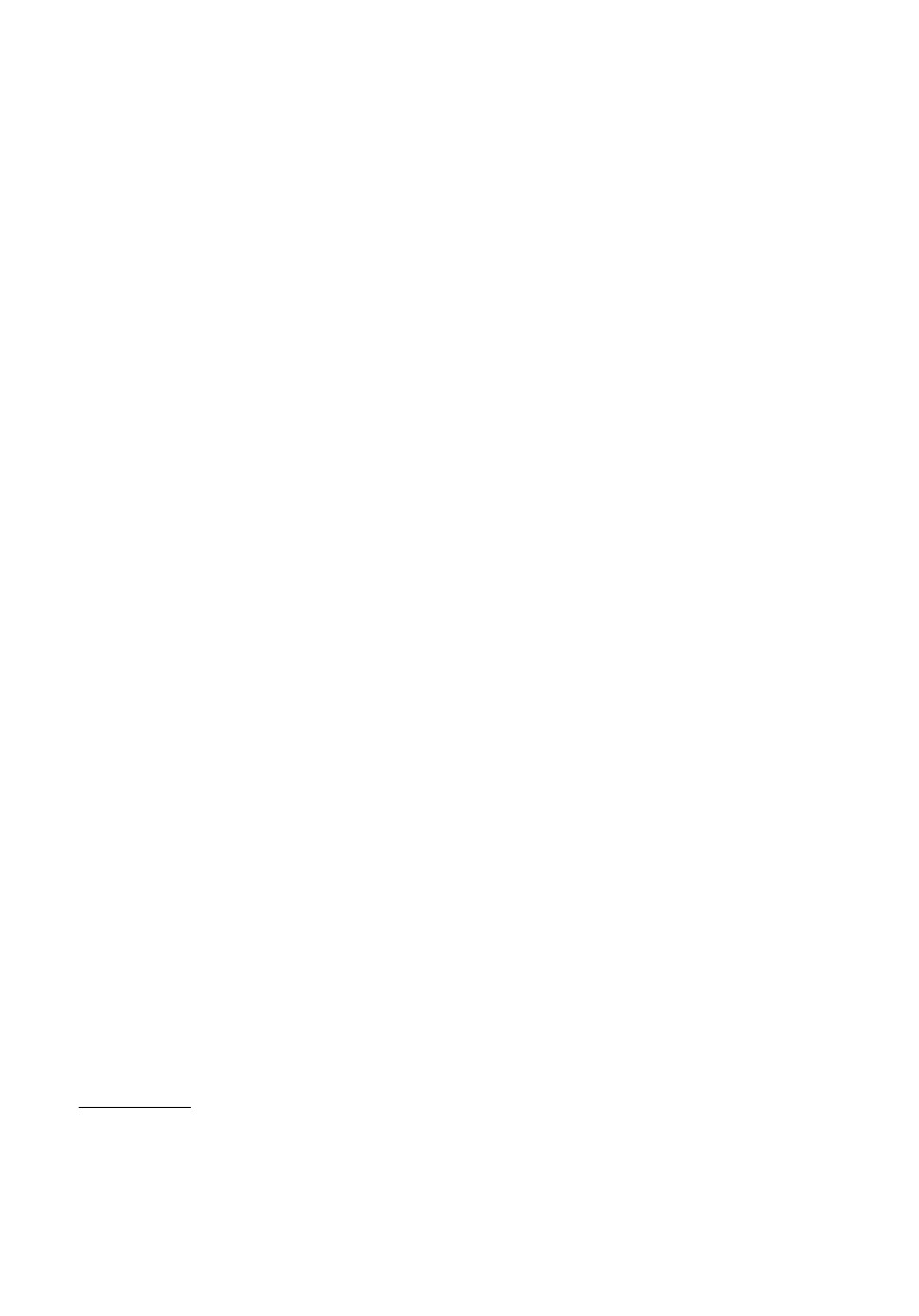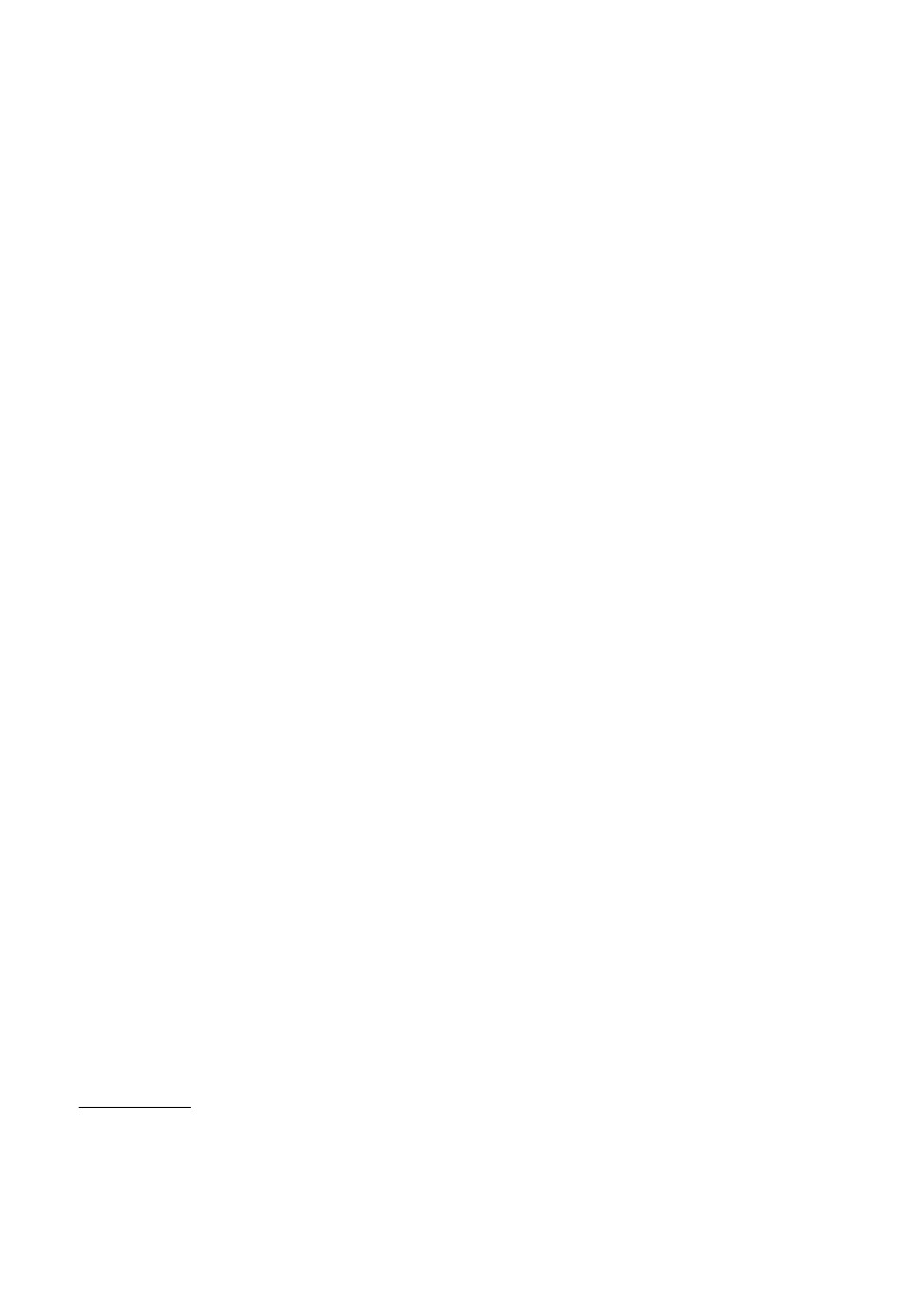Мнение историка
Оттепель 1855-1857 гг.:
от николаевского времени к эпохе Великих реформ
Александр Шевырёв
The Thaw of 1855-1857: From the Epoch of Nicholas I
to the Epoch of Great Reforms
Alexander Shevyrev
(Lomonosov Moscow State University, Russia)
DOI: 10.31857/S0869568722040057, EDN: FZLASL
Смена царствования в самодержавной монархии - всегда значимый, замет-
ный и ощущаемый современниками исторический рубеж. Окончание длитель-
ной войны с сильными противниками, независимо от результата - победы или
поражения - тоже воспринимается обычно как крупная веха. В 1855-1856 гг.
сложилась довольно уникальная ситуация, когда два таких события оказались
в непосредственной близости, почти наложились друг на друга, вызвав свое-
образную интерференцию разграничительных волн. Цензор А.В. Никитенко
написал в дневнике в день кончины Николая I: «В настоящих обстоятель-
ствах смерть его является особенно важным событием, которое может повести
к неожиданным результатам. Для России, очевидно, наступает новая эпоха.
Император умер, да здравствует император! Длинная и, надо таки сознаться,
безотрадная страница в истории русского царства дописана до конца. Новая
страница перевёртывается в ней рукою времени: какие события занесёт в неё
новая царственная рука, какие надежды осуществит она?»1.
Между этим днём и окончанием Крымской войны 18 марта 1856 г. про-
шло чуть больше года. И два этих события в сознании современников, а затем
и историков оказались тесно связанными между собой. Признание пораже-
ния для многих знаменовало тогда «крах николаевщины», и сам император на
смертном одре признавался сыну, что сдаёт ему команду «не в том порядке, как
желал». Исход борьбы к тому времени уже вполне обозначился: проигранные
сражения на реке Альме в сентябре и у Инкермана в октябре 1854 г., неудач-
ный штурм Евпатории в феврале 1855 г., самоубийство Черноморского флота
и бездействие русских кораблей на Балтике, международная изоляция Рос-
сии - всё это почти не оставляло надежд на благоприятный финал.
В самом начале нового царствования было произнесено слово «оттепель»,
которое впоследствии будут употреблять применительно к двум историческим
периодам в середине XIX и XX в. Как это чаще всего бывает с исторически-
ми понятиями, точного определения их содержания и даже хронологических
рамок не существует. «Хрущёвской оттепелью» называют и время от смерти
© 2022 г. А.П. Шевырёв
Статья подготовлена в рамках проекта Института российской истории РАН по написанию
многотомного академического труда «История России». Публикуется в целях апробации.
1
Никитенко А.В. Дневник. В 3 т. Т. 1. Л., 1955. С. 402-403.
46
И.В. Сталина до отставки Н.С. Хрущёва, и более узкий промежуток 1953-
1955 гг. (тогда её именуют «маленковской»). С хронологическими рамками
«оттепели» XIX в. ясности не больше. При толковании исторических терминов
плодотворнее всего учитывать те смыслы, которые связывали с ней совре-
менники. И тогда становится более понятным их содержание, а исходя из их
содержания, и нужно искать тот рубеж, за которым это понятие утрачивает
своё значение.
Выражение «оттепель» зафиксировано 8 апреля 1855 г. в письме И.С. Акса-
кова своему отцу С.Т. Аксакову: «Вот вам слово Ф.И. Тютчева о современном
положении: он называет его оттепелью»2. Два дня спустя эту новость, очевид-
но, услышанную от отца, занесла в свой дневник В.С. Аксакова: «Тютчев Ф.И.
прекрасно назвал настоящее время оттепелью. Именно так. Но что последует
за оттепелью? Хорошо, если весна и благодатное лето, но если эта оттепель
временная и потом всё опять закуёт мороз, то ещё тяжелее покажется»3. В вос-
приятии как Аксаковых, так и Тютчева образ «оттепели» выражал и надежды,
и сомнения. Её характерным признаком являлась неопределённость происхо-
дящего в тот переходный период, когда намерения только что вступившего
на престол монарха ещё не были вполне понятны обществу. Даже год спустя,
18 февраля 1856 г., в годовщину смерти Николая I чиновник Морского мини-
стерства кн. Д.А. Оболенский сетовал: «Сколько обманутых надежд и сколько
несдержанных обещаний. Определить характер первого года нового царство-
вания весьма трудно. Преобразования коснулись только мундиров, и из этого
никак нельзя заключить, чтобы это было бы только началом или введением
к каким-нибудь более важным изменениям»4.
Очевидная для современников неизбежность поражения России как раз
и порождала те надежды на перемены, которые кн. Оболенский признавал
обманутыми. Крымская война в историографии рассматривалась как одна из
важнейших причин крестьянской и других Великих реформ. В этом проявляли
единодушие и дореволюционные, и советские, и зарубежные историки. О том,
что она обнаружила «все язвы нашего общественного строя» и доказала «пол-
ную несостоятельность той государственной системы, под владычеством кото-
рой так долго изнывало и задыхалось наше отечество», писал А.А. Корнилов5.
Косвенно признавал её главным фактором освобождения крестьян П.Б. Стру-
ве, отмечавший живучесть и эффективность крепостного хозяйства, но ука-
зывавший на экономическую необходимость его ликвидации вследствие того,
что «на Россию надвинулась западно-европейская техника во всех её формах:
в форме техники промышленной и, в особенности, в форме техники транс-
портной и милитарной»6.
Советские историки следовали за ленинским определением причин кре-
стьянской реформы, среди которых были и «сила экономического развития,
втягивавшего Россию на путь капитализма», и Крымская война, которая «пока-
зала гнилость и бессилие крепостной России», и возраставшие с каждым деся-
2
Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Ч. 1. Т. 3. М., 1892. С. 115.
3
Дневник Веры Сергеевны Аксаковой. СПб., 1913. С. 102.
4
Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского / Отв. ред. В.Г. Чернуха. СПб., 2005.
С. 115.
5
Корнилов А.А. Крестьянская реформа. СПб., 1905. С. 22.
6
Струве П.Б. Крепостное хозяйство. Исследования по экономической истории России
в XVIII и XIX вв. М., 1913. С. 155.
47
тилетием «крестьянские “бунты”»7. Значимость этих трёх факторов варьирова-
лась в работах отечественных исследователей середины XX в. от ортодоксальной
характеристики «реформы 1861 года как побочного продукта революционной
борьбы»8 до допущения более активной роли государства в выборе реформатор-
ского курса под воздействием именно Крымской войны, которая «вскрыла всё
несовершенство крепостнической системы как в экономическом, так и в поли-
тическом отношении и оказала огромное влияние на отмену крепостного права»9.
В зарубежной историографии вариации относительно значения политических,
социальных и экономических факторов были ещё шире, и некоторые учёные
выводили преобразования 1860-х гг. непосредственно из Крымской войны, как
это делал, например, А. Рибер в своём обширном предисловии к публикации
писем Александра II к кн. А.И. Барятинскому10. Т. Эммонс утверждал, что «оза-
боченность экономическим развитием и желание укрепить социальную и поли-
тическую стабильность» обусловили мотивацию освобождения крестьян, но «оба
фактора были прямо связаны с поражением России в Крымской войне»11.
Крымская война стала «событием, которое потрясло мировоззрение це-
лого поколения»12, нанеся сокрушительный удар по престижу николаевского
режима. Величие империи оказалось поколеблено в глазах современников не
только неудачами на театрах военных действий, но в ещё большей степени - их
причинами. «Зачем встретили войну без винтовых кораблей и штуцеров?» -
вопрошал курляндский губернатор П.А. Валуев в конце августа 1855 г.13 Дей-
ствительно, в русском флоте не было ни одного корабля, имевшего паровую
машину с винтом. А парусные эскадры, лишённые свободы манёвра, не могли
рассчитывать на успех в бою против английских и французских паровых су-
дов. Немногочисленные колёсные пароходо-фрегаты также заведомо уступали
винтовым кораблям ввиду высокой уязвимости больших колёс и малого числа
артиллерии на борту. Бессилие Балтийского флота, который не решался выйти
в открытое море, укрываясь за спасительной линией кронштадтских фортов,
жители Петербурга наблюдали своими глазами. Страна знала и о вынужденном
затоплении Черноморского флота, ещё в 1849 г. эффектно представлявшегося
императору на смотре как грозная сила, а спустя четыре года подтвердившего
свою победную мощь в Синопском бою.
7
Ленин В.И. «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция // Ленин В.И.
ПСС. Т. 20. М., 1973. С. 173.
8
Нечкина М.В. Реформа 1861 года как побочный продукт революционной борьбы (К мето-
дологии изучения реформы) // Революционная ситуация в России в 1859-1861 гг. М., 1962.
9
Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1968. С. 63. О различиях
в оценке предпосылок крестьянской реформы см.: Ведерников В.В. Великая реформа или рево-
люционная ситуация? (к оценке движущих сил преобразований в отечественной историографии
1871-1986 гг.) // Александр II. Трагедия реформатора: люди в судьбах реформ, реформы в судьбах
людей. Сборник статей. СПб., 2012. С. 32-47; Дмитриев А. После освобождения: «Великие рефор-
мы» и хрущёвская оттепель в перспективе российской исторической мысли // Новое литературное
обозрение. 2016. № 6. С. 129-166.
10
Rieber A.J. The Politics of Autocracy. Letters of Alexander II to Prince A.I. Bariatinskii. 1857-
1864 / Ed. by A.J. Rieber // Études sur l’histoire, l’économie et la sociologie des pays slaves. T. XII. Paris,
1966. P. 17-18, 23-30.
11
Emmons T. The Russian Landed Gentry and the Peasant Emancipation of 1861. Stanford, 1968.
P. 48.
12
Шевченко М.М. Конец одного Величия: Власть, образование и печатное слово в Импера-
торской России на пороге Освободительных реформ. М., 2003. С. 185.
13
Дума русского во второй половине 1855 года // Русская старина. 1893. № 9. С. 506.
48
В сухопутных сражениях сказывался недостаток у русских войск нарез-
ных ружей, обладавших бóльшей дальностью и точностью стрельбы. Отдельные
части и стрелки имели на вооружении штуцера, но они трудно и медленно
заряжались, тогда как многие солдаты противника уже вели огонь из винто-
вок, конструкция которых позволяла производить перезаряжание со скоростью
гладкоствольных ружей. Благодаря этому англичане и французы получали оче-
видное преимущество на поле боя.
Ещё более наглядной для русского общества была отсталость России в сфере
логистики. «Кто бы мог прежде поверить, - вопрошал осенью 1854 г. М.П. По-
годин в одном из своих писем, - чтоб легче было подвозить запасы в Крым
из Лондона, чем нам из-под боку?»14. Транспортная система страны оставалась
архаичной. Россия была седьмой страной в мире (после Англии, США, Фран-
ции, Бельгии, Саксонии и Баварии), приступившей к железнодорожному стро-
ительству и построившей самую протяжённую к тому времени линию. Однако
все железнодорожные коммуникации империи в начале 1850-х гг. сводились
к этой магистрали, связавшей Петербург с Москвой, пригородной Царскосель-
ской дороге и небольшому участку рельсового пути от Варшавы до австрийской
границы. Между тем противники России располагали уже железнодорожными
сетями, соединявшими промышленные центры с важнейшими портами, отку-
да многочисленные торговые суда перебрасывали войска и припасы в Крым.
Более разветвлённой была сеть шоссейных дорог. Но шоссе, которое шло из
Москвы на юг, заканчивалось в Орле. Из-за слаборазвитой телеграфной связи
коммуникацию Петербурга с командованием в Крыму обеспечивали фельдъ-
егери по дорогам, часть из которых сезонно становились непроезжими. Изве-
стие о смерти Николая I в Севастополе получили от неприятеля, узнавшего
о случившемся по телеграфу благодаря подводному кабелю, проложенному
к Балаклаве по дну Чёрного моря.
В современной историографии значение Крымской войны как фактора
дискредитации николаевского режима ставится под сомнение. Л.В. Выскочков
полагает, что «Крымская война, несмотря на поражение, не была “позорной
войной”, николаевская армия, вопреки распространённому мнению, не была
“бессильной”». В доказательство этого производится сопоставление цифр люд-
ских потерь и финансовых затрат России и противостоявшей ей коалиции и на
их основании делается вывод о том, что «победа досталась союзникам непо-
мерно дорогой ценой», а «масштабные цели, которые ставили Англия и Фран-
ция, не были достигнуты»15. Сравнивая потенциалы сторон к концу 1855 г.,
М.М. Шевченко считает, что «положение России в тот момент выглядело хотя
и тяжёлым, но отнюдь не безнадёжным». И лишь поскольку «для русского
правительства с начала восточного кризиса развитие политических и военных
событий преподнесло уже слишком много неожиданностей, чтобы идти ещё на
один беспрецедентный риск», «Александр II согласился признать Крымскую
войну проигранной»16.
14
Погодин М.П. Историко-политические письма в продолжение Крымской войны. М., 1874.
С. 282.
15
Выскочков Л.В. Николай I и его эпоха. Очерки истории России второй четверти XIX века.
М., 2018. С. 911.
16
Шевченко М.М. «Пока Европа в соединении, мы с ней бороться не в силах». Русская стра-
тегия в Крымской войне и общественное мнение // Родина. 2009. № 8. С. 90.
49
Действительно, Крымская война «по своей неблагоприятности была уни-
кальной, единственной в новой и новейшей истории, которую Россия вела без
единого союзника в Европе». Вполне справедливо и то, что «ни одна империя
в мире не могла выиграть и никогда не выигрывала войны с коалицией в со-
стоянии политической изоляции со стороны всех великих держав», а «прочная
дипломатическая изоляция России предопределила неудачный исход войны».
Конечно, будет преувеличением считать, что «Россия проиграла союзникам из-
за нехватки нарезного стрелкового оружия», хотя «в 1870 году вооружённость
всей французской пехоты лучшей тогда в мире винтовкой Шаспо не помешает
Франции быть наголову разгромленной Пруссией»17. Но исход войны вряд ли
определяется когда-либо действием одного фактора. Поражение России стало
следствием сцепления целого ряда причин, действие которых усиливалось тем,
что все они исходили как бы из одного источника. Ведь и дипломатическая
изоляция являлась одним из провалов николаевской политики, что, в част-
ности, отмечал Погодин в апреле 1854 г.: «Вот результаты нашей политики!
Правительства нас предали, народы возненавидели, а порядок, нами поддер-
живаемый, нарушался, нарушается и будет нарушаться»18.
В любом случае, сколь объективны бы ни были наблюдения историков
о соотношении сил противников в Крымской войне, необходимо учесть, что
при оценке ситуации и при принятии решений современники событий ру-
ководствовались только теми фактами, которые были им известны. Поэтому,
если в 1863 г. Александр II и признавал Парижский мир своей трусостью19, то
делал он это ретроспективно. А в 1856 г. «дальнейшие военные действия могли
лишь увеличить размер проигрыша». Так или иначе, «выход из войны был по-
литическим решением Александра II, не ответственного за её начало»20.
Прозрение общества, даже весьма консервативной его части, совпало со
смертью Николая I. Надежды на благие перемены усиливались и тем, что пра-
вительственная политика в сфере образования, цензуры и полицейского кон-
троля под воздействием европейских революций 1848 г. достигла максималь-
ной жёсткости, и последние годы его правления вошли в историю под именем
«мрачного семилетия». Это было время подавленного настроения и нравствен-
ных терзаний в общественных кругах. «Конечно, только изверг мог бы радо-
ваться бедствиям России, - вспоминал Е.М. Феоктистов, вращавшийся тогда
среди московских профессоров и журналистов, - но Россия неразрывно была
связана с императором Николаем, а одна мысль о том, что Николай выйдет из
войны победителем, приводила в трепет. Торжество его было бы торжеством
системы, которая глубоко оскорбляла все лучшие чувства и помыслы образо-
ванных людей и с каждым днём становилась невыносимее; ненависть к Нико-
лаю не имела границ»21. По свидетельству К.Н. Бестужева-Рюмина, М.Н. Кат-
ков в те дни с восторгом выбирал из иностранных газет «места, где говорилось
о наших поражениях», а преподаватель словесности А.Д. Галахов «пропускал
уроки, хотя только и существовал ими, если этой ценою можно было купить
17
Шевченко М.М. Конец одного Величия… С. 189.
18
Погодин М.П. Указ. соч. С. 91.
19
Шевченко М.М. «Пока Европа в соединении, мы с ней бороться не в силах»… С. 91.
20
Выскочков Л.В. Николай I и его эпоха… С. 930.
21
Феоктистов Е.М. За кулисами политики и литературы
(1848-1896). Воспоминания.
М., 1991. С. 105.
50
возможность услыхать весточку о том, где и как нас поколотили. В тогдашних
поражениях видели единственно удар ненавистному правительству»22.
С другой стороны, «мрачное семилетие» - это период апогея громко декла-
рируемой уверенности российской власти в своём превосходстве над гибнущим
Западом. Как верно подметил И.А. Христофоров, «подняв ставки до небес, Ни-
колай I отрезал себе пути к отступлению. Любая серьёзная неудача автоматиче-
ски приобретала вселенский характер и означала приговор всей его системе»23.
В силу этих обстоятельств смерть Николая I вызвала в обществе не толь-
ко естественную скорбь, но и вздох облегчения. «Все невольно чувствуют,
что какой-то камень, какой-то пресс снят с каждого, как-то легче стало ды-
шать…, - признавалась два дня спустя в дневнике Аксакова. - Ни злобы, ни
неприязни против виновника этого положения. Его жалеют как человека, но
даже говорят, что несмотря на всё сожаление о нём, никто, если спросить себя
откровенно, не пожелал бы, чтобы он воскрес»24.
Приняв страну в состоянии уже полупроигранной войны, Александр II
не нёс ответственности за грядущее поражение. В этих условиях он получил
огромный кредит доверия. В Москве К.С. Аксаков уже 21 февраля 1855 г. обна-
ружил к новому монарху «такое искреннее тёплое сочувствие и такое желание
восстановить доверие между ним и нами, что даже почти странно было видеть
людей, большей частью до тех пор смотревших на власть как на враждебную
им силу, привыкших постоянно в продолжение по крайней мере 30 лет не
доверять ей и избегать даже с ней сближения. Эти самые люди вдруг с дет-
ской доверчивостью и любовью и надеждой обращаются к новому государю, не
получивши от него ещё никакого доказательства, которое бы оправдывало их
надежды… Они, которые до сих пор так недоверчиво смотрели на всякое даже
участие в деятельности общественной, на всякое изъявление государственного
сочувствия к державному лицу»25.
Правда, в обществе надеялись, что молодой император проявит бóльшую
энергию, чем его покойный отец. Основание для такой надежды давала прозву-
чавшая в его речах перед дворянством и дипломатическим корпусом «твёрдая
решимость не соглашаться ни за что на какие-либо дальнейшие уступки»26.
Вынесенный же вследствие военных неудач приговор «николаевщине» развя-
зывал ему руки для пересмотра внутриполитического курса. Однако в отличие
от Александра I, сразу же отменившего самые одиозные меры, принятые Пав-
лом I, Александр II не торопился демонстрировать наступление новой эпохи.
«Первый месяц царствования не ознаменовался никакими событиями ни в ад-
министративном, ни в политическом отношениях», - констатировал кн. Обо-
ленский 10 марта. В глаза всем бросались лишь изменения в обмундировании,
и «благомыслящие люди» удивлялись, «как можно в такое время заниматься
таким вздором и как можно теперь придумывать новые издержки»27. Только
в конце 1855 г. были преодолены наиболее тяжёлые последствия «мрачного
22
Шмурло Е. Очерк жизни и научной деятельности К.Н. Бестужева-Рюмина. Юрьев, 1899.
С. 58.
23
Реформы в России. С древнейших времён до конца ХХ в. В 4 т. Т. 3. Вторая половина
XIX - начало ХХ в. М., 2016. С. 27.
24
Дневник Веры Сергеевны Аксаковой. С. 77.
25
Там же. С. 77.
26
Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. С. 63.
27
Там же. С. 64-65.
51
семилетия» - упразднён Бутурлинский комитет и отменены ограничения на
число студентов в университетах.
Не спешил император и с кадровыми перестановками, хотя их ждали с пер-
вых дней его воцарения: в начале марта К.Д. Кавелин сообщал Т.Н. Грановско-
му про разговоры о том, «что Бибикову плохо и что его заменят Игнатьевым;
это было бы истинным успехом. То же говорят о замене Брока (Княжевичем,
а кто называет Чевкина), о смене гр. Клейнмихеля, о неудовольствии с Ки-
селёвым… Бродят слухи о замене Орлова Барятинским, который на Кавказе,
а Чернышёва - Орловым»28. Но лишь в августе последовало увольнение мини-
стра внутренних дел Д.Г. Бибикова, в октябре - главноуправляющего путями
сообщения и публичными зданиями гр. П.А. Клейнмихеля. При этом Бибиков
был известен как решительный сторонник ограничения помещичьей власти,
а сменивший его С.С. Ланской слыл гуманным консерватором. Про отставку
же гр. Клейнмихеля Никитенко саркастически заметил, что она «за недостат-
ком настоящих побед, составляет истинное общественное торжество»29. Прочие
увольнения состоялись уже по окончании войны: в апреле 1856 г. министр
иностранных дел гр. К.В. Нессельроде передал свой пост кн. А.М. Горчако-
ву, а военный министр кн. В.А. Долгоруков - Н.О. Сухозанету. Тогда же
гр. А.Ф. Орлов покинул III отделение Собственной е.и.в. канцелярии, став
председателем Государственного совета и Комитета министров. Летом ушёл
в отставку и начальник штаба Отдельного корпуса жандармов Л.В. Дубельт.
Должность шефа жандармов, остававшуюся несколько месяцев вакантной,
в июне принял кн. Долгоруков.
Однако одно знаковое назначение произошло уже в первые дни нового цар-
ствования, и оно и внушало надежды на грядущие перемены: 23 февраля Алек-
сандр II уволил в отставку начальника Главного морского штаба кн. А.С. Мен-
шикова и повелел своему брату вел. кн. Константину Николаевичу «по званию
генерал-адмирала управлять как флотом, так и Морским министерством».
27-летний великий князь хорошо был известен в обществе. Он фактически
возглавлял морское ведомство с 1853 г. и заслужил репутацию человека, спо-
собного на неординарные действия. В своей записке, обличавшей господству-
ющий формализм в административной системе империи, Валуев с сочувствием
отзывался о Морском министерстве, которое «ныне руководствуется другими
правилами и не обнаруживает, подобно другим ведомствам, беспредельного
равнодушия ко всему, что думает, чувствует или знает Россия». В частности,
публикуя на страницах своего журнала «Морской сборник» имена погибших
защитников Севастополя, оно «первое осознало, что семейства жертв, павших
в борьбе за отечество, имеют право оплакивать эти жертвы и ими гордиться без
произвольных отсрочек»30.
Несмотря на почти полное отсутствие видимых изменений в политике
нового монарха, в обществе с первых дней его царствования нарастало ощу-
щение, что стужа «мрачного семилетия» закончилась. Видимым признаком
новой эпохи стала гласность (это слово и в XX в. станет признаком начала
политических перемен). Потребность в ней объяснялась осознанием того, что
официальная информация, как открытая, так и закрытая, нисколько не отра-
28
К.Д. Кавелин о смерти Николая I. Письма к Т.Н. Грановскому // Литературное наследство.
Т. 67. М., 1959. С. 610.
29
Никитенко А.В. Указ. соч. С. 422.
30
Дума русского… С. 513.
52
жала реальность. «Всё и во всём ложь, - ворчал в дневнике 16 марта 1855 г.
Никитенко, - ложь в сапоге, который жмёт ногу, вместо того, чтобы служить
ей обувью; ложь в шляпе, которая не защищает головы от холода; ложь в кур-
гузом нелепом фраке, который покрывает зад и оставляет открытым перед;
ложь в приветной улыбке; в уме, который обманывает и обманывается; в язы-
ке, который, по выражению Талейрана, для того, чтобы скрывать свои мысли;
ложь в образовании наружном, поверхностном, без глубины, без силы, без
истины, - ложь, ложь и ложь, бесконечная цепь лжей. И всего удивительнее
в этом порядке вещей то, что он есть ложь и в то же время порядок. Толкуйте
тут о необходимости истины, когда без неё так хорошо и с такою пользою для
себя можно обходиться»31. Этот порядок, обеспечивавший, по словам Валуева,
«всеобщую официальную ложь», сложился в своих законченных чертах именно
при Николае I. За четверть века его правления сформировалась своя иерархия
знания о положении дел в стране, основанная на административной системе
и цензурной политике.
Степень компетентности в сфере государственного управления определя-
лась Табелью о рангах с её иерархией чинов, дававших право на занятие соот-
ветствующих им должностей. Этот порядок ещё более укрепился после издания
в 1834 г. Устава о службе гражданской, который давал большие льготы по об-
разованию при движении вверх по лестнице чинов и тем самым «устанавливал
прочную тенденцию к накоплению лиц, интеллектуально развитых, на круп-
ных должностях»32. При этом административная система империи достигла
высшей степени централизации. В её разветвлённой структуре «было воплоще-
но своеобразное представление политической элиты о разделении властей», но
при этом «все нити управления находились в руках самодержавного монарха»,
а «институты, занимавшиеся законодательными, исполнительными и судебны-
ми вопросами», подчинялись непосредственно ему33. В иерархической и высо-
коцентрализованной системе управления чем выше была должность, тем боль-
ше был объём доступных знаний, но при этом, как отмечает А.Н. Бикташева,
исследовавшая губернаторскую власть в первой половине XIX в. на примере
одной губернии, «основными коммуникативными каналами получения знаний
о состоянии власти казанских губернских властей служили сенаторские реви-
зии и сводки жандармских офицеров». Поскольку «в первой четверти XIX в.
верховная власть предпочитала гласные источники информации, во второй
четверти - тайные донесения», «постепенно сужался круг должностных лиц,
имевших доступ к этим сведениям»34.
Ограничение же круга лиц, имевших достаточно знаний для принятия ре-
шений, вело к тому, что, как отмечал Валуев, «масса дел, ныне восходящих до
главных начальств, превосходит их силы», и поэтому «они, по необходимости,
должны предоставлять значительную часть этих дел на произвол своих канце-
лярий». А это в свою очередь означало, что «судьба представлений губернских
начальников и генерал-губернаторов весьма нередко зависит не от гг. мини-
31
Никитенко А.В. Указ. соч. С. 404-405.
32
Шевченко М.М. Конец одного Величия… С. 52.
33
Барыкина И.Е. Государственное управление России второй половины XIX века (особые
формы и специальные институты). СПб., 2018. С. 100.
34
Бикташева А.Н. Казанское губернаторство первой половины XIX века. Бремя власти.
Изд. 2. М., 2014. С. 71-78.
53
стров, но от столоначальников того или другого министерства»35. То же суже-
ние круга лиц, имевших доступ к административной информации, имело след-
ствием широкие возможности передачи этим лицам недостоверных данных.
Способы составления и представления чиновниками сведений о положении
дел на местах хорошо известны по многочисленным воспоминаниям совре-
менников, которые звучат порой почти анекдотично. Недостоверный характер
отправляемых бумаг сознавался как их отправителями, так и получателями.
В то же время цензурная политика постепенно закрывала возможности
для диалога между властью и обществом. «Цензуру, - справедливо полагает
М.М. Шевченко, - высшая бюрократия воспринимала как средство не до-
пустить проникновения любых отголосков общественного мнения в печать»36.
Всякое участие частных лиц в обсуждении уничтожения «зол, веками укоре-
нившихся», «бралось под прямое подозрение в политической нелояльности».
Особенно «не желала высшая власть и посвящать, пусть хоть в малой степе-
ни, в свои сокрытые от публики “виды” кого бы то ни было из среды учёных
и литераторов»37. В сложившейся социальной иерархии лица, не имевшие чи-
новного статуса, не признавались за субъектов, способных владеть знаниями,
необходимыми для рассмотрения административных дел. Единственным ка-
налом, по которому обыватель мог поделиться своими наблюдениями с госу-
дарством, оставался донос, эффективность использования которого возросла
после учреждения жандармского надзора. Что касается информации, которая
сообщалась читателям газет и журналов о положении в стране, то власть дели-
лась с публикой лишь высочайшими указами и распоряжениями о назначении
и перемещении должностных лиц. Безусловно, «бюрократия и интеллигенция
никогда не были отделены друг от друга “китайской стеной”»38, но и прямое
общение между ними в николаевское время становилось невозможным. Субор-
динация не позволяла чиновнику высказывать в бюрократической среде сужде-
ния, распространённые в обществе. Нормы поведения не разрешали ему также
рассуждать о действиях правительства в кругу интеллигенции. Да и встречи
чиновников и неслужащих в общественных собраниях были регламентированы
многочисленными правилами.
Установившаяся преграда была поколеблена неожиданным ходом Крым-
ской войны. Ещё в октябре 1854 г. совершенно уверенный до того в поли-
тических ценностях николаевского режима Погодин внезапно признал, что
«государь, очарованный блестящими отчётами, не имеет верного понятия о на-
стоящем положении России. Став на высоту недосягаемую, он не имеет средств
ничего слышать: никакая правда до него достигнуть не смеет, да и не может;
все пути выражения мысли закрыты; нет ни гласности, ни общественного мне-
ния, ни апелляции, ни протеста, ни контроля»39. Первейшим лекарством «для
исцеления всех болезней», а также «для борьбы с внешними врагами, войною
и неутралитетом, для борьбы с внутренними врагами, которые для нас гораз-
до опаснее и вреднее», Погодин называл гласность. Он рассчитывал, что ею
«будут вразумляться начальники», «будет приобретать со всех сторон лучшие
и вернейшие сведения правительство», «будут делаться известными способней-
35
Дума русского… С. 509-511.
36
Шевченко М.М. Конец одного Величия… С. 53.
37
Там же. С. 46, 48.
38
Там же. С. 181.
39
Погодин М.П. Указ. соч. С. 259-260.
54
шие люди, казниться злоупотребление», «возродится и утвердится обществен-
ное мнение»40.
Первым проявлением гласности при Александре II стала циркуляция в об-
ществе рукописных сочинений, как анонимных, так и авторских, в которых по-
литические суждения высказывались если и не с полной откровенностью, то,
по крайней мере, с большой смелостью. При отсутствии заметных изменений
в цензурной политике в период оттепели гласность обеспечивалась неопреде-
лённостью недозволенного. Ещё до ослабления давления со стороны цензоров
становилась слабее самоцензура. Авторы рукописных сочинений рассчитывали
на безнаказанность выражения критических суждений, а в лучшем случае и на
карьерный успех. Рискнул и не прогадал курляндский губернатор Валуев: в ано-
нимной записке «Дума русского во второй половине 1855 года» он раскритико-
вал сложившуюся административную систему и через два с половиной года стал
директором департамента в Министерстве государственных имуществ, а спустя
шесть лет занял пост министра внутренних дел. В 1855 г. в обществе уже ходи-
ла по рукам записка К.Д. Кавелина об освобождении крестьян. С первых дней
нового царствования почувствовал свою востребованность основавший ещё
в 1853 г. Вольную русскую типографию в Лондоне А.И. Герцен. «На другой
или третий день после смерти Николая мне пришло в голову, - объяснял он
своё решение начать выпуск альманаха, - что периодическое обозрение, мо-
жет, будет иметь больше средств притяжения, нежели одна “типографская воз-
можность”»41. В августе 1855 г. вышла в свет первая книга «Полярной звезды».
В феврале 1855 г. только что назначенный главой морского ведомства вел.
кн. Константин Николаевич привлёк к себе внимание непривычными для
николаевской бюрократической системы действиями. Смысл их заключался
в признании того, что донесения, передаваемые по официальным каналам,
не соответствуют реальному положению дел, поскольку они держатся в тай-
не, а потому не поддаются верификации. В поисках достоверной информа-
ции генерал-адмирал обращался к чиновникам других ведомств, к широкому
кругу знакомых с нуждами флота людей и к обществу в целом. Ещё в 1850 г.,
когда Николай I назначил его председателем Комитета по пересмотру морско-
го устава, великий князь продемонстрировал нестандартный подход к рабо-
те, предложив флотским офицерам присылать свои соображения и замечания,
касающиеся проекта устава, и распорядившись публиковать их в «Морском
сборнике». В марте 1855 г., всего через месяц после вступления в должность,
генерал-адмирал обратился в Министерство народного просвещения с прось-
бой осмотреть морские учебные заведения и оценить их состояние. Участво-
вавший в данной работе Никитенко с восхищением отметил в дневнике, что
«великий князь не очень доверяет программам и наружному процветанию наук
в военно-учебных заведениях», и при этом «у него во всём преобладает стрем-
ление к правде и ясности»42.
В конце 1855 г. вел. кн. Константин Николаевич издал по морскому ве-
домству приказ, в котором процитировал несколько ярких фраз из «Думы рус-
ского»: «В одной весьма замечательной записке о нынешних тяжёлых обсто-
ятельствах России, при указании причин, которые довели нас до нынешнего
40
Там же. С. 267-268.
41
«Полярная звезда», журнал А.И. Герцена и Н.П. Огарёва. В 8 кн. Кн. 2. М., 1966. С. 253.
42
Никитенко А.В. Указ. соч. С. 409.
55
бедственного положения, между прочим сказано: “Многочисленность форм
подавляет у нас сущность административной деятельности и обеспечивает все-
общую официальную ложь. Взгляните на годовые отчёты, - везде сделано всё
возможное, везде приобретены успехи, везде водворяется, если не вдруг, то по
крайней мере постепенно, должный порядок… Сверху - блеск, внизу - гниль.
В творениях нашего официального многословия нет места для истины. Она
затаена между строками, но кто из официальных читателей может читать меж-
ду строками?”». Со своей стороны, генерал-адмирал заявлял, что требует от
подчинённых в отчётах за истекший год «не похвалы, а истины, и в особен-
ности откровенного и глубоко обдуманного изложения недостатков каждой
части управления и сделанных в ней ошибок». И тут же он предупреждал, что
«те отчёты, в которых будет нужно читать между строками, будут возвращены
мною с большою гласностью»43. Таким образом, гласность провозглашалась не
только общественной, но и бюрократической необходимостью.
Приказ быстро разошёлся не только по департаментам министерства, но
и в обществе. Никитенко писал в дневнике, что он «производит большой шум
в городе. Министрам и всем, подающим отчёты, приказ очень не нравится…
Многим вообще не нравится, что начинают подумывать о гласности и об об-
щественном мнении»44. Демарш вел. кн. Константина Николаевича был сме-
лым, но в силу его высокого положения не таким рискованным, как поступок
Валуева, критиковавшего привычные порядки в анонимной записке. Дирек-
тор Комиссариатского департамента Морского министерства кн. Оболенский
2 декабря писал в дневнике: «В городе делает много шуму записка великого
князя Константина Николаевича… об отчётах… Все думают, что она написана
с разрешения государя, но это несправедливо. Все министры принимают её на
свой счёт, ежели бы это написать помягче, то, конечно, эффект был бы не тот
и никто не обратил бы на записку внимания. Со всех сторон просят копии,
и я боюсь, что это кончится какою-нибудь неприятностью». Действительно,
вскоре «государь сделал великому князю сильный выговор за то, главное, что
циркуляр получил гласность, ходит по рукам и читан был громогласно в Клу-
бе»45. Но серьёзных последствий этот упрёк не имел, склонность великого кня-
зя к нестандартным административным ходам нисколько не уменьшилась.
Во второй половине 1850-х гг. вокруг вел. кн. Константина Николаевича
складывается группировка чиновников, получивших прозвище «константинов-
цев». В середине 1850-х гг. они служили в Морском министерстве, но некото-
рые из них были известны великому князю и по Русскому Географическому
обществу, в котором он председательствовал с момента основания в 1845 г.
Морское ведомство стало для константиновцев стартовой площадкой для
успешной карьеры: состоявший долгие годы при великом князе А.В. Головнин
в 1861-1866 гг. руководил Министерством народного просвещения, чиновник
для особых поручений М.Х. Рейтерн стал в 1862 г. министром финансов, ди-
ректор канцелярии министерства гр. Д.А. Толстой в 1865 г. получил должность
обер-прокурора Святейшего Синода, а годом позже сменил Головнина на ми-
нистерском посту, чиновник для особых поручений Б.П. Мансуров возглавил
43
Приказ е[го] в[ысочества] генерал-адмирала, данный на имя г[осподина] управляющего
Морским министерством вице-адмирала Врангеля в декабре 1855 г. // Русская старина. 1891. № 5.
С. 359.
44
Никитенко А.В. Указ. соч. С. 426.
45
Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. С. 105-106.
56
в 1860 г. Палестинский комитет, а затем Палестинскую комиссию, кн. Оболен-
ский в 1862 г. был назначен председателем Комиссии по составлению Устава
о книгопечатании, а впоследствии являлся товарищем министра государствен-
ных имуществ, сменивший его в Комиссариатском департаменте Д.Н. Набоков
в конце царствования Александра II был уже министром юстиции.
Константиновцы принадлежали к числу тех деятелей Великих реформ, ко-
торые вошли в историю под условным названием либеральной, или просве-
щённой, бюрократии. К этой когорте также относят Д.А. Милютина, управ-
лявшего военным ведомством в 1861-1881 гг., его брата Н.А. Милютина
(в 1859-1861 гг. - товарища министра внутренних дел и одного из главных
разработчиков крестьянской реформы), министра юстиции в 1862-1867 гг.
Д.Н. Замятнина, активно участвовавшего в подготовке судебной реформы,
статс-секретаря Департамента государственной экономии Государственного со-
вета А.П. Заблоцкого-Десятовского, сыгравшего важную роль и в деле освобо-
ждения крестьян и, в особенности, в отмене питейных откупов. По сути, этот
круг не имел чётких границ: в него с определёнными оговорками можно вклю-
чить и Валуева, и гр. М.Т. Лорис-Меликова, и А.А. Абазу, и других чиновников.
Выражение «либеральная бюрократия» появилось в трудах П.А. Зайонч-
ковского, его учеников и других историков46 и обозначало инициаторов и про-
водников Великих реформ. При этом никто из этих авторов не пытался чёт-
ко сформулировать это понятие и обозначить круг лиц, ему соответствующих.
Правда, Л.Г. Захарова ещё в конце 1980-х гг. писала о «так называемой ли-
беральной бюрократии» как о сложившемся в 1830-1840-е гг. «слое прогрес-
сивно мыслящих, интеллигентных людей, объединённых сходством взглядов,
программы предстоящих преобразований и методов её исполнения», но при
этом она признавала, что «термин этот… не представляется вполне точным;
само явление ещё нуждается в более развёрнутом определении»47. Зарубежны-
ми авторами те же деятели характеризовались как «просвещённые бюрократы».
Отказ от термина «либеральный» был, очевидно, обусловлен тем, что западные
историки считали его неприменимым к российским чиновникам XIX в. Как
пояснял А. Рибер, «политический язык, использовавшийся как в XIX в., так
и до сих пор, сформирован на основании опыта западноевропейских стран.
Если его применять в контексте русской истории, то это лишь сбивает с толку
и уводит в сторону от истины»48. В.Б. Линкольн, вводя в оборот термин «про-
свещённая бюрократия», видел его условность. «Начиная с конца 1830-х гг., -
писал он, - необычная группа молодых чиновников, которых я именую в сво-
ём исследовании просвещёнными бюрократами, появляется в петербургских
канцеляриях. У этих людей иное отношение к государственной службе и ре-
формам, чем у большинства правительственных чиновников»49.
46
Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х гг. М., 1964; Чернуха В.Г.
Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 80-х гг. XIX в. Л., 1978; Захарова Л.Г.
Самодержавие и отмена крепостного права в России, 1856-1861. М., 1984; Шевырёв А.П. Русский
флот после Крымской войны: либеральная бюрократия и морские реформы. М., 1990.
47
Захарова Л.Г. Самодержавие, бюрократия и реформы 60-х годов XIX в. в России // Вопро-
сы истории. 1989. № 10. С. 7.
48
Рибер А.Дж. Групповые интересы в борьбе вокруг Великих реформ // Великие реформы
в России. 1856-1874. Сборник. М., 1992. С. 50.
49
Lincoln W.B. In the vanguard of reform: Russia’s enlightened bureaucrats, 1825-1861. DeKalb,
1982. P. XIV.
57
Впоследствии Н.И. Цимбаев выдвинул концепцию, согласно которой ли-
беральная бюрократия - специфически российское, но при этом вневременное
явление, возникавшее в истории по меньшей мере четыре раза: при Алексан-
дре I, при Александре II, в годы нэпа и в начале 1990-х гг. И всякий раз ей
были присущи три типологических признака: приход к власти «в такие момен-
ты, когда прежний механизм управления страной давал серьёзные сбои или
попросту разрушался», «сознательная, убеждённая ориентация на опыт “пере-
довых стран”, а иногда и на “передовую теорию”» и «опора на государствен-
ный аппарат, вера в его исключительные возможности, нежелание и неумение
опираться на другие силы общества»50.
Но всё же подавляющее большинство исследователей связывают либе-
ральную или просвещённую бюрократию исключительно с XIX в. При этом
о «просвещённой бюрократии» пишут чаще, встречая её представителей на
протяжении почти целого столетия, тогда как понятие «либеральная бюро-
кратия», как правило, относят только к эпохе Великих реформ. По мнению
А.Н. Долгих, «вполне логичным выглядит использование термина “либераль-
ная бюрократия” для пореформенного периода в отношении лиц круга вели-
кого князя Константина Николаевича, позднее - С.Ю. Витте и др. … лиц,
которые в той или иной степени разделяли постулаты либерализма, главными
из которых… являлись… свобода в разных её видах и собственность». Однако
для дореформенного периода «использование терминов “либерализм”, “либе-
ральный”, “либеральная бюрократия” применительно к Российской империи
выглядит весьма спорным, так как практически все носители этих идей были
помещиками-душевладельцами и не освобождали своих крестьян (за крайне
небольшим исключением)»51. И.В. Ружицкая возражает против противопостав-
ления этих понятий, полагая, что и «непосредственные участники реформ из
окружения Константина Николаевича», и «их предшественники и единомыш-
ленники в правительственном аппарате первой половины XIX в.» вполне «мо-
гут быть названы “просвещёнными” или “либеральными” бюрократами». Но,
как считает исследовательница, «“просвещённая бюрократия” термин более
удачный, чем бюрократия либеральная, поскольку основой мировоззрения всех
представителей этой группы чиновничества была идеология Просвещения, его
постулаты определили особенности их поведения и деятельности»52.
Подобные терминологические дискуссии обычно навсегда остаются от-
крытыми, поскольку, как справедливо заметил Рибер, «невозможно прийти
к какому-либо определённому суждению… на основании абстрактных, “объ-
ективных” критериев, так как это предполагает существование некоего едино-
образного процесса изменения в обществе, что не соответствует исторической
реальности»53. Тем не менее можно констатировать, что к середине 1850-х гг.
сформировалась группа чиновников, которых объединяло не только несколько
внешних признаков, но и общая деятельность. Эти чиновники имели хорошее
образование, полученное в университетах, Александровском лицее или Учили-
ще правоведения, связи с петербургской и московской интеллигенцией, неред-
50
Цимбаев Н.И. Российский феномен «либеральной бюрократии» // Вопросы философии.
1995. № 5. С. 33-35.
51
Долгих А.Н. О «либеральной» и «просвещённой» бюрократии в России первой половины
XIX в. // История: факты и символы. 2017. № 2(11). С. 97.
52
Ружицкая И.В. Просвещённая бюрократия (1800-1860-е гг.). М., 2009. С. 4-5.
53
Рибер А.Дж. Указ. соч. C. 51.
58
ко участвовали в работе Географического общества, а иногда даже пользова-
лись покровительством особ Императорской фамилии - вел. кн. Константина
Николаевича и вел. кн. Елены Павловны. К концу царствования Николая I
они «достигли постов от среднего до высшего уровня с чинами, которые вво-
дили их в высшие 5% русской бюрократии. Их классные чины колебались от
седьмого до четвёртого, в то время как большинство их было моложе 35 лет…
большинство достигло желанного чина статского советника… С таким чином
и при покровительстве могущественных сановников их значительное влияние
распространялось за пределы их ведомств на междепартаментские и межведом-
ственные комитеты. Что ещё более важно, они занимали ключевые позиции
в администрации»54. Именно эти чиновники и стали опорой Александра II при
подготовке и реализации реформ 1860-1870-х гг.
Поворот от оттепели к весне наметился вскоре после заключения Париж-
ского трактата. 19 марта в манифесте об окончании войны декларировалось
намерение совершенствовать «внутреннее благоустройство», утверждать в судах
«правду и милость», развивать «стремление к просвещению и всякой полезной
деятельности»55. 11 дней спустя, обращаясь к московским дворянам, импера-
тор упомянул о желательности отмены крепостного права. Наряду с крити-
кой административных порядков, в бесцензурной литературе всё настойчи-
вее поднимался крестьянский вопрос: записки М.П. Позена, К.Д. Кавелина,
Ю.Ф. Самарина, А.И. Кошелёва, Н.А. Милютина подавались на высочайшее
имя, публиковались за границей, распространялись в списках. Вел. кн. Елена
Павловна в качестве полтавской помещицы инициировала освобождение кре-
стьян в своём имении Карловка. Сфера гласности расширялась за счёт новых
тем, росло и число её каналов. В 1856 г. Герцен начал выпускать в своей Воль-
ной русской типографии «Голоса из России», а в июле 1857 г. приступил к из-
данию «Колокола». «К исходу 1856 г., - писала Л.Г. Захарова, - стала очевидна
необычность складывавшейся в стране общественно-политической ситуации:
тревожное настроение в крестьянских массах, ожидавших немедленного осво-
бождения, изменение всей атмосферы в общественной жизни и в официаль-
ной правительственной среде, в “верхах”»56.
3 января 1857 г. Александр II учредил Секретный комитет по крестьянско-
му делу. Но «несмотря на весь секрет», уже 16 января о его существовании, по
словам кн. Оболенского, «знают весьма многие»57. В июле царь вводит в этот
комитет, состоявший почти исключительно из николаевских министров, вел.
кн. Константина Николаевича. Публикация в ноябре рескрипта виленскому
генерал-губернатору В.И. Назимову об открытии в подведомственных ему губер-
ниях комитетов для подготовки проектов крестьянской реформы свидетельство-
вала о решительном повороте к отмене крепостного права. К тому же обсуждение
главной социальной проблемы России отныне становилось гласным, при всех
ограничениях и предосторожностях, и это качественно меняло отношения власти
и общества. «Корабль спущен на воду», - писал, торжествуя, в декабре Самарин58.
Так в конце 1857 г. завершалась оттепель и наступала эпоха Великих реформ.
54
Lincoln W.B. Op. cit. P. 137.
55
ПСЗ-II. Т. 31. Отд. 1. СПб., 1857. № 30273.
56
Захарова Л.Г. Александр II и отмена крепостного права в России. М., 2011. С. 100.
57
Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. С. 256.
58
Цит. по: Soroka M., Ruud Ch. Becoming a Romanov. Grand Duchess Elena of Russia and Her
World (1807-1873). Farnham, 2015. P. 258.
59