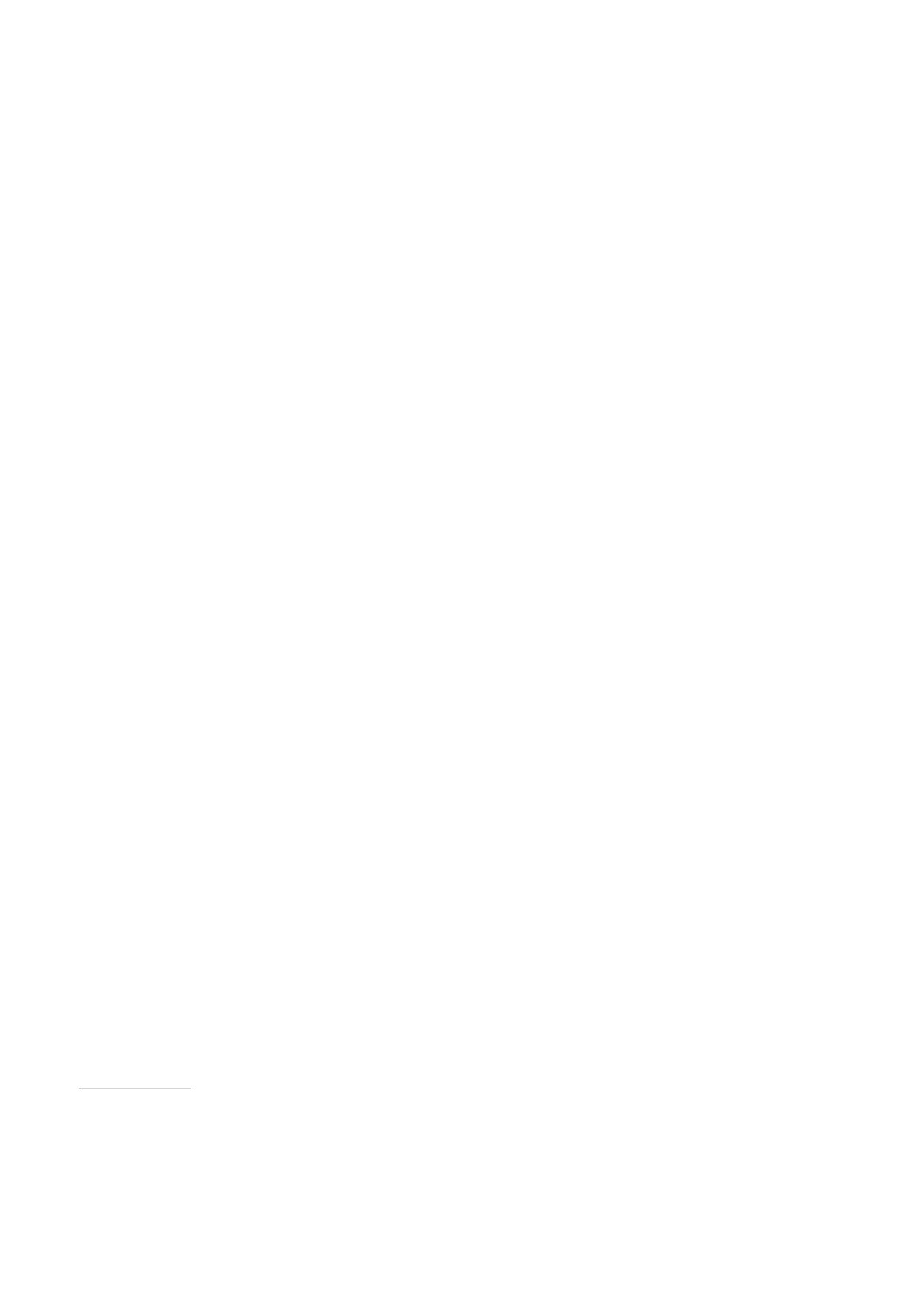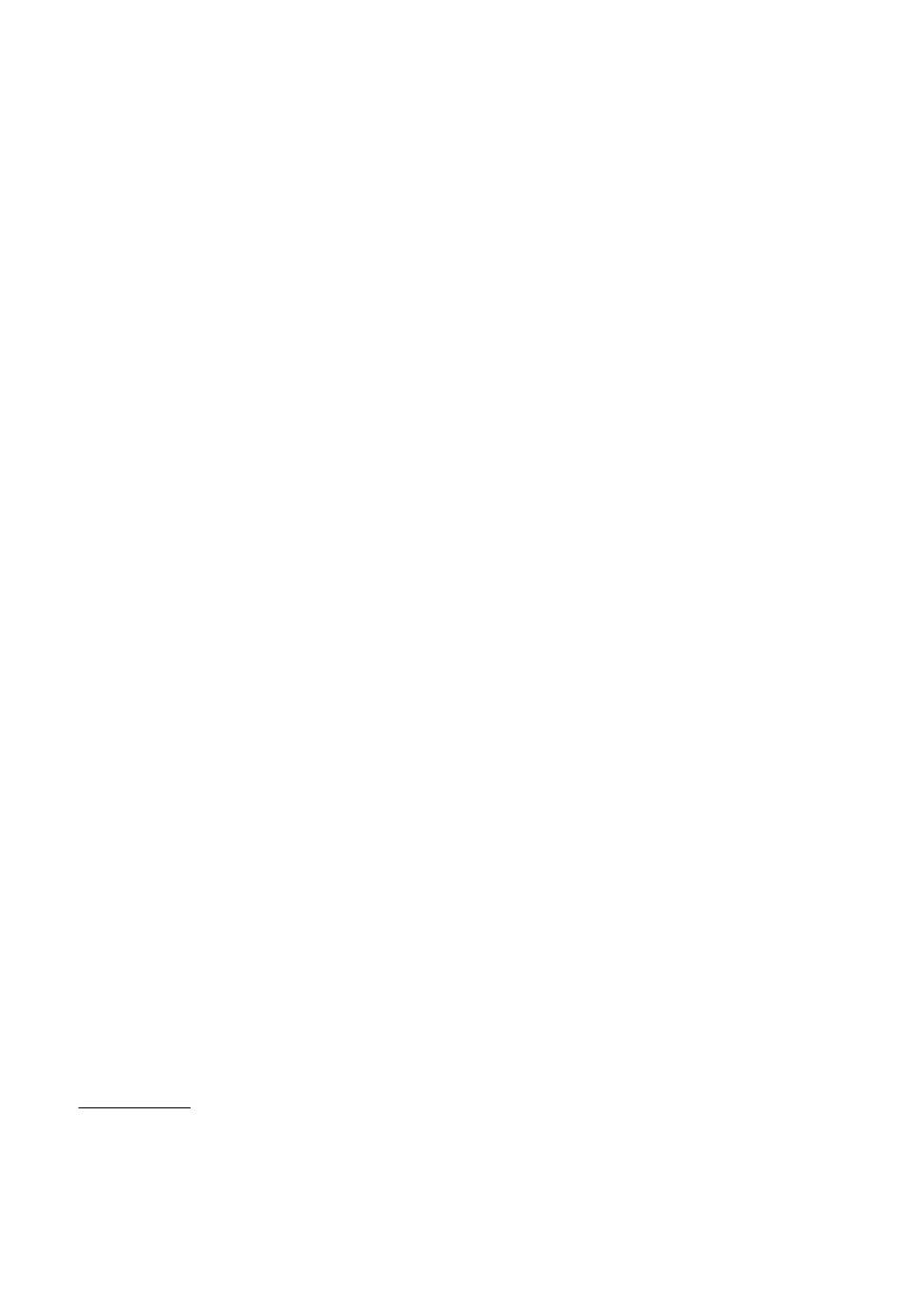Всеволод Воронин
«Оттепель» или династический кризис?
Александр II и великий князь Константин Николаевич в 1855 г.
Vsevolod Voronin (Moscow State Pedagogical University, Russia)
«Thaw» or dynastic crisis? Alexander II
and Grand Duke Konstantin Nikolayevich in 1855
DOI: 10.31857/S0869568722040069, EDN: FZLFXA
В разгар Крымской войны, на рубеже двух царствований, в обществе всё
чаще обращали внимание на взаимоотношения двух старших сыновей Нико-
лая I. Ещё в начале августа 1851 г., во время военных манёвров гвардии под
Петербургом, император, будучи «чрезвычайно доволен» действиями своего
второго сына, заметил прусскому офицеру Мюнстеру, что вел. кн. Константин
«будет хорошим помощником своему брату»1, т.е. наследнику престола. Воспи-
тателю великого князя адмиралу Ф.П. Литке Николай I неоднократно повто-
рял: «Саша без Кости не может управлять государством; сколько ни признаю
достоинства Саши, он не справится без Кости»2. Его способности отец явно
считал незаурядными.
Издатель «Русского архива» П.И. Бартенев даже записал удивительный
рассказ гр. А.В. Адлерберга о том, что «император Николай, отчаявшись в спо-
собности своего старшего сына царствовать, думал объявить [наследником]
своего второго сына, необыкновенно даровитого». Для этого царь якобы под-
держивал «склонность» Александра «к некоей Калиновской3, жившей на Ли-
тейном у сестры своей». В какой-то момент «Александр Николаевич написал
к ней письмо, в котором говорил, что пример дяди Константина Павловича
у него перед глазами и что он отречётся от наследства, ежели она согласится
выйти за него замуж». Цесаревич поручил гр. И.М. Толстому доставить своё
письмо «на Литейную», но тот, «убоявшись важности содержания, понёс пред-
варительно показать государю». Разгневанный монарх, надеявшийся, что сын
прямо объявит «ему о своём намерении», «вытолкнул» графа «вон из кабинета»
со словами: «Дурак, ты мне всё дело испортил»4. Не последовав примеру дяди,
наследник сохранил права на престол.
10 февраля 1855 г. Николай I простудился, но 13-го всё-таки отправил-
ся в Михайловский манеж на военный смотр, после чего окончательно слёг.
© 2022 г. В.Е. Воронин
1
Головнин А.В. Материалы для жизнеописания царевича и великого князя Константина Ни-
колаевича / Под ред. Б.Д. Гальпериной. СПб., 2006. С. 60; Головнин А.В. Записки для немногих /
Под ред. Б.Д. Гальпериной. СПб., 2004. С. 122. По свидетельству Головнина, отцовские слова
вдохновили вел. кн. Константина Николаевича (РГАДА, ф. 30, оп. 1, д. 35, л. 109 об.).
2
ОР РНБ, ф. 1000, оп. 2, д. 115, л. 58 об. Об этих словах отца вел. кн. Константин Нико-
лаевич узнал лишь на склоне лет от академика В.П. Безобразова, работавшего над биографией
Ф.П. Литке (там же, л. 58 об.-59). 10 августа 1888 г. великий князь отметил по данному поводу
в дневнике, «как хорошо и вдохновенно служилось отцу и брату и как приятно за них проливалась
кровь!» (ГА РФ, ф. 722, оп. 1, д. 123, л. 24).
3
Имелась в виду фрейлина вел. кн. Марии Николаевны Ольга (Северина) Осиповна Кали-
новская (в первом браке - Плаутина, во втором - Огинская).
4
Записная книжка П.И. Бартенева 1907-1909 гг. / Публ. Т.А. Лобашковой и С.Д. Воро-
нина // Российский архив (История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв.).
Вып. XV. М., 2007. С. 464.
60
С каждым днём его состояние ухудшалось, становясь безнадёжным. В после-
дующие дни к нему не допускали никого, кроме императрицы и цесаревича,
который тогда же стал принимать доклады министров.
Вел. кн. Константин Николаевич не видел заболевшего отца несколько
дней. Управляя морским ведомством, он ежедневно занимался делами флота,
а 16 февраля отправился с докладом к брату. Тот отклонил «некоторые пред-
ставления», но, как стало известно кн. Д.А. Оболенскому, «в заключение сказал
ему тоном совершенно необыкновенным, что он, наследник, весьма доволен
всеми действиями великого князя по управлению, что ему весьма приятно слы-
шать, что Морское министерство пользуется большим доверием общества, что
это видно из того, что охотнее посылаются пожертвования в Морское мини-
стерство, чем в Военное, что он совершенно одобряет намерение великого кня-
зя действовать с некоторою публичностью… что вообще он, наследник, очень
рад, что в публике все улучшения относят к лицу великого князя». По сви-
детельству Дмитрия Александровича, «слова эти, сказанные положительным
и твёрдым голосом, изумили великого князя, и он был от них в восхищении»5.
В ночь на 17 февраля вел. кн. Константин Николаевич, находившийся
в Кронштадте, узнал «о неудовлетворительном ходе болезни» императора,
а утром получил ещё «более тревожное» известие. Адъютант И.А. Шестаков
видел его «задумчивым и печальным», но державшим себя в руках. Не желая
«производить суматохи», генерал-адмирал нашёл время для осмотра «некото-
рых работ» и только потом, уже днём, вернулся в Петербург, где не покидал
Зимнего дворца до самой кончины Николая I в 12 часов 20 минут пополудни
18 февраля. Тогда великий князь разослал фельдъегерей «во все порты с вестью
о новом царствовании и с приказаниями приводить войско и народ к новой
присяге»6. Вместе с гр. А.Ф. Орловым он являлся исполнителем духовного за-
вещания усопшего императора, оставившего Александру II не только самодер-
жавную власть, но и права «отца семейства», обязывавшие «никогда не терпеть
ни семейных ссор, ни чего-либо могущего быть вредным пользе службы, тем
паче государства, и… помнить наистрожайше, что он государь, а все прочие
члены семейства - подданные»7.
Между тем придворные сплетники, по словам А.В. Головнина, «с само-
го детства» разглядели в вел. кн. Константине Николаевиче «будущего често-
любца»8. Слухи о его врождённом властолюбии и соперничестве со старшим
братом получили широкое распространение. «О Константине, - вспоминал
В.А. Инсарский (близкий в 1850-е гг. к кн. А.И. Барятинскому), - так или
иначе, много говорили; о наследнике или вовсе не говорили, или говорили
очень мало и в том, что говорили, не было ничего блестящего. Вообще в нём
предвидели государя доброго; Константина, напротив, считали человеком,
рождённым для больших государственных дел»9. Головнину передавали и бо-
лее крамольные толки: «Рассказывали, будто в разговоре со старшим братом,
когда наследник говорил об огромности России и трудности управлять таким
5
Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского / Отв. ред. В.Г. Чернуха. СПб., 2005.
С. 58.
6
Шестаков И.А. Полвека обыкновенной жизни. Воспоминания (1838-1881 гг.) / Сост.
В.В. Козырь. СПб., 2006. С. 193.
7
ГА РФ, ф. 722, оп. 1, д. 875, л. 6 об.
8
Головнин А.В. Материалы для жизнеописания… С. 137.
9
Записки Василия Антоновича Инсарского // Русская старина. 1895. № 7. С. 40-41.
61
колоссальным государством, великий князь, будучи ещё ребёнком, предложил
цесаревичу разделить с ним империю и т.п.»10.
Летом 1854 г. в высшем свете почувствовали недоверие Николая I к вел.
кн. Константину Николаевичу, по словам фрейлины А.Ф. Тютчевой, «из-за
некоторых честолюбивых поползновений»11. Вероятнее всего, повод для это-
го дал эпизод, описанный Головниным: «Зимой 1854 г. явились таинственно
в С[анкт]-Петербург посланцы греков с просьбой к государю императору вос-
становить Царство Византийское и даровать им в императоры сына его Кон-
стантина, которому они привезли голубое знамя византийское и чашу с эм-
блематическими изображениями народов новой империи. Просьба сия была
отклонена, и вскоре Промысел показал, что России не предстоит ещё стяжать
новую славу в победах или освобождением православных от власти неверных, но
тяжкими испытаниями и бедствиями очиститься, узнать себя, своих истинных
друзей и врагов, изменить ложное направление и приуготовиться к будущим,
отдалённым подвигам». При этом великий князь, «когда представители еди-
новерных племён звали его на царство, указывали воображению его будущую
могущественную державу, для которой его желали иметь основателем», лишь
«смирялся перед неисповедимым Промыслом и с покорностью ждал от собы-
тий указания своей будущей деятельности, но оставался верным слугой России,
работая неутомимо на её пользу и славу, устроивая морские силы её»12. Одна-
ко подобное ожидание «указания» не могло не вызывать у него свойственные
юности мечты, а возможно, и те самые «честолюбивые поползновения».
Между тем на волне неудач России в Крымской войне и недовольства
действиями правительства, не разделявшего чрезмерного «энтузиазма» и па-
триотического подъёма «народа», в славянофильских кружках росли симпатии
к вел. кн. Константину Николаевичу. Ещё в 1840-е гг. ему создали репутацию
«отчаянного славянофила», «врага иностранцев и особенно немцев», сторон-
ника возвращения «ко временам допетровским» и создания «федеративного
союза всех славянских племён», приписывали желание «уничтожить Турцию»
и сделаться «византийским императором». А поскольку в молодые годы он де-
монстрировал, по словам Головнина, «глубокое уважение святой православной
Церкви, один во всей семье соблюдал посты, ввёл у себя правильное и длин-
ное богослужение, покупал старинные иконы, отделал две комнаты дворца на
древний русский лад, занимался вообще русскими древностями и историей,
предпочитал русский обед, русские вина и русский язык иностранным и т.д.»,
то «любители русской старины, преувеличивая его ревность ко всему народно-
му русскому, стали смотреть на него как на какое-то знамя, как на представи-
теля и вожатого всех русских, разделяющих их убеждения»13. При знакомстве
с ним в январе 1853 г. молодая фрейлина Тютчева «была лишний раз приятно
изумлена» тем, что великий князь заговорил с ней «очень вежливо на хорошем
французском языке», тогда как «в обществе он слывёт свирепым славянином,
говорящим только по-русски и намеренно пренебрегающим всеми формами
европейской цивилизации»14.
10
Головнин А.В. Материалы для жизнеописания… С. 137.
11
Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. Воспоминания. Дневник. М., 2002. С. 96.
12
Головнин А.В. Материалы для жизнеописания… С. 84.
13
Там же. С. 137-138.
14
Тютчева А.Ф. Указ. соч. С. 53-54.
62
В конце 1854 г. славянофилы возмущались тем, что в Петербурге были
готовы к уступкам вражеской коалиции и «приняли 4 постыдные условия».
В.С. Аксакова прямо утверждала в дневнике: «Положение наше совершенно
отчаянное, не внешние враги нам страшны, но внутренние - наше пр[ави-
тельство], действующее против народа, парализующее его силы духовные,
приносящее в жертву своих личных немецких выгод его душевные стремле-
ния, его силы, его кровь». Гр. К.В. Нессельроде и вовсе характеризовался ею
как «австр[ийский] агент». На этом фоне заметно выделялся молодой великий
князь: помимо «попечения» о раненых моряках, он «призывает всех к деятель-
ности, даёт место мысли, знанию, возбуждает общее участие к общему делу, со-
общает всё, что может, во всеуслышание всем, для общего содействия и т.п.».
С особым воодушевлением воспринимались сказанные им М.П. Погодину сло-
ва о том, что «наследник теперь одного мнения с ним, т.е. желает войны»15.
11 февраля 1855 г., за неделю до кончины Николая I, Аксакова отметила:
«Нового в Петербурге ничего нет. Государь совершенно стоит один, ни с кем
из семьи своей не сообщается и действует против желания даже сыновей своих.
Наследник, конечно, не имеет твёрдых убеждений, но Константин Николаевич
совершенно предан русскому направлению»16. После внезапной смерти царя
Аксаковы «были подавлены огромностью значения этого неожиданного собы-
тия». Оно вселяло и тревогу, и надежду: «Не пойдёт ли всё прежним или даже
худшим порядком, или вдруг переменится всё направление, вся политика?»
Впрочем, уже на следующий день о покойном говорили «не только без раздра-
жения, но даже с участием», признавая, что «он действовал добросовестно по
своим убеждениям», которые «за грехи России… были ей тяжким бременем».
Однако «его система пала вместе с ним»17.
Теперь Веру Сергеевну страшило другое: «Беда, если Александр не соеди-
нится заодно в направлении и всех намерениях с Константином. Константин
имеет сильную народность; он известен везде, как русский человек, как хри-
стианин, даже раскольники надеются на него. Между ними ходит слух, что он
сказал: “Я бы не стал вас притеснять, пусть всякой молится, как хочет!”». Не
случайно, когда «на площади в Кремле… сказал кто-то громко, что Констан-
тину должно присягать, потому что он посты держит», Аксакова решила: «Это,
вероятно, раскольник». При этом особо отмечалось, что «раскольники ожесто-
чены до крайности притеснительными мерами» со стороны МВД. У простого
народа имелись также собственные представления о законном порядке престо-
лонаследия. Так, «в народе» «и в деревнях и в Москве» бытовало «мнение, что
только тот законный царь, кто родился от царя, а Александр, говорят они, ро-
дился от в[еликого] князя»18. Впрочем, когда в московской церкви Богоявления
во время присяги Александру II «какой-то чиновник пришёл да и закричал,
что вы присягаете Александру, надобно присягать Константину, да раз десять
15
Аксакова В.С. Дневники. Письма. / Сост. Т.Ф. Пирожкова. СПб., 2013. С. 93-99.
16
Там же. С. 129-130.
17
Там же. С. 139, 145.
18
Там же. С. 141, 146-148, 151. Позднее молва вложила в уста великого князя слова, кото-
рыми он якобы доказывал брату свои права на престол: «Ты… родился ещё тогда, когда отец был
только лишь великим князем. Я же родился в пурпуре, и только я один имею право наследовать
отцу» (Российские государи. Александр II (1818-1881). Его личность, интимная жизнь и правле-
ние. М., 1993 (первое издание: Лондон, 1902). С. 8).
63
закричал», то его вытащили «за ноги» и отправили «на съезжую»19. Об этом же
можно было услышать «от многих крестьян и женщин даже». Причём столь
«странное заключение» воспринималось как «чисто народное» и основанное
на представлениях, возникших, как уверяли «люди учёные», ещё «во времена
уделов». Припоминали, что нечто подобное наблюдалось и при Александре I,
когда среди «простых людей» сложилось убеждение, что права на престол при-
надлежат вел. кн. Михаилу Павловичу.
В славянофильских кружках, разумеется, мечтали не о воцарении вел.
кн. Константина Николаевича, а об усилении его влияния на брата. Их радо-
вали известия о том, что «прежде Александр не разделял вовсе направления
и мыслей Константина, и между их приверженцами начинал образовываться
довольно сильный дух партии, но с недавних пор, из расчёту или искренно,
Александр принял мысли своего брата и вполне разделял его мнения насчёт
настоящих обстоятельств». В целом, Аксаковой казалось, что «если Александр
хочет приобрести народность и избежать разногласия с Константином, он дол-
жен действовать заодно. Иначе чего доброго сравнение может быть невыгодно
и даже опасно!». Но её всё же смущало, что «ещё лет 15 тому назад» её брат,
Константин Сергеевич, делал предсказания «соперничества между двумя брать-
ями». «Не дай Бог!», - восклицала она в дневнике. По её мнению, «никогда не
могло быть это так важно, как теперь. В[еликий] к[нязь] Константин Никола-
евич имеет опасную народность, и сохрани Бог, если новый государь не будет
действовать заодно с ним». «Теперь же эти слухи так неприятны, даже огорчи-
тельны, они могут возбудить недоверие государя к подданным, поставить его
во враждебные отношения к народу, к так называемым славянофилам (кото-
рых уже теперь считают некоторые виновниками этих толков), всего хуже, мо-
гут поселить с самого начала неприязнь и недоверие между государем и братом
его, что будет пагубно для России во всех отношениях». Наблюдавшееся «бро-
жение умов» заставляло даже подозревать, что, «может быть, и какие-нибудь
агенты иностранных держав, поляки стараются произвести всякое смущение
и движение в народе»20.
Однако «оттепель» очень скоро принесла свои первые плоды. Несмотря
на дурные предзнаменования, включая падение «во время присяги» колокола
с колокольни Ивана Великого, Александр II легко сумел покорить сердца мо-
сковских славянофилов, хотя считалось, что он «долгое время разделял совер-
шенно противоположное направление и именно покровительствовал исключи-
тельно немцам и стоял особенно за аристократизм». Стоило ему вступить на
престол, всё это тут же забылось и потеряло смысл, поскольку, как объясняла
Аксакова, «в русском человеке вовсе нет безусловной оппозиции власти, нет
ненависти к власти потому только, что она власть». Оставалось лишь дога-
дываться, «какую любовь и доверие могла бы внушить разумная и любовная
власть, когда только от одной надежды на возможность чего-нибудь подобного
так искренно возбудилось сочувствие всех»21.
Со своей стороны, вел. кн. Константин Николаевич старался положить
конец сплетням и пересудам о его разногласиях со старшим братом. 19 февраля
1855 г. он «громким и энергичным голосом» присягнул на верность Алексан-
19
Аксакова В.С. Указ. соч. С. 142-143.
20
Там же. С. 141-142, 147.
21
Там же. С. 145-148.
64
дру II в церкви Зимнего дворца, и затем, спросив одного из присутствовавших,
«хорошо ли его было слышно», добавил: «Я хочу, чтобы знали, что я первый
и самый верный из подданных императора». Как полагает Тютчева, великий
князь, «очевидно, намекал этими словами на те разговоры, которые шли по
поводу его нежелания будто бы подчиняться брату, что, как говорят, возбужда-
ло неудовольствие покойного императора и беспокоило его»22. Впрочем, в его
поведении гораздо сильнее проявлялись переживания, вызванные кончиной
отца. По наблюдениям кн. Оболенского, на церемонии присяги «он был весьма
опечален и взволнован»23.
Уже весной в Москве убедились, что между сыновьями Николая I устано-
вилось полное доверие и взаимопонимание. 6 марта Аксаковой казалось, что
«все толки и смущения первой минуты при восшествии нового государя улег-
лись». Славянофилы не сомневались, что «если новый государь будет заодно
действовать с великим князем Константином Николаевичем, можно ожидать
много доброго». Аксаковы не переставали тогда «восхищаться распоряжения-
ми» генерал-адмирала, зачитывались «Морским сборником», в котором «с на-
слаждением» читали не только статьи, но «даже все хозяйственные распоряже-
ния», настолько сильным было производимое впечатление: «Во всём слышится
правда, свобода мысли, откровенность, полная доверия; дышится отраднее,
точно читаешь об чужом государстве». Удивляло и то, «как такое направление
быстро принесло успех, вызвало жизнь, благородное рвение на пользу общую,
привлекало к деятельности прекрасных честных людей, как благотворно оно
воспитывает всех своим влиянием»24. Особый интерес у Аксаковой вызвали
отчёт о действиях Комиссариатского департамента, подготовленный его дирек-
тором, кн. Оболенским, и составленный Шестаковым «Обзор действий на море
в течение настоящей войны»25. «Тут, - писала Вера Сергеевна, - высказаны
смело и откровенно все невыгоды угнетательной системы в применении её
в отношениях начальников морских к их подчинённым, и всё значение и поль-
за нравственных причин, двигающих людьми в исполнение их обязанностей…
Это такого рода направление, которое есть ключ ко всем прекрасным преобра-
зованиям. Взывается ко всем за советом, выслушивается со вниманием всякое
замечание, жалоба, отдаётся всё на общий суд. Тут со временем, конечно, мо-
гут сказаться все народные потребности, и дух народный сам собою выскажет-
ся и выработает своё»26.
Правда, опасность возвращения к старому сохранялась. Аксакова 10 апреля
не исключала, что «оттепель» окажется «временной», а затем «опять всё закуёт
мороз» и «ещё тяжелее покажется». Доходили и вести о «недовольстве новым
царствованием» лиц, причислявшихся «к партии великого князя Константина
Николаевича»27. Возможно, речь шла о суждениях близкого к славянофилам
кн. Оболенского, который саркастически отзывался о затеянной новым мо-
нархом «перемене формы обмундирования армии и флота», называя её «вздо-
ром», вызывающим только «новые издержки», тогда как «до дел внутреннего
управления юный государь, говорят, ещё не касался». Между тем вел. кн. Кон-
22
Тютчева А.Ф. Указ. соч. С. 132.
23
Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. С. 60.
24
Аксакова В.С. Указ. соч. С. 155.
25
Морской сборник. 1855. № 2. Февраль. Учёно-литературный отдел.
26
Аксакова В.С. Указ. соч. С. 156-157.
27
Там же. С. 182-185.
65
стантин Николаевич с энтузиазмом воспринял замену «формы», и директор
Комиссариатского департамента с досадой констатировал, что его начальник
«тоже немало тешится новыми мундирами». В этой своей привязанности все
Николаевичи, безусловно, составляли одну «партию», с детства питавшую, по
выражению кн. Оболенского, «странную любовь или почти мономанию к шта-
нам и мундирам», привитую им отцом28.
21 мая 1855 г., в день именин своего брата, Александр II подписал мани-
фест, объявлявший, что в случае кончины царя до совершеннолетия наследни-
ка престола «правителем государства» будет вел. кн. Константин Николаевич29.
Такая демонстрация доверия снимала все подозрения и являлась яркой при-
метой наступавшей «оттепели». Правда, кн. Оболенский, приветствовавший
желание императора видеть брата своим ближайшим помощником «в общих
делах», опасался и даже был «уверен, что местами народ не поймёт, в чём дело,
и выйдет недоразумение, тем более что многие в простом народе уверены, что
царствовать должен Константин, потому что он порфирородный»30.
Так или иначе, легенда о притязаниях вел. кн. Константина Николаевича
на престол продолжала жить и через много лет. «Константин всю жизнь думал
о предстоявшей ему и не постигшей его судьбе, - утверждал Бартенев. - Когда
я спросил его, отчего [В.А.] Жуковский в письме к его матери, напечатан-
ном в “Русском архиве”, с особенною нежностию поздравляет её с рождением
второго сына, в[еликий] к[нязь] воскликнул: “Да разве Вы не понимаете, что
я порфирородный и что моим рождением утверждалась династия”». По словам
московского издателя, Николай I перед смертью взял с вел. кн. Константина
Николаевича «слово, что он будет всячески помогать брату в делах правления»,
и вследствие этого «первые годы нового царствования было у нас что-то вроде
двоевластия». С этим Бартенев связывал и то, что «Катков в одной передовой
статье говорил о толстогубом Отелло и коварном Яго»31.
Но многие общественные деятели самых разных взглядов во второй по-
ловине 1850-х гг. приветствовали действия вел. кн. Константина Николаевича
и положительно оценивали его влияние на брата и на государственные дела.
1 сентября 1855 г., через несколько дней после оставления Севастополя, вели-
кие князья Константин и Николай Николаевичи отправились на юг. «Дай Бог
ему здоровья, трудится много и полезно», - писал 8 сентября, узнав о прибытии
великого князя в Николаев, начальник штаба Отдельного корпуса жандармов
и управляющий III отделением Собственной е.и.в. канцелярии Л.В. Дубельт32.
В городе генерал-адмирал планировал остаться «до ноября»33, и за это время
им было немало сделано для предотвращения неприятельского нападения на
город и порт. В середине сентября туда же прибыл Александр II. Каждое утро
царь приходил к брату, делился новостями, советовался и именно ему, по сло-
вам Головнина, «прежде других доверенных лиц сообщал свои намерения»34.
П.А. Валуев, обличавший
«всеобщую официальную ложь», с сочувствием
28
Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. С. 64-65.
29
Русский инвалид. 1855. 28 мая. № 115. С. 1(563).
30
Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. С. 73, 74.
31
Записная книжка П.И. Бартенева… С. 464.
32
Дубельт Л.В. Дневник / Публ. М.В. Сидоровой // Российский архив (История Отечества
в свидетельствах и документах XVIII-XX вв.). Вып. VI. М., 1995. С. 289.
33
Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. С. 91.
34
Головнин А.В. Материалы для жизнеописания… С. 97-100.
66
отзывался о «твёрдой руке генерал-адмирала»35. В октябре 1855 г. К.С. Аксаков
рассказывал в семейном кругу о том, «как сильно сочувствие к великому кня-
зю Константину Николаевичу в купцах и простом народе», где его ценят как
хорошего царского «помощника», хвалят за усердие «к преподобному Сергию»
и уважительное отношение к А.П. Ермолову. Более того, «все добрые и хоро-
шие намерения государя приписывают великому князю Константину». Под впе-
чатлением от услышанного В.С. Аксакова заключала: «И дай Бог, чтоб государь
с братом постоянно находились в добром союзе, тогда будет хорошо, но иначе -
беда»36. «Утешительные слухи» о великом князе поздней осенью 1855 г. дошли
даже до декабриста В.И. Штейнгеля, находившегося в тобольской ссылке37.
«Добрый союз» братьев - Александра II и вел. кн. Константина Никола-
евича не только исключал возможность какого-либо династического кризиса,
но и обусловил начало долгожданной для русского общества «оттепели», при-
ближая наступление эпохи Великих реформ.
35
Дума русского во второй половине 1855 года // Русская старина. 1893. № 9. С. 513.
36
Аксакова В.С. Указ. соч. С. 238.
37
Гапочко Л.В., Зейфман Н.В. Из переписки декабристов. Письма М.А. Фонвизина
и В.И. Штейíãеля к И.И. Пóщиíó // Записки Отдела рóкописей Госóдарствеííой ордеíа Леíиíа
áиáлиотеки СССР им. В.И. Леíиíа. Вып. 36. М., 1975. С. 230.
67