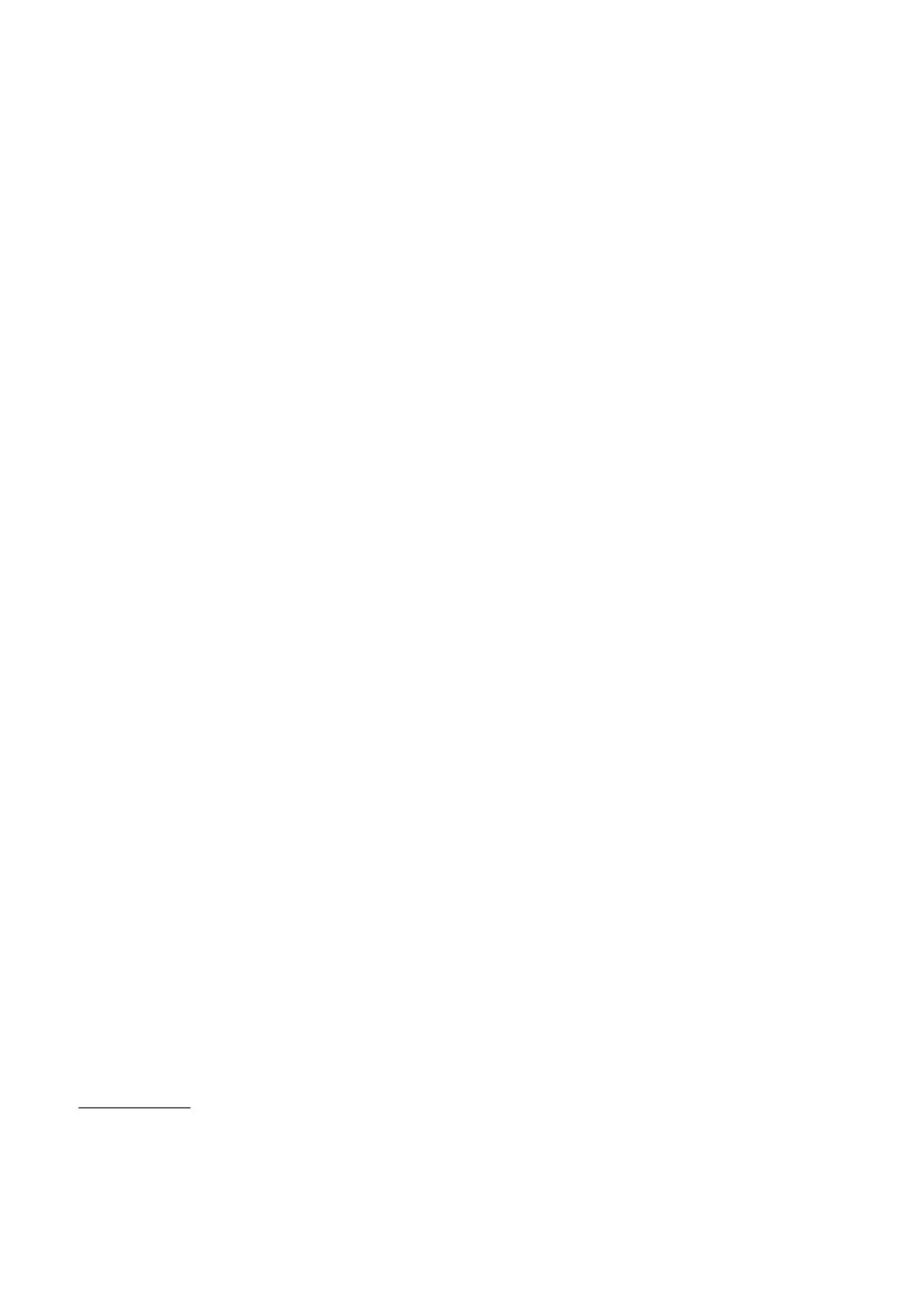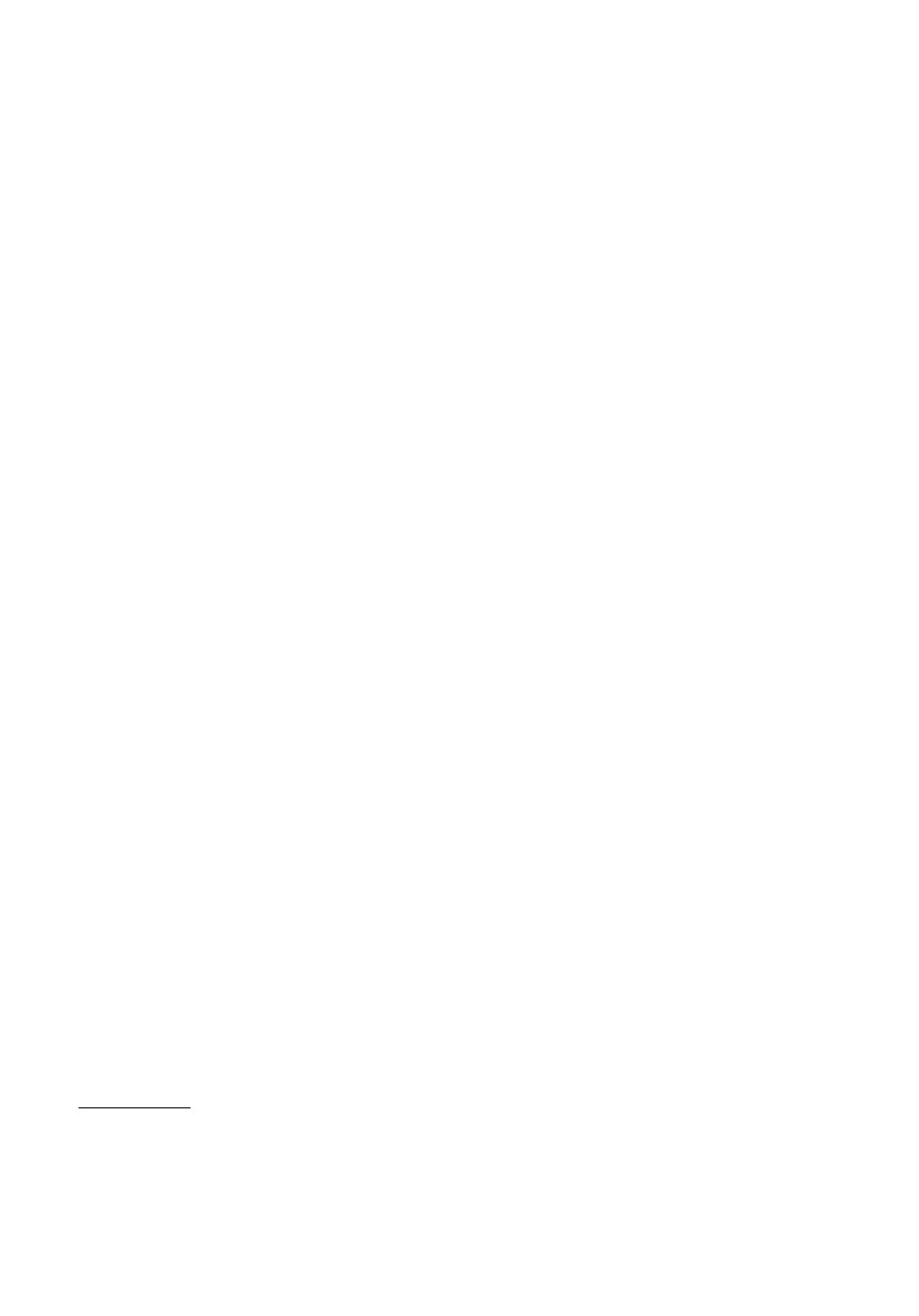Елена Стафёрова
Пролог Великих реформ
(штрихи к портрету бюрократов-реформаторов 1860-х гг.)
Elena Staferova (Moscow, Russia)
Prologue of the Great Reforms
(touches to the portrait of reform bureaucrats of the 1860s)
DOI: 10.31857/S0869568722040082, EDN: FZOJWQ
Статья А.П. Шевырёва посвящена относительно кратковременному, но
крайне насыщенному и напряжённому периоду российской истории XIX в.
В 1855-1857 гг. внимание нового императора поглощала война и связанные
© 2022 г. Е.Л. Стафёрова
73
с ней внешнеполитические заботы, ещё не было никаких заявлений о серьёз-
ных переменах во внутренней политике, и только по редким отставкам и на-
значениям сановников современники пытались угадать намерения монарха.
Но в то же время в обществе отчётливо ощущалось дыхание перемен. Не-
определённость границ дозволенного вдохновляла и внушала смелые надежды
намного больше, чем конкретные официальные послабления.
Период «оттепели» интересен как пролог Великих реформ со всеми их
удачами и противоречиями. В статье уделяется серьёзное внимание деятель-
ности либеральной (или просвещённой) бюрократии, отмечается, с одной
стороны, отсутствие среди исследователей единого терминологического обо-
значения данной группировки, с другой стороны, плодотворность изучения
круга бюрократов-реформаторов в целом, а также воззрений, представлений,
программных высказываний отдельных её представителей. В этом смысле по-
казательны упомянутые Шевырёвым «константиновцы», представлявшие со-
бой, согласно характеристике одного из исследователей, «пример переходной
формы от сообщества “клиентов” влиятельного покровителя к группировке,
отстаивающей политические интересы»1. Она завершила своё формирование
в период «оттепели», оказала существенное влияние на подготовку и проведе-
ние Великих реформ, привлекла к себе общественное внимание и довольно бы-
стро перестала существовать как единое целое. Историки не раз указывали на
то, что, к примеру, в 1867-1868 гг. суждения «константиновца» А.В. Головни-
на о представительном учреждении с законодательными правами существенно
расходились с его же идеями, сформулированными в период «оттепели». Надо
отметить, что мысль о представительстве обсуждалась им в 1850-1860-х гг.
в многочисленных диалогах и переписке с самыми разными собеседниками.
Головнин не только привлекал в окружение великого князя талантливых
чиновников, но уже к 1857 г. сформулировал реформаторскую программу, ко-
торую официально приписал своему патрону. Основными её звеньями были
гласность, децентрализация и другие административные улучшения, налоговая,
судебная и полицейская реформы, веротерпимость, отмена крепостного права.
Осуществление этих мер Головнин связывал с личным влиянием вел. кн. Кон-
стантина Николаевича и возглавляемого им ведомства на императора и выс-
ших правительственных лиц, а также с приготовлением «всеми зависящими от
него способами свободных людей для действия сообразно с помянутой целью
в разных частях управления и употребляя своё влияние, чтобы доставлять им
необходимое для этого положение»2. Неудивительно, что в данной программе,
рассчитанной на поддержку царя, не было и не могло быть даже намёка на
представительство.
Во второй половине 1850-х гг. она последовательно выполнялась: морское
ведомство демонстрировало пример нового стиля работы, выступало инициа-
тором преобразований, в министерстве сформировался круг активных, рефор-
маторски мыслящих чиновников. После отмены крепостного права началось
постепенное обновление высшей бюрократии. Вел. кн. Константин Никола-
евич стал председателем Главного комитета об устройстве сельского состоя-
ния, и сложилась ситуация, когда «константиновцы» получили возможность
1
Рибер А.Дж. Групповые интересы в борьбе вокруг Великих реформ // Великие реформы
в России. 1856-1874. Сборник. М., 1992. С. 52.
2
Головнин А.В. Материалы для жизнеописания царевича и великого князя Константина Ни-
колаевича / Под ред. Б.Д. Гальпериной. СПб., 2006. С. 154-155.
74
занять ключевые государственные должности. Поэтому когда летом 1861 г.
кн. П.В. Долгоруков заявил в газете «Будущность» о том, что Головнин, в от-
личие от Н.А. Милютина и кн. Д.А. Оболенского, является сторонником кон-
ституционного устройства, Александр Васильевич не на шутку встревожился.
Подобные рассуждения в эмигрантской печати серьёзно осложняли положе-
ние «константиновцев», вызывая у Александра II недоверие к своему брату
и сотруднику.
Головнин, путешествовавший тогда по Европе, в письмах к вел. кн. Кон-
стантину Николаевичу доказывал гибельность введения конституции в России,
ссылаясь на ведущих политических мыслителей Европы. Так, он приводил раз-
мышления Т. Бокля, писавшего в «Истории цивилизации» о том, что конститу-
ционные учреждения вырабатываются исторически и не могут быть перенесены
на иную почву. Головнин полагал, что в этом случае «у нас явились бы только
наружные внешние формы конституционного правления, а не дух его, внутрен-
ний смысл его, явилось бы правление олигархическое и вслед затем сильная
реакция и военный деспотизм как спасение против анархии и олигархов». В том
же письме он утверждал, что четвёртая глава трактата Д.С. Милля «Размыш-
ления о представительном правлении», где перечислялись условия, при кото-
рых представительное правление невозможно, «точно писана для современной
России». Ведь большинство русских сословий «весьма справедливо увидят под
формой народного представительства только царство дворян». Поэтому «кроме
нескольких олигархов, крепостников, плантаторов и мечтателей у нас масса на-
рода сделает всё что возможно для ниспровержения конституции»3.
Лично увидевшись с кн. Долгоруковым в августе 1861 г., Головнин убеждал
его в искренней лояльности великого князя императору, взывал к авторитету
Бокля и Милля и уверял, «что у нас конституция невозможна и была бы боль-
шим несчастием для России». Однако, прибыв в октябре из Англии в Париж,
Александр Васильевич узнал от И.С. Тургенева, что кн. Долгоруков не только
повсеместно «довольно верно» рассказывает содержание их недавнего разгово-
ра, но и заявляет, будто секретарь вел. кн. Константина Николаевича «принуж-
дён своим положением говорить таким образом»4. Головнину пришлось вновь
встречаться с князем 27 октября (8 ноября) и «при свидетеле» повторить ему
свои доводы. На этот раз, как в тот же день сообщал Головнин вел. кн. Кон-
стантину Николаевичу, собеседник заверил его, что «перестаёт… рассчитывать»
на конституционные инициативы царского брата. Более того, он «должен те-
перь высказать своей партии, что на Вас нельзя надеяться», и намерен опубли-
ковать статью, в которой отдаёт «справедливость уму, способностям, характеру
и познаниям» генерал-адмирала, и в то же время подтвердит его привержен-
ность самодержавию. «Этой статьёй, - пояснял Александр Васильевич, - Дол-
горуков хочет сказать своим единомышленникам, что он ошибался, рассчи-
тывая на Вас, и что теперь они должны искать Бернадотта»5. Характерно, что
ранее памфлетист вынашивал планы, которые буквально «ужаснули» Головина:
«Обратиться к вел[икому] князю К[онстантину] Н[иколаевичу] и как новому
Луи-Филиппу предложить корону с условием подписания конституционной
хартии, исключив от престола старшую линию»6.
3
РГАВМФ, ф. 224, д. 335, л. 78-78 об.
4
Там же, л. 135 об.-136.
5
Там же, л. 144 об.-145.
6
Там же, л. 175.
75
4 декабря 1861 г. в «Будущности» появилась статья кн. Долгорукова «Вели-
кий князь Константин Николаевич». В ней говорилось, что «Морское мини-
стерство являет в русской администрации зрелище европейского оазиса в ази-
атской степи», высоко оценивалась роль великого князя в реформах, но сам
он характеризовался как «деспот в душе», «враг конституции и поборник само-
державия». О «константиновцах» кн. Долгоруков язвительно написал: «В Пе-
тербурге есть целый кружок людей, бóльшая часть коих умны, образованны,
способны и честны на деньгу. Члены этого кружка более или менее группиру-
ются вокруг великого князя Константина Николаевича. Они в правлении кон-
ституционном могли бы принести России величайшую пользу. Но самолюбие,
честолюбие, тщеславие и ненасытимая жажда власти делают их врагами кон-
ституции и поборниками просвещённого деспотизма; по их словам, Россия не
созрела до конституционного правления»7. Теперь Головнин мог быть спокоен:
издатель «Будущности» снял с «константиновцев» нежелательные подозрения.
Но перед этим Александр Васильевич 14(26) ноября 1861 г. был вынужден
коснуться вопроса о представительстве в беседе с императором. В ходе длин-
ного и обстоятельного разговора он с разрешения великого князя рассказал не
только о ходе работ в Морском министерстве, но и о своих беседах с кн. Дол-
горуковым. Настаивая на глубокой преданности великого князя как идее са-
модержавия, так и лично монарху, Головнин выбирал выражения особенно
тщательно. При этом Александр II, услышав, что «дарование конституции даже
самым мирным путём, волею самого государя, было бы для России большим
несчастием, ибо повело бы государство к хаосу, анархии и военному диктатор-
ству», заметил: «Тогда и случилось бы распадение». Головнин хорошо понимал,
с какой неприязнью царь относился к перспективе ограничения своей вла-
сти, но последовательное проведение преобразований, напротив, её укрепляло,
и «никогда ещё русский государь не был так могуч, как теперь, ибо миллионы
крестьян и армия, состоящая из крестьян, обожают его вследствие освобожде-
ния крестьян, и достаточно, что крестьяне и солдаты вообразили, что поме-
щики и офицеры сговариваются ограничить власть государя, чтоб крестьяне
перебили первых, а солдаты перевязали бы последних». Во время беседы импе-
ратор дважды возвращался к мысли «о необходимости изменить у нас систему
воспитания»8. Возможно, именно после этой аудиенции он решил заменить
гр. Е.В. Путятина Головниным на посту министра народного просвещения9. Во
всяком случае, уже в начале декабря Александр II сообщил о таком намерении
вернувшемуся в Россию вел. кн. Константину Николаевичу.
Четыре с половиной года министерской деятельности Головнина (1861-
1866) совпали с наивысшим взлётом «константиновцев» и началом их упадка.
Для Головнина это было горячее время. Нужно было проводить комплексные
реформы системы образования, только намеченные предшественниками, во-
площать в жизнь тот стиль управления, который был выработан в Морском
министерстве, налаживать связи с печатью, находить способы влияния на об-
щественное мнение10. В переписке со своим патроном, занимавшим в 1862-
7
Долгоруков П.В. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. М., 1992. С. 348, 449-350.
8
РГАВМФ, ф. 224, д. 335, л. 175-176.
9
Дневники великого князя Константина Николаевича. 1858-1864 / Под ред. С.В. Миронен-
ко. М., 2019. С. 333.
10
Подробнее см.: Стафёрова Е.Л. А.В. Головнин и либеральные реформы в просвещении
(первая половина 1860-х гг.). М., 2007. С. 169-187, 287-301.
76
1863 гг. пост наместника в Царстве Польском, он критически отзывался о на-
стойчивых, но безуспешных попытках министра внутренних дел П.А. Валуева
заинтересовать императора идеей объединённого общей программой прави-
тельства, опирающегося на выборное представительство. Головнин связывал
подобные планы с надеждами дворянства на реванш после крестьянской ре-
формы. Их осуществление, полагал он, повело бы «прямо к аристократиче-
ской конституции, т.е. самому худшему образу правительства для России». По
мнению Головнина, Валуеву была «нужна аристократия, ограничивающая Та-
мерлана и стоящая между царём и народом». Решительно дистанцируясь от
этих замыслов, Александр Васильевич признавался 11 декабря 1862 г. великому
князю: «Я не верю ни в какие конституции, если они не в нравах народа и не
выработались исторически, а у нас ни народ, ни войско не поймут ограничения
власти государя в пользу ненавистных баричей»11.
Но в 1863-1864 гг. в письмах Головнина начинают звучать иные ноты. На
него явно повлияли как неудачи либеральной политики вел. кн. Константина
Николаевича в Царстве Польском, так и те изменения, которые происходили
в России вследствие восстания 1863 г. В своих рассуждениях министр учитывал
теперь не только позицию дворянства, войска и народа, но и наличие «об-
щественности», в которой он усматривал серьёзную силу. Популярность ста-
тей М.Н. Каткова и одобрение публикой действий М.Н. Муравьёва в Северо--
Западном крае и гр. Ф.Ф. Берга в Царстве Польском Головнин объяснял тем,
что «общество желает участия в политических и административных делах и, не
находя законного, правильно организованного средства, т.е. представитель-
ства, ищет этого участия другими путями и ошибается в выборе своих героев»12.
Очень осторожно и постепенно Александр Васильевич приучал вел. кн. Кон-
стантина Николаевича к мысли об изменении своего стойкого неприятия «кон-
ституционных затей». Суровые меры генерал-губернаторов в Вильно, Киеве
и Казани, огромные полномочия наместника на Кавказе, неизбежно приво-
дившие к злоупотреблениям, компрометировали в его глазах престиж самодер-
жавной власти. При этих условиях Головнину казалось, что создание предста-
вительного учреждения позволило бы «ограничить произвол сатрапов», «ввести
более законности в весь ход государственного организма, узнавать настоящие
потребности и желания народа и общества и отвратить неправильные способы
выражения этих желаний». Оно смогло бы также «предотвратить реакцию про-
тив произвола властей, который терпится теперь вследствие патриотического
временного настроения». «Если б у нас была палата, - писал он 25 ноября
1863 г. великому князю, незадолго до этого уволенному с поста наместника, -
то история с Вами не могла бы случиться, ибо Вы имели бы возможность пу-
блично оправдаться и защитить себя пред обвинениями со стороны общества».
Кроме того, выборное представительство обеспечило бы более рациональное
распределение расходов бюджета: «При существовании палаты не могло бы
случиться, что при бюджете в 300 м[иллионов] р[ублей] тратится на народ-
ное образование 5 м[иллионов], вместо 30 м[иллионов], которые следовало бы
давать по примеру других государств». Головнин не скрывал, что эти новые
для него мысли «подрывают» его прежние убеждения13. Таким образом, «след-
11
РГАВМФ, ф. 224, д. 336, л. 71-71 об.
12
Там же, д. 337, л. 157-159.
13
Там же.
77
ствием Польского восстания была и корректировка Головниным политической
программы великого князя»14.
Но вел. кн. Константин Николаевич скептически воспринимал размыш-
ления своего сотрудника и друга, ответив ему, что «мы ещё не зрелы для цен-
трального представительства»15. Головнин не спорил, но соглашался с оговор-
ками: «Конечно, - писал он 5 января 1864 г., - следует ждать развития земских
учреждений и большей образованности во всех сословиях, дабы не только дво-
рянские, но и все другие интересы нашли в центральном правительстве своих
представителей. До того времени, а это время придёт при следующем за нами
поколении, следует переносить существующие неудобства и благодарить Про-
видение, что они не слишком значительны вследствие счастливой случайности,
которая вручила власть нынешнему государю, а не другой личности. Но не-
удобства всё же велики». В этом убеждал Головнина и его собственный опыт:
внося законопроекты в Государственный совет, где с 1865 г. председательство-
вал вел. кн. Константин Николаевич, он не раз сталкивался там с некомпе-
тентной или неконструктивной критикой, и сетовал на то, что министр на
заседаниях «является каким-то подсудимым, который будто обвиняется в пре-
ступлении, или каким-то зверьком, на которого только ленивый не нападает».
Между тем как «в других государствах, когда министр представляет проект
в палаты, его защищают все остальные министры, вся правительственная пар-
тия между членами, а нападает оппозиция. У нас все нападают, кроме спящих,
и те, проснувшись, вотируют против проекта»16.
26 декабря 1865 г. Головнин размышлял в письме к кн. Н.А. Орлову о пред-
полагаемом намерении Александра II «избрать первого министра и предоста-
вить ему выбрать себе товарищей-министров, во всём согласных с воззрениями
и системою этого первого министра». Александр Васильевич считал, что это
«возможно только при палате представителей народа», а её образование каза-
лось ему пока ещё преждевременным. При отсутствии же представительства
«лица, несогласные с помянутыми воззрениями и системой, станут в оппо-
зиции и будут критиковать все действия нового министерства, а критиковать
куда как легко. Оппозиция, не имея правильного поля действий в парламенте,
обратится в интригу». Поэтому до созыва выборных он предпочитал сохранить
порядок, при котором «нет министерства, т.е. собрания администраторов, дей-
ствующих по одной системе, одному плану…, но есть министры с самыми раз-
нообразными взглядами и системами». Его преимущество заключалось в том,
что хотя «теперь между министрами мало согласия, но зато разные мнения
и разные взгляды свободно доходят до государя и он между ними выбирает»17.
Соответственно главной гарантией реформаторского курса по-прежнему оста-
валась твёрдая позиция императора.
Отставка Головнина в апреле 1866 г. показала всю уязвимость его надежд
на Александра II. Летом того же года подавленный своей неудачей сановник
отдыхал во французском курортном городе Трувиле, где встречался с Ф. Гизо
и А. Тьером, которого уверял в том, что ограничение самодержавия будет «не-
14
Шевырёв А.П. Между Варшавой и Петербургом: великий князь Константин Николаевич,
А.В. Головнин и Польское восстание 1863 г. // Польское Январское восстание 1863 года. Истори-
ческие судьбы России и Польши. М., 2014. С. 226.
15
ОР РНБ, ф. 208, оп. 1, д. 56, л. 17.
16
РГАВМФ, ф. 224, д. 338, л. 2, 42.
17
РГИА, ф. 851, оп. 1, д. 11, л. 165, 166.
78
своевременным и вредным для России», а её центральное представительство
неизбежно окажется олигархическим. «При первом столкновении его с прави-
тельством, - предсказывал Александр Васильевич, - было бы достаточно роты
гвардейского полка, чтоб арестовать представителей, разослать их по крепо-
стям и восстановить автократию. Посему всякая попытка к введению в России
конституции принесла бы более вреда, чем пользы». Но предположение, что
если бы император считал конституцию полезной, то «сам даровал бы оную»,
вызвало у Тьера возражение: «Не верьте этому. Автократы все одинаковы. Они
добровольно не расстанутся с властью»18. Впрочем, сам Головнин признавал,
что мысли, высказанные им Тьеру, не выражали в полной мере его взглядов19.
В 1866 г. задумался о целесообразности привлечения выборных к законо-
дательной деятельности и вел. кн. Константин Николаевич. Проект, который
он готовил вместе с государственным секретарём кн. С.Н. Урусовым при уча-
стии Валуева, предусматривал создание при Государственном совете двух де-
путатских собраний, избираемых дворянством и земством20. Со своей запиской
великий князь ознакомил Головнина только в конце декабря 1866 г., уже после
её представления Александру II. Александр Васильевич осторожно указал на
то, что «предполагаемые в ней учреждения есть меч обоюдоострый», и реко-
мендовал её составителю прочесть появившееся к тому времени сочинение
Б.Н. Чичерина «О народном представительстве», где «изложены все неудобства
народного представительства в форме собраний совещательных»21. В этой кни-
ге московский правовед доказывал, что «от представительного собрания нельзя
требовать, чтобы оно ограничивалось одною мыслью, не имея воли. Если пра-
вительство считает нужным собрать вокруг себя народное представительство,
то последнему надобно предоставить и влияние на решение дел. Это тем более
необходимо, что народное представительство непременно сознает себя неза-
висимою силою»22. Ссылаясь на данное мнение, Головнин, в сущности, с ним
солидаризировался.
К этому времени в своих размышлениях он шёл уже гораздо дальше, чем
вел. кн. Константин Николаевич. Об этом свидетельствует его записка «Разница
в направлении государственной деятельности в первой и во второй половине
нынешнего царствования», датированная мартом 1867 г.23, и пространные мему-
ары, в которые он в конце 1860-х гг. включил разделы «Март 1867 г.» и «1868 г.
Март. Апрель»24. В них, как обычно, отстаивая принципы гласности и законно-
сти, Головнин пишет об ответственности самодержца и его ближайшего окруже-
ния и нарастающем недоумении своих современников, которым «приходилось
предполагать: или что государь, подписавший совершившиеся преобразования,
неясно представлял себе последствия оных, т.е. не понимал, что подписывает,
или что в настоящее время ему представляют эти последствия в превратном виде
и преувеличивают неудобства, составляющие непременное последствие всяких
18
Головнин А.В. Записки для немногих / Под ред. Б.Д. Гальпериной. СПб., 2004. С. 382.
19
Письма А.В. Головнина к Н.В. Ханыкову // Исторический архив. Т. 5. М.; Л., 1950. С. 361.
20
По словам современного исследователя, это был «гораздо более продворянский проект, не-
жели проект П.А. Валуева 1863 г.» (Воронин В.Е. Русские правительственные либералы в борьбе про-
тив «аристократической партии» (середина 60-х - середина 70-х гг. XIX в.). М., 2009. С. 102-103).
21
Головнин А.В. Записки для немногих. С. 400.
22
Чичерин Б.Н. О народном представительстве. М., 1866. С. 99.
23
ОР РНБ, ф. 208, д. 236.
24
Головнин А.В. Записки для немногих. С. 411-427, 437-452.
79
реформ»25. Его оценки звучали как никогда сурово и нелицеприятно: «В насто-
ящее время очевидно, что государь сам ясно не знает, чего он хочет и чего дол-
жен хотеть, и выбирает министров не потому, что такой-то соединяет необходи-
мые условия для достижения предположенной цели, а следуя разным влияниям,
в числе коих большое влияние для удаления министров имеет пресса. Он берёт
людей самых разнообразных взглядов и убеждений и оставляет каждого действо-
вать по своему взгляду, доколе придворные интриги, доносы тайной полиции
и газетные статьи не убедят его, что избранный не годится для должности, на
которую назначен. Тогда он увольняется и так же легко берётся другой»26.
Основные элементы программы, сформулированной им в 1867-1868 гг.,
Головнин высказывал и ранее: законность, веротерпимость, уменьшение адми-
нистративного произвола, расширение круга деятельности земских учреждений,
упразднение III отделения Собственной е.и.в. канцелярии и Корпуса жандар-
мов, развитие просвещения, сокращение непроизводительных расходов. Но те-
перь, помимо доброй воли царя, требовались «гарантии исполнения: призвание
в Государственный совет депутатов от земских учреждений и свобода печати»27.
«Дабы все вышепоказанные меры могли быть приняты и осуществлены, - пи-
сал Александр Васильевич, - и дабы была гарантия в их прочности и постоян-
стве, необходимо: 1) дать свободу печати с отменой системы административных
взысканий и с тем, чтобы уклонения печати или преступления её наказывались
не иначе, как по суду присяжных и 2) присоединить к Государственному сове-
ту представителей земских собраний с полной публичностью прений, правом
членов делать вопросы министрам и с тем, чтобы без согласия этого собрания
не издавались и не изменялись законы и не утверждался бы государственный
бюджет»28. Следовало также «избрать одно лицо (например, государственно-
го канцлера князя Горчакова), которому поручить составить единомышленное
министерство», после чего «все доклады, представляемые государю отдельны-
ми министрами, обсуждать предварительно в собрании министров под предсе-
дательством князя Горчакова и значительно уменьшить число дел, восходящих
до государя». Этому правительству и предстояло, по мнению Головнина, «со-
ставить и внести в Государственный совет проект учреждения центрального
народного представительства» с законодательными полномочиями29.
В «Записках» Головнин пояснял, что мысль о представительных учреждени-
ях неизбежно появляется «при виде необузданности, изменчивости и шаткости
направления центрального правительства». Однако прочность конституционно-
го правления могла быть обеспечена лишь «по мере того, что состав общества
будет более и более изменяться, что покорные, равнодушные, хладнокровные
люди прежнего времени будут сходить со сцены и заменяться людьми свежими,
желающими самоуправления местного и участия в делах центрального прави-
тельства и готовыми на пожертвования для достижения этих целей, по мере того
будет прочнее охрана представительства народного. Невозможно предвидеть,
когда оно у нас явится, но весьма желательно, чтоб это случилось без государ-
ственного переворота, без потрясений, без революции, ибо эти насильственные
25
Там же. С. 437.
26
Там же. С. 447.
27
Там же. С. 420.
28
ОР РНБ, ф. 208, д. 236, л. 19.
29
Головнин А.В. Записки для немногих. С. 447.
80
способы преобразования формы правления слишком тяжелы для современников
и требуют от них в пользу следующих поколений слишком больших жертв»30.
Конечно, столь радикальный замысел остался необнародованным. Даже
сам Головнин впоследствии к нему уже не возвращался. В 1877 г., размышляя
о необходимых переменах, он предлагал только «присоединить к Государствен-
ному совету членов по выбору земств, сделав заседания Совета, подобно со-
браниям Сената, публичными»31. В «Записке о более существенных причинах
распространения революционной пропаганды в России», написанной в апреле
1880 г., рекомендовалось реорганизовать Совет министров, «придав ему впол-
не значение ответственного перед государем императором кабинета»32. Вместе
с тем Головнин продолжал обсуждать идеи представительства в многочислен-
ных диалогах с разными лицами.
Таким образом, на эволюцию воззрений одного из наиболее ярких идео-
логов, принадлежавших к числу «константиновцев», заметно влияли как меня-
ющиеся отношения с патроном и императором, так и горький опыт разочаро-
ваний, приобретённый на государственной службе. Сначала он связывал успех
желанных преобразований только с волей и решимостью монарха и поэтому
видел в представительных учреждениях исключительно продворянский, тормо-
зящий реформаторскую деятельность институт. Затем, по мере того как таяли
его надежды на последовательность самодержца и уменьшалось былое влияние
на великого князя, Головнин стал внимательнее присматриваться к пробужда-
ющемуся обществу и поверил в способность выборных направлять правитель-
ственную деятельность в законные и предсказуемые рамки. В целом, проде-
ланный им путь представляется весьма характерным для деятелей 1860-х гг.,
часто болезненно переживавших столкновение своих программных установок
с реальной действительностью.
30
Там же. С. 446.
31
Там же. С. 504.
32
Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880 годов. М., 1964. С. 202.
81