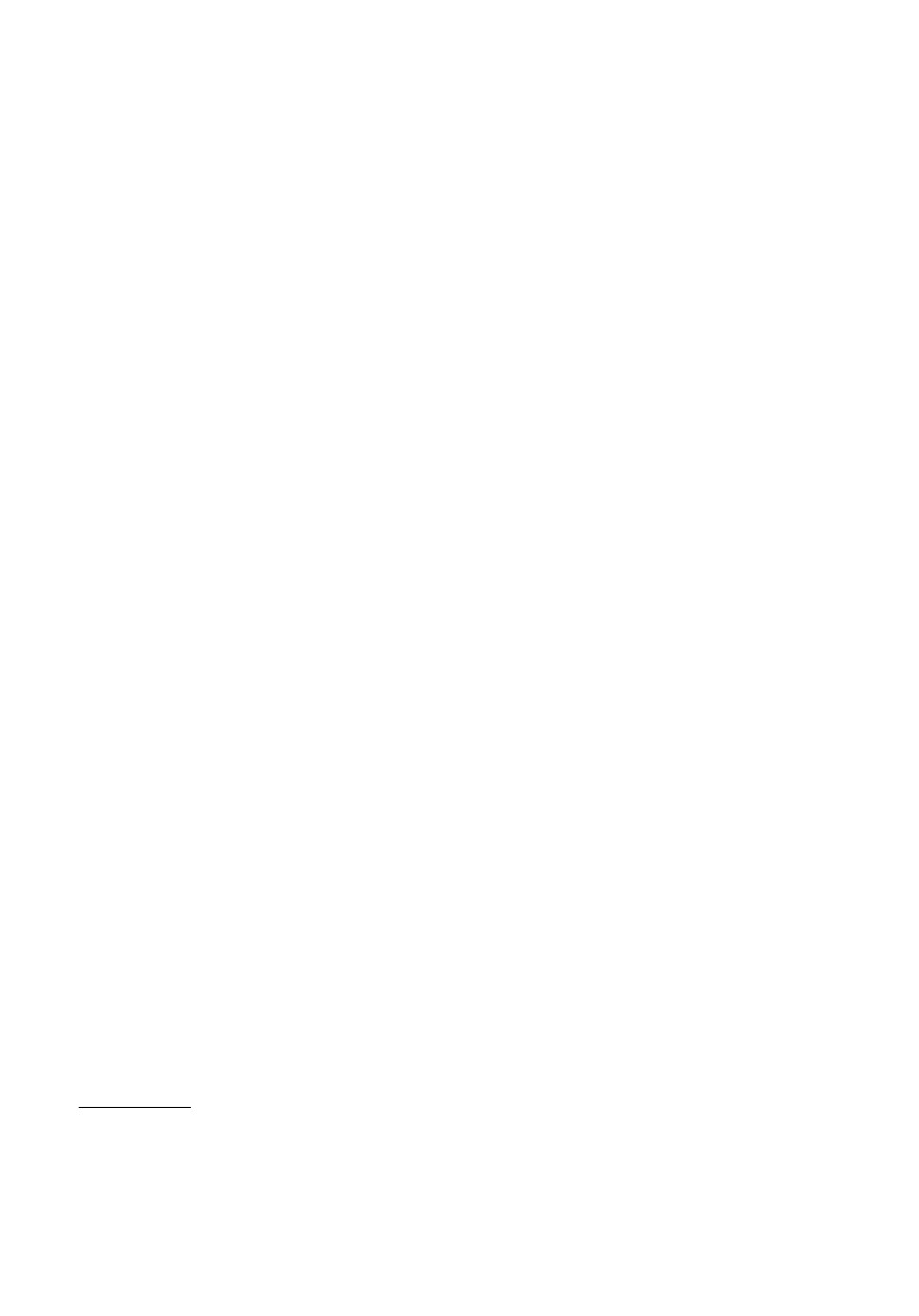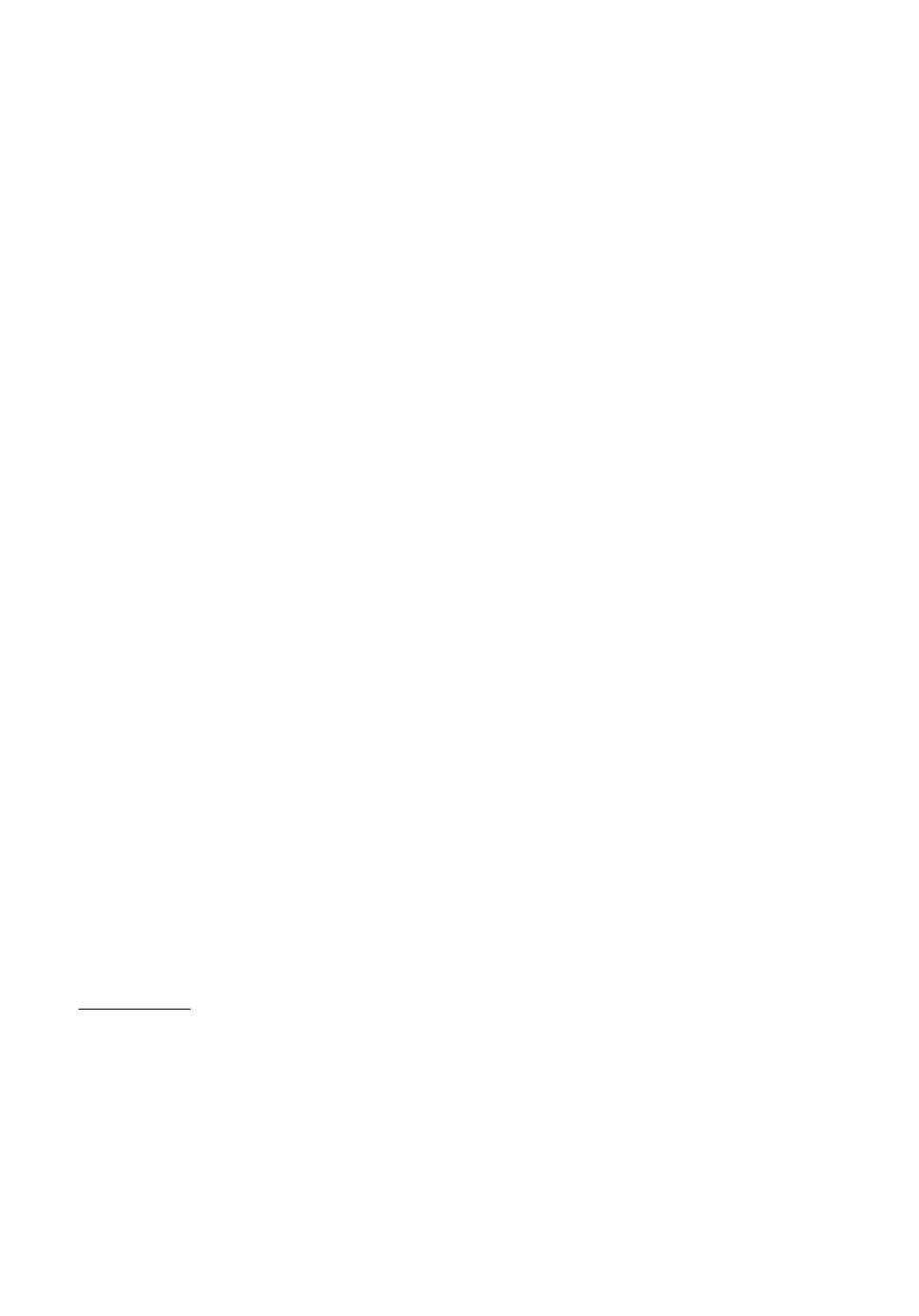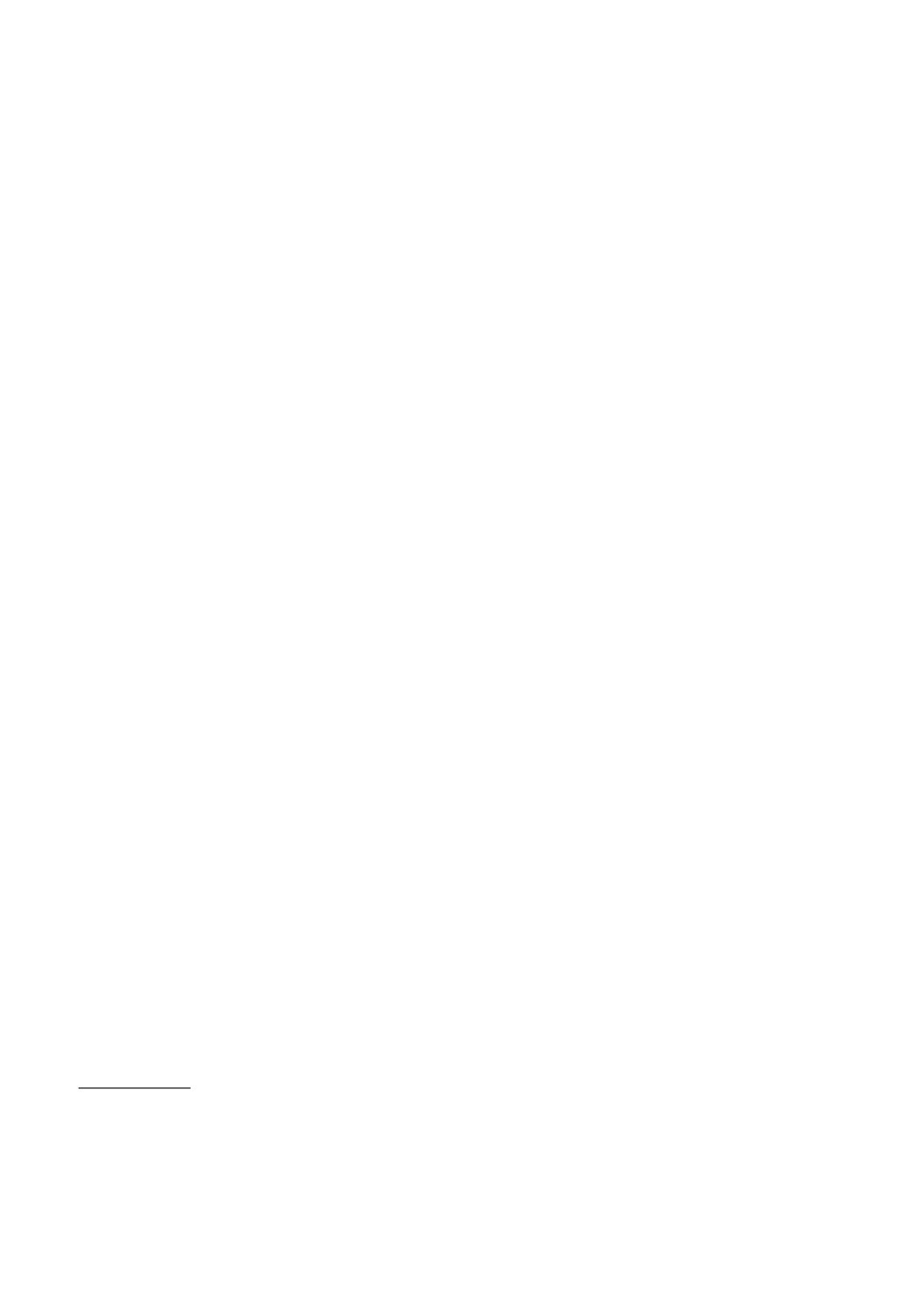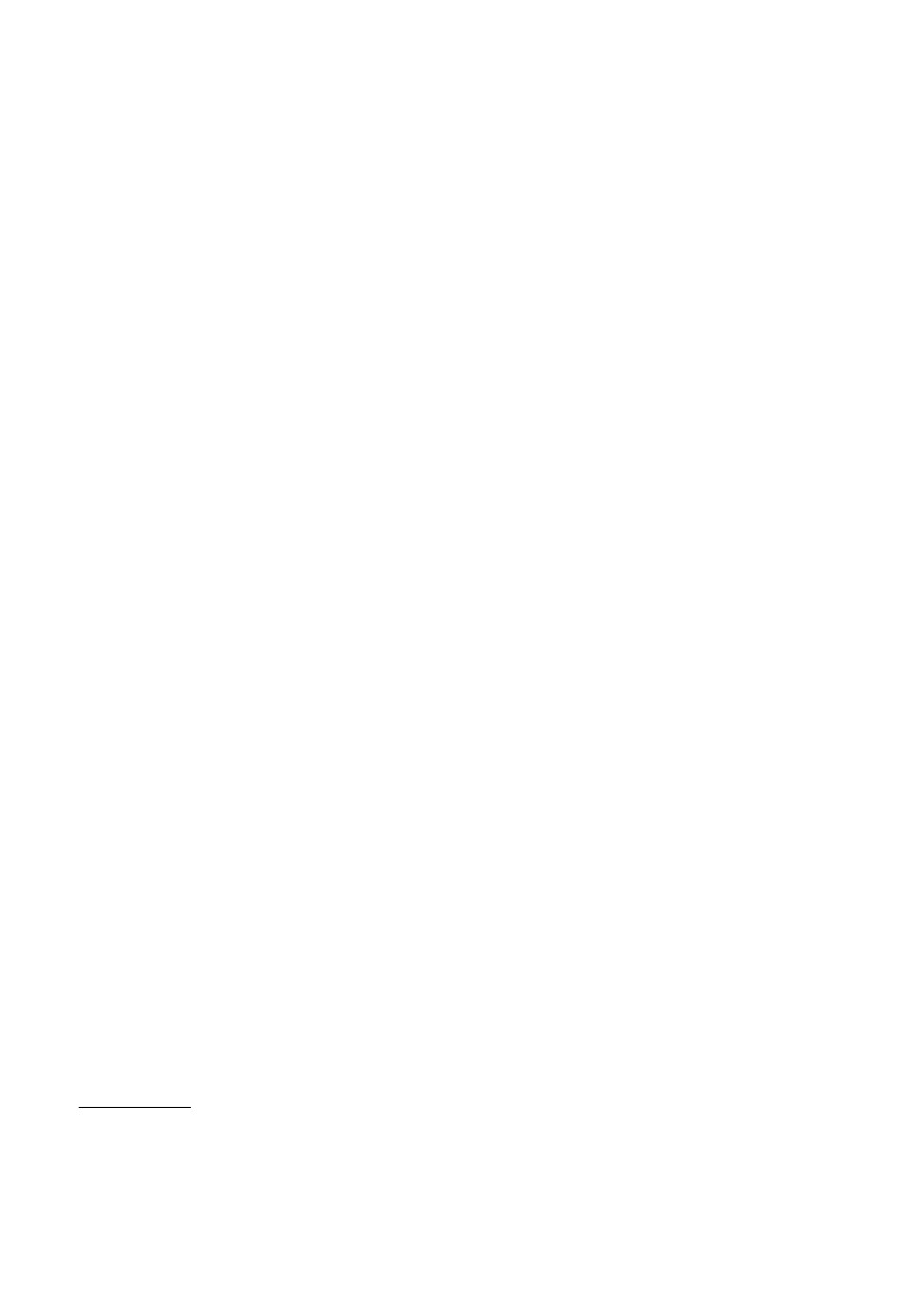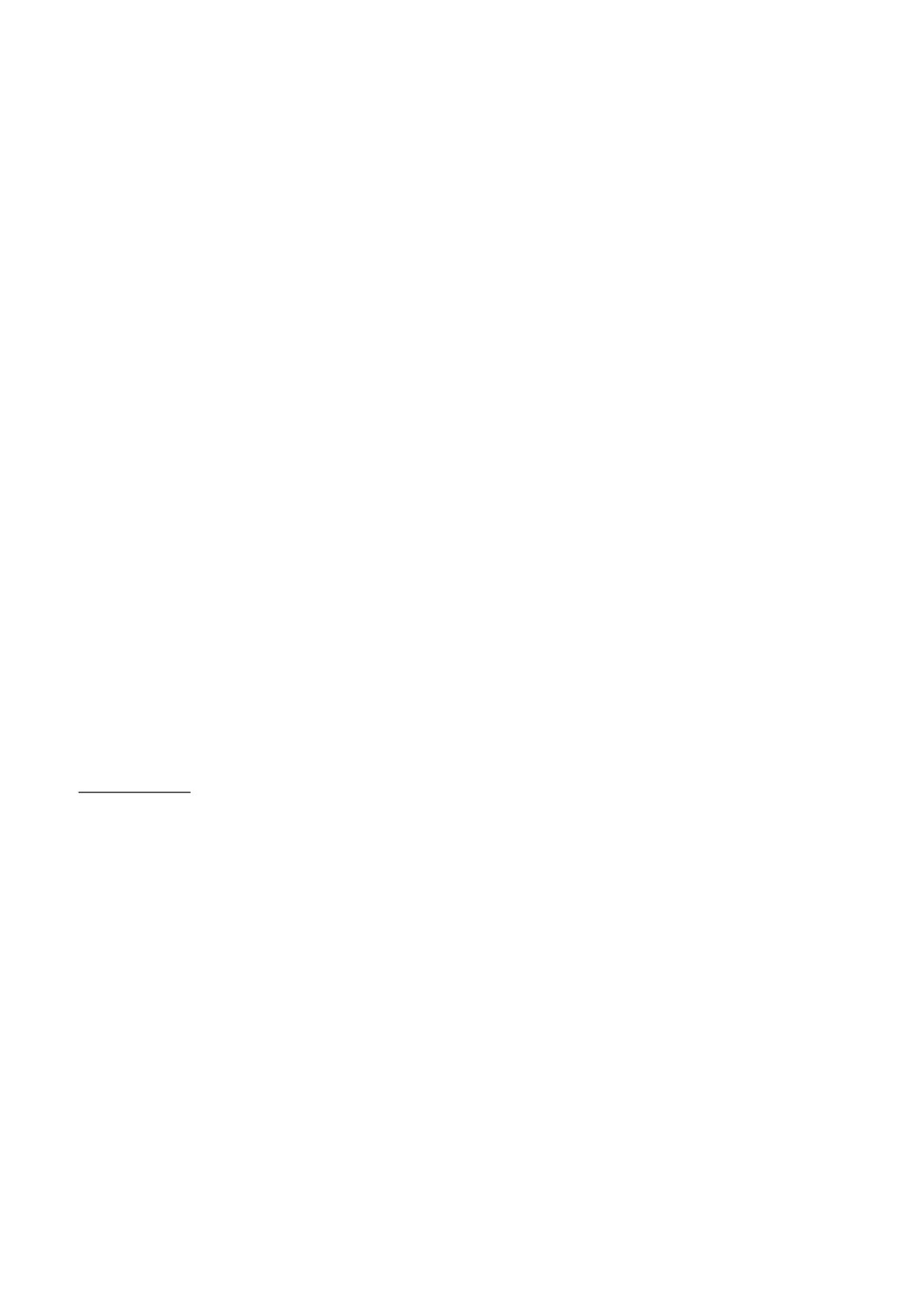Андрей Мамонов
Несостоявшийся идеолог «оттепели» М.П. Позен
Andrey Mamonov (Institute of Russian History, Russian Academy
of Sciences, Moscow)
The failed ideologist of the «thaw» M.P. Posen
DOI: 10.31857/S0869568722040094, EDN: FZSKGK
Размышляя об «оттепели» середины 1850-х гг., А.П. Шевырёв справедливо
указывает на то, что «её характерным признаком являлась неопределённость
происходящего в тот переходный период, когда намерения только что всту-
пившего на престол монарха ещё не были вполне понятны обществу». Эта
обстановка позволяла надеяться на реализацию самых смелых и неожиданных
проектов и замыслов. В историографии традиционно основное внимание уде-
ляется мнениям, формировавшимся в столичных интеллектуальных кружках
© 2022 г. А.В. Мамонов
81
и в эмиграции - в среде славянофилов и западников от М.П. Погодина до
А.И. Герцена. Оставленное ими публицистическое, эпистолярное и мемуарное
наследие настолько обширно, глубоко и богато, что поневоле пленяет и увле-
кает исследователей, диктует им свой взгляд на изучаемую эпоху и зачастую
заслоняет от них всё, совершавшееся вне довольно малочисленного «образо-
ванного меньшинства». Мы до сих пор слышим преимущественно те «голоса
из России», которые воспроизводились в Лондоне, у нас по-прежнему «Герцен
под локтем» и Аксаковы на уме.
Однако, при всей ценности сочинений западников и славянофилов сере-
дины XIX в., составляющих золотой фонд русской общественной мысли, не
следует забывать, что, оказывая влияние на читающую публику и в том числе -
на «просвещённую бюрократию» среднего звена (сыгравшую затем ключевую
роль в подготовке Великих реформ 1860-1870-х гг.), они всё же не являлись
властителями дум ни широких слоёв провинциального дворянства, ни высшей
аристократии, за исключением единичных её представителей, ни подавляюще-
го большинства чиновничества, ни тем более - Александра II и его ближайше-
го окружения, определявших направление, цели и методы правительственной
политики. Впрочем, во всех этих сферах тогда скорее ощущался острый дефи-
цит идей (при заметном оживлении высказываний), нежели избыток хорошо
продуманных и аргументированных позиций. Всё та же «неопределённость»
сказывалась и здесь… По-своему ею пытались воспользоваться и те, кто выра-
жал надежды и чаяния складывавшейся «общественности», и те, кому хотелось
говорить от имени власти, будучи при этом не рупором и толкователем её воли,
а идеологом и вдохновителем её действий.
К их числу принадлежал и М.П. Позен. Больше всего он известен как
автор одного из первых проектов крестьянской реформы, рассматривавшихся
в начале 1857 г., и как оппонент Н.А. Милютина и его единомышленников1.
Отчасти такое представление связано с попытками самого Михаила Павлови-
ча опровергнуть обвинения, выдвинутые против него на рубеже 1850-1860-х
гг.2 Между тем его записки 1855-1856 гг., оставшиеся неопубликованными3,
свидетельствуют о том, что он отнюдь не ограничивался поисками решения
крестьянского вопроса.
В правящих кругах Российской империи Позен был весьма оригинальной
и незаурядной фигурой. Родившись в 1798 г. в семье врача и получив лишь до-
машнее образование, он отказался от иудаизма, принял лютеранское крещение
и в 19 лет поступил на службу в Департамент народного просвещения, вхо-
дивший тогда в состав «сугубого министерства» кн. А.Н. Голицына. В 1823 г.
1
Подробнее о роли М.П. Позена в подготовке крестьянской реформы см.: Захарова Л.Г.
Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856-1861. М., 1984; Литвинова Т.Ф. «Поме-
щичья правда»: дворянство Левобережной Украины и крестьянский вопрос в конце XVIII - первой
половине XIX века. М., 2019. С. 521-617. См. также: Литвинова Т.Ф. Прижизненная репутация
и историографическая судьба М.П. Позена // Вестник Омского университета. Сер. Исторические
науки. 2014. № 4(4).
2
С этой целью им были напечатаны «Бумаги по крестьянскому делу М.П. Позена» (Dresde,
1864), сразу же появившиеся и на французском языке: Memoirs rélatifs à l’abolition du servage en
Russie. Par M.P. Posen. Dresde, 1864.
3
ГА РФ, ф. 728, оп. 1, д. 2509. В научных трудах эти тексты практически не рассматривались,
в лучшем случае упоминалось об отдельных их положениях или давалась краткая характеристика
всего комплекса: Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 80-х гг.
XIX в. Л., 1978. С. 39-40; Захарова Л.Г. Указ. соч. С. 30.
82
молодой чиновник, занимавший уже должность столоначальника, перевёлся
в Министерство финансов (которое незадолго до того возглавил Е.Ф. Канкрин)
и сравнительно быстро выдвинулся в начальники отделения, хотя современни-
кам позднее казалось, будто «он долго там прозябал незамеченным»4. В начале
апреля 1828 г. Михаил Павлович покинул финансовое ведомство и устроил-
ся чиновником для особых поручений при гр. А.И. Чернышёве, управлявшем
с 1827 г. Военным министерством. По словам барона М.А. Корфа, «тут в самое
короткое время он умел сделать самую блистательную карьеру. При тонком
уме, живом воображении и хорошем пере, он тотчас завладел Чернышёвым,
умел приобрести всю его доверенность и ещё в средних чинах был употребля-
ем ко всем важнейшим мерам и особенно ко всем новым предположениям по
Военному министерству». В мае 1832 г. его назначили старшим чиновником
Военно-походной канцелярии императора, которой руководил гр. В.Ф. Адлер-
берг, друг детства Николая I. Теперь, сопровождая монарха, Позен (с конца
1834 по 1841 г. - управляющий канцелярией в чине действительного стат-
ского советника) «сам объявлял уже высочайшие повеления гр. Чернышёву».
В 1836 г. царь пожаловал его в статс-секретари.
Но даже такое положение Михаила Павловича не удовлетворяло. «Оставай-
ся он при одной службе, - писал Корф 17 февраля 1839 г., - и, может быть, эта
милость и сила сохранились бы и росли по-прежнему, но он вздумал сделаться
богатым, и этого завистливая толпа уже не вытерпела. Ещё в меньшее время,
нежели надобно ему было для создания своей карьеры, он создал себе огром-
ное состояние. По словам его, которые и мне кажутся правдоподобными, ему
посчастливилось несколько смелых спекуляций, участие в золотых промыслах,
в винных откупах и пр[оч]. Но многочисленные враги и завистники тотчас об-
ратили обогащение его в сильнейшее против него орудие, приписали оное зло-
намеренному употреблению власти, нашли неприличие даже в тех его операци-
ях, которые общее мнение дозволяет каждому, и, не умев повредить репутации
его ума и дарований, успели очернить его характер не только в глазах публики,
но и самого государя, которого милость к нему с тех пор быстро уменьшилась.
Имя Позена теперь приобрело чрезвычайную популярность во всех классах, но
в дурном смысле: вельможи и сильные считают каким-то тоном аффектировать
к нему высшее презрение, а маленькие и слабые довольствуются завистью,
злословием и беспрестанным рассеванием на его счёт нелепых, но тем не менее
оставляющих вредное впечатление слухов»5.
Позен жил тогда «довольно открыто на Мойке (близ Синего моста) в соб-
ственном доме»6, давал балы и обеды, приобрёл «знаменитую и великолепную
дачу покойного барина Пашкова», и теперь, проезжая по Петергофской дороге,
Николай I всякий раз видел столб с указателем «Дача. Приют статс-секретаря
Позена»7. Корф, считавший Михаила Павловича, «по виденным… не раз опы-
там, человеком добрым, благонамеренным и даже благородным», в феврале
1839 г. был уверен, что «блистательная его карьера уже кончилась» и «для него
не воссияет уже никогда солнце милости». В этом убеждало и то, что сам «По-
4
Корф М.А. Дневники 1838 и 1839 гг. / Публ. И.В. Ружицкой. М., 2010. С. 283. См. также:
Давидович И. Позен Михаил Павлович // Русский биографический словарь. Т. Плавильщиков-
Примо. СПб., 1905. С. 265-266.
5
Корф М.А. Дневники… С. 283-284.
6
Из воспоминаний А.А. Харитонова // Русская старина. Т. 41. 1894. № 2. С. 101.
7
Корф М.А. Дневники… С. 284, 443.
83
зен давно уже поговаривает об отставке»8. Однако вместо намечавшегося, каза-
лось, падения в судьбе статс-секретаря начался новый взлёт. В 1839-1840 гг. за
подготовку преобразований на Кавказе и работу над «Сводом военных поста-
новлений» он получил без соблюдения установленного срока ордена Св. Анны
1-й ст. и Св. Владимира 2-й ст., в 1842 г. был произведён в тайные советники
и в том же году назначен управляющим временным VI отделением Собствен-
ной е.и.в. канцелярии, которое занималось закавказскими делами и фактиче-
ски подчинялось кн. Чернышёву. При этом к 1843 г. Позен хотя и в присут-
ствии князя, но уже представлял императору собственные доклады9.
А.А. Харитонов, служивший в VI отделении, полагал, что «Позену гото-
вилась… блестящая будущность, потому что государь Николай Павлович знал
его близко, любил его доклады и высоко ценил его способности; в обществе
предвидели в нём будущего министра финансов, чего и сам Канкрин опасался,
употребив все старания к тому, чтобы Позен не заступил его место»10. Со сво-
ей стороны, Фишер утверждал, что «когда Чернышёв своею пронырливостью
и бесстыдно-ловким пером Позена проложил себе дорогу к государю, начались
проекты и преобразования, которых заднею мыслью была систематическая на-
жива на казённых заготовлениях». При этом «проекты Позена с изумительною
наглостью были названы в докладах и положениях “мыслями, преподанными
Вашим императорским величеством”, и под этою фирмою они не могли уже
подвергаться той резкой критике, какой заслуживали»11.
Катастрофа надвигалась медленно, но разразилась внезапно. Ещё весной
1843 г. Михаил Павлович, всё более тяготившийся опекой со стороны кн. Чер-
нышёва, был освобождён от занятий по Военному министерству «великолеп-
ным рескриптом, в котором ему воздаётся хвала за все его подвиги»12. Тем
временем новым покровителем статс-секретаря стал гр. А.Ф. Орлов, с сентя-
бря 1844 г. возглавлявший III отделение Собственной е.и.в. канцелярии. Он
«не доверял во многих случаях управлявшему этим отделением генералу Ду-
бельту и нуждался в хорошем сотруднике по некоторым важным делам, ко-
торые тогда поручались шефу жандармов. Таким сотрудником явился Позен,
к которому гр. А.Ф. Орлов начал обращаться за советом и содействием, как
лицу, знакомому со вкусами и взглядами государя на внутреннюю политику
и притом владевшему хорошим пером. Кончилось тем, что всеподданнейшие
доклады по важнейшим делам, имевшим государственное значение, составля-
лись им, Позеном, так сказать, инкогнито и подносились государю от графа
Орлова как его собственные»13.
Одновременно, надеясь отстранить военного министра от кавказских дел,
Позен, воспользовавшись тем, что Николай I искал замену А.И. Нейдгардту,
командовавшему войсками на Кавказе, предложил послать туда гр. М.С. Во-
8
Там же. С. 284. См. также: Корф М.А. Записки. М., 2003. С. 343. В мемуарах (точнее, в вы-
держках из дневника, представленных царю в 1857 г.) барон не только сохранил, но ещё более уси-
лил комплиментарную оценку Позена словами «умный, даже необыкновенно умный». О мемуарах
Корфа см.: Долгих Е.В. К проблеме менталитета российской административной элиты первой по-
ловины XIX века: М.А. Корф, Д.Н. Блудов. М., 2006. С. 36.
9
Корф М.А. Дневник. Год 1843 / Публ. И.В. Ружицкой. М., 2004. С. 98.
10
Из воспоминаний А.А. Харитонова. С. 107.
11
Записки сенатора К.И. Фишера // Исторический вестник. Т. 112. № 5. С. 430-431.
12
Корф М.А. Дневник. Год 1843. С. 229.
13
Из воспоминаний А.А. Харитонова. С. 108. Со своей стороны, в 1844 г. Позен объяснял
подчинённым, «что таким лицам, как граф А.Ф. Орлов, не отказывают ни в чём» (Там же. С. 102).
84
ронцова, предоставив ему широкие полномочия и статус наместника. Импе-
ратор с радостью согласился и «удивлялся даже, как он сам прежде всего не
остановил на нём своего внимания»14. Михаил Павлович явно не ожидал от
такой комбинации подвоха, ведь ранее, будучи в Петербурге, граф, не боясь
скомпрометировать себя в высшем обществе, ездил к нему на дачу, дабы по-
здравить с днём рождения15.
Однако в январе 1845 г. гр. Воронцов внезапно придал небольшому раз-
ногласию о редакции рескрипта, очерчивавшего его права в крае, политиче-
ское значение и характер нанесённого ему будто бы личного оскорбления,
исключавшего в дальнейшем возможность их совместной службы с Позеном.
Кн. Чернышёв, похоже, не без удовольствия отступился от бывшего сотрудни-
ка. Император, узнав о случившемся, отказался принять своего статс-секретаря.
Напрасно графы Орлов и Адлерберг, к которым сразу же обратился Позен,
советовали ему «перенесть с твёрдостью минутное неудовольствие государя».
Послушавшись гр. А.А. Закревского, Михаил Павлович решил подать в отстав-
ку, даже не объясняя «никаких побудительных причин». Неудивительно, что
Николай I, не допускавший подобных демаршей (что испытал на себе в 1831 г.
и гр. Закревский), «остался недоволен таким холодным прошением и напи-
сал резолюцию твёрдым карандашом: уволить»16. По мнению Корфа, царь мог
усмотреть в данном поступке статс-секретаря либо «оппозицию», либо «небла-
годарность», которая «в понятиях и чувствах императора Николая была самым
чёрным из всех пороков»17.
Разумеется, неожиданная опала высокопоставленного чиновника вызва-
ла в обществе «бесконечные толки». Но, как отмечал общавшийся с Позе-
ном А.В. Никитенко, «дело между тем очень просто объясняется пословицею:
“два медведя в одной берлоге не могут жить”. Позен настолько умён и со-
знателен, что не мог занимать важное место без влияния, а граф Воронцов
не мог допустить, чтобы между ним и государем состоял посредником умный
человек»18.
Пожив немного в столице, Позен решил заняться своими поместьями
в Полтавской (более 4 тыс. крепостных) и Московской (свыше 1,5 тыс. кре-
стьян) губерниях. Там он вновь проявил предпринимательские способности,
создавал хлебные магазины, устроил на свои средства «крестьянский банк»,
развивал кустарные промыслы, стал крупнейшим сахарозаводчиком Полтав-
щины19. Корф, видимо, уже в 1850-е гг. (когда им делались для императора
выписки из дневника) отметил, что Михаил Павлович «совсем переселился
в полтавское своё имение, которое вскоре довёл до самого цветущего состоя-
ния, приобретя с тем вместе общее в крае уважение»20. Всё это укрепляло ре-
путацию «полтавского помещика Позена» в Петербурге, куда он, несомненно,
собирался вернуться.
14
Там же. С. 104.
15
Записки сенатора К.И. Фишера // Исторический вестник. Т. 111. № 2. С. 449; Т. 112. № 5.
С. 435.
16
Из воспоминаний А.А. Харитонова. С. 105-107. См. также: Воспоминания М.П. Щербини-
на // Русский архив. 1876. № 11. С. 301-302.
17
Корф М.А. Записки. С. 343-347.
18
Никитенко А.В. Дневник. В 3 т. Т. 1. Л., 1955. С. 287.
19
Литвинова Т.Ф. «Помещичья правда»… С. 483-485, 491, 533-536.
20
Корф М.А. Записки. С. 346.
85
Крымская война, казалось, устраняла на его пути все препятствия.
В 1854 г. кн. Воронцов покинул Кавказ, поражения в Крыму дискредитирова-
ли кн. Меншикова, вынудив его отойти от активной государственной деятель-
ности. 18 февраля скончался Николай I. Наиболее влиятельными советниками
нового монарха стали давние покровители Позена - графы Орлов и Адлерберг
(к тому времени уже министр императорского двора). Заметно укрепились так-
же позиции Я.И. Ростовцева, с которым Михаил Павлович был дружен даже
после отставки. В Москве в начале апреля о бывшем статс-секретаре вновь
заговорили как о будущем министре финансов21.
7 мая 1855 г., явно желая напомнить о себе и блеснуть, как прежде, пером,
Позен составляет программную записку «О предметах государственного управ-
ления, требующих ближайшего внимания самодержавной власти». Любопытно,
что в ней отнюдь не драматизировались обстоятельства военного времени. По-
хоже, сильного впечатления на автора они не произвели и представлялись ему
чем-то преходящим. Он словно бы смотрел поверх текущих событий. «Тайна
внутренней политики, - писал Михаил Павлович, - заключается в том, чтобы
действиями правительства возбудить и утвердить в народе: любовь к государю;
доверие к властям, от него постановленным; уважение к закону»22.
Примером успешного решения этих задач Позен считал действия Екатери-
ны II. Прославляя её «ангельскую доброту, справедливость, доступность, уме-
нье выбирать и ценить людей и самое тёплое сочувствие к нуждам народным»,
автор напоминает, что и в то время случались «ошибки» и «бедствия», велись
«изнурительные войны» и вводились «тяжкие налоги», однако и через 50 лет
«память о ней живёт с любовью и благодарностью в сердцах всех русских и все
считают её царствование золотым веком России». Разумеется, столь идилли-
ческая картина имела весьма опосредованное отношение к реалиям прошлого
(как и к чувствам подавляющего большинства населения). Но с её помощью
изначально менялся символический исторический образец. Для николаевского
царствования таковым всегда оставался Пётр I - сурово казнящий «буйного
стрельца» или недостойного сына «вечный работник» со «всеобъемлющей ду-
шой», лично направляющий «бег державный» и прикованный чувством долга
к «рулю родного корабля». И, напротив, было известно, что «покойный госу-
дарь Николай Павлович враждебно относился к памяти своей бабки» и даже
«не любил, чтобы при разрешении государственных вопросов делались ссылки
на указы или распоряжения Екатерины»23. Скорее всего, Позен сознательно
смещал акценты, и набор качеств, приписанных «эталонной» императрице,
также не был случайным. Но не исключено, что при обращении к Екатерине
учитывались и другие аллюзии. Ведь пушкинское поколение, к которому при-
надлежал и Позен, не забывало, что «попали в честь тогда Орловы»… Мостик
между эпохами перебрасывался естественно и непринуждённо.
«Доверие к власти» в записке предлагалось обеспечить «хорошим выбором
лиц», не только имеющих «ум и сердце», но и помнящих, что «они поставлены
государем для народа, а не народ для них», чуждых «самовластия, произвола,
пристрастия» и т.п. Уважение к законам достигалось «величайшею осмотри-
тельностью» при их издании, «равною обязательною силою для всего народа»,
21
Аксаков И.С. Письма к родным. 1849-1856 / Публ. Т.Ф. Пирожковой. М., 1994. С. 335.
22
ГА РФ, ф. 728, оп. 1, д. 2509, л. 1.
23
Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского / Под ред. В.Г. Чернухи. СПб., 2005.
С. 339.
86
способностью обеспечить «каждому подданному личную безопасность и не-
прикосновенность собственности». Требовалось также, чтобы они «истекали не
из отвлечённых теорий, а основывались на современном состоянии нравов»24.
Однако, указывал Позен, «прежде всего необходимо, чтобы во всех ос-
новных распоряжениях правительства были система и единство, дабы народ
постигал дух управления» и не опасался произвола, который «чрезвычайно уси-
лился» после «упразднения коллегий и введения министерского порядка управ-
ления». Именно тогда «законы, часто издаваемые и пополняемые, потеряли
силу», а «всякое сопротивление» стало отождествляться с «государственною
изменою». Со своей стороны, Михаил Петрович утверждал: «Одни безумцы
могут полагать, чтобы в нынешней России был возможен какой-нибудь другой
порядок управления, кроме самодержавного. Все мы глубоко убеждены, что
пространная, разноплеменная и разнородная Россия должна управляться силь-
ною рукою самодержавия; но, благоговея перед самодержавием в священной
особе монарха, каждый желает однако, чтобы власти, посредствующие между
государем и народом, действовали не иначе, как в законе и под строгим кон-
тролем». Между тем «на практике» не только министры и генерал-губернаторы,
но и низшие чиновники, по наблюдениям автора, ничем себя не ограничивали.
В результате, «каждый теснит того, кто ему по силам», а «вся тягость самовла-
стия обрушивается на людей бедных и беззащитных, именно на бóльшую мас-
су народа». И это лишь облегчалось возможностью испрашивать высочайшие
повеления «по предметам самым мелочным, недостойным внимания монарха»,
но «самым стеснительным для народа»25.
Позен был уверен в необходимости «для поддержания власти самодер-
жавной во всём могущественном её достоинстве» оставить в ведении монарха
«одни важные предметы управления» и не выставлять его «грозою для наро-
да», сделав исключительно «эмблемою правоты, кротости и милосердия», так,
чтобы «во всех делах карал и преследовал закон, а миловал государь». Но на
это, естественно, не приходилось рассчитывать при «настоящем, разобщён-
ном порядке министерского управления». Решительно отвергалось в записке
и «крайне ошибочное» мнение, будто «для водворения единства в действиях»
нужно наделить соответствующими функциями главу правительства. Позен на-
стаивал на том, что «должность первого министра нисколько не свойственна
самодержавному порядку управления и, конечно, может произвесть более зла,
чем добра». По его словам, «истину эту во всей силе постигал» Николай I, ко-
торый «во всё своё царствование не только не соединил всей исполнительной
власти в одном лице; но, сколько известно, всячески устранял вмешательство
и влияние одного министра на часть другого». Вместо этого для «сосредото-
ченного надзора» была учреждена Собственная е.и.в. канцелярия, хотя в силу
обстоятельств второй половины 1820-х гг. она и не получила «прочного, систе-
матического устройства»26.
Именно этому институту Позен предлагал дать самое широкое развитие,
превратив его, по сути, в ключевой элемент государственного управления. Им-
ператору рекомендовалось образовать «под своим ближайшим направлением»
24
ГА РФ, ф. 728, оп. 1, д. 2509, л. 1-2.
25
Там же, л. 2-3.
26
Там же, л. 3-4. Как писал Позен, «она устроилась первоначально и потом распространя-
лась случайно, по мере представлявшейся настоятельности в скорейшем приведении в порядок той
или другой части» (Там же, л. 5).
87
две канцелярии - военную и гражданскую, сосредоточив в них «важнейшие
предметы». Так, в ведении Гражданской канцелярии находился бы «личный
состав управления, или часть инспекторская» (включая наблюдение за слу-
жащими «с той минуты, когда чиновник, выйдя из разряда канцелярского,
становится действующим лицом в механизме управления»). Ей же поруча-
лось обеспечить «общее направление действий высших управлений» и надзор
за центральными и губернскими учреждениями, а также принимать «жалобы
и прошения по делам административным и тяжебным»27.
Это позволило бы, как считал Позен, устранить недостатки существу-
ющей системы, при которой «каждое министерство и управление действует
по особому им принятому плану, а часто и без всякого плана», что вызывает
конфликты не только между ведомствами, но и внутри них28. К тому же «осо-
бого надзора за действиями лиц и мест высшего управления не установле-
но», отчёты их «не подвергаются взаимному сличению и поверке», а «самые
проекты новых постановлений нередко составляются людьми весьма мало
опытными, которые вводят в наше законодательство постановления, по духу
и форме явно противные основным началам государства самодержавного».
Ссылаясь на опыт VI отделения, Позен указывал: «В отвращение сего необхо-
димо принять правилом, чтобы всё то, что должно быть издано в виде закона,
соображалось предварительно под непосредственным высочайшим надзором
в общих государственных видах и после поступало на дальнейшее рассмотре-
ние куда следует»29.
Гражданская канцелярия могла бы также «приблизить губернские управле-
ния к самодержавной власти и подчинить их непосредственному высочайшему
надзору, по крайней мере по общему ходу управления». Тем самым измени-
лась бы ситуация, когда «самое звание губернатора, прежде столь почётное,
потеряло значение», и «губернатор из лица самостоятельного и ответственного
сделался простым чиновником министерства». Вместе с тем следовало «упразд-
нить вовсе звания генерал-губернаторов во внутренних губерниях, а оставить
только в одних пограничных»30.
Критикуя Комиссию прошений, которая после преобразования в 1830-е гг.
«образовала какую-то особую инстанцию», чьи решения «не считаются уже
исходящими прямо от государя», Михаил Павлович писал: «Полезно, чтобы
рассмотрение просьб было сосредоточено в собственной Канцелярии его импе-
раторского величества, с одной стороны, для того, чтобы открыть подданным
в крайних их нуждах ближайший путь к престолу, а с другой, и потому, что
внимательным рассмотрением просьб и систематическим соображением пред-
метов, по которым просьбы поступают, власть самодержавная ближе всего мо-
жет узнать нужды народа, видеть, как идёт управление и как отправляется суд».
Правда, он не уточнял, как при неизбежном наплыве просителей и запутанно-
сти их дел канцелярия сможет избежать повторения судьбы той же Комиссии
прошений, при том, что «порядок приёма просьб на высочайшее имя останется
27
Там же, л. 6-11.
28
«Сенат, Комитет министров и Государственный совет, - отмечалось в записке, - не могут
отвратить этого вредного противуречия, потому что и они рассматривают новые законодательные
и административные меры не в общей связи и не в систематическом порядке, а по мере того, как
доходят до них разные случаи» (Там же, л. 7).
29
Там же, л. 7-8.
30
Там же, л. 8.
88
ныне существующий», а их рассмотрение будет производиться «каждый раз по
высочайшим назначениям»31.
Естественно, новые задачи требовали реорганизации сложившихся струк-
тур. Гражданскую канцелярию предполагалось образовать из четырёх отделений.
К первому из них переходили функции I отделения Собственной е.и.в. канце-
лярии и Инспекторского департамента (исключая «взыскание податей и дела
арестантские»), но они существенно расширялись и включали бы теперь не
только «содержание верных сведений о высших чинах гражданского ведомства
от 1 до 5 класса включительно», но и «назначение к должностям по министер-
скому управлению от начальников отделений и выше, а по губернскому от про-
куроров и выше», «производство в чины за выслугу лет и за отличие», «пред-
варительное соображение предположений министерств и главных управлений
по изданию новых и изменению существующих штатов», «награды орденами,
деньгами и проч.»32.
Дела II отделения Собственной е.и.в. канцелярии подлежали передаче в Де-
партамент законов Государственного совета, а на второе отделение Граждан-
ской канцелярии возлагалась ответственность за «общее направление действий
высших установлений по указаниям самодержавной власти». В частности, ему
поручалась «поверка ежегодных отчётов министерств и главных управлений
о действиях их, сличение отчётов каждого министерства с другими и с соб-
ственными его отчётами за прежние годы», «наблюдение за успехом выпол-
нения представляемых министрами ежегодных планов или отчётов о видах»,
«дела по ревизии высших установлений»33.
Причиной создания III отделения Собственной е.и.в. канцелярии в своё
время стало, по мнению Позена, «преступное движение нескольких буйных
голов». «Нет сомнения, - писал он, - что в общей системе государственного
управления нужна и хорошо устроенная тайная полиция; но нет ни надобности,
ни пользы, чтобы дела эти были так близки священной особе монарха и чтобы
народ думал, что они направляются самим государем. Всего удобнее передать
эти дела просто в управление шефа жандармов, а III отделение канцелярии на-
значить для дел по губернскому управлению». К их числу относилось бы «рас-
смотрение и поверка губернаторских отчётов», а также проведение ревизий. Во
главе данного подразделения Позен видел «одного из лучших губернаторов»34.
На четвёртое отделение возлагалось ведение переписки «по жалобам и про-
шениям», тогда как «для дел воспитательных и благотворительных» создавалась
бы некая «особенная канцелярия его величества». V отделение Собственной
е.и.в. канцелярии упразднялось, поскольку «давно кончило своё дело и неиз-
вестно, для чего оно существует»35.
Возглавлять Гражданскую канцелярию должен был статс-секретарь, а её
отделения - статс-секретари или их помощники («не ниже 4 класса»); так-
же при ней состояли бы «несколько статс-секретарей для исполнения осо-
бых поручений». При этом оговаривалось, что «управляющий Канцеляриею
не имеет лично никакой власти. Он есть ближайший секретарь государя им-
ператора и не делает ничего без предварительного высочайшего соизволения».
31
Там же, л. 8-10, 15.
32
Там же, л. 13.
33
Там же, л. 14.
34
Там же, л. 5, 14-15.
35
Там же, л. 15.
89
Дополнительных расходов на намеченную реформу, по расчётам Позена, не
предусматривалось36.
Одновременно им задумывалась трансформация Военно-походной канце-
лярии в независимую от министерства Канцелярию по военной части «из двух
отделений: 1) по делам военно-сухопутного управления; и 2) по делам мор-
ского ведомства». В ней «сосредоточивались бы секретные сведения о высших
лицах», а также «протесты высших начальников войск против распоряжений
самого министра». Там же «хранились бы и поверялись его отчёты о действи-
ях министерства и планы управления». Во главе её находился бы генерал--
адъютант, не имевший лично «никакой власти», а все генерал-адъютанты,
генералы Свиты его величества и флигель-адъютанты «считались при этой
канцелярии»37.
В целом, это был стройный, но более чем фантастический план (особенно
для военного времени), предусматривавший, по сути, создание параллельной
администрации, контролирующей ведомства и даже руководящей ими. Попыт-
ка его реализации неизбежно парализовала и дезорганизовала бы министер-
скую систему. Впрочем, достаточного числа людей, необходимых для такого
эксперимента, скорее всего, просто бы не нашлось. Однако размышления ав-
тора записки указывали на проблему, стоявшую тогда перед его высокопо-
ставленными читателями: кто и как будет контролировать и направлять бю-
рократический аппарат после того, как Николая I с его авторитетом и волей
не стало? Характерно, что записка готовилась, по-видимому, изначально для
графов Орлова и Адлерберга, пользовавшихся огромным влиянием, но стояв-
ших несколько в стороне от наиболее крупных министерств и смутно представ-
лявших себе их работу.
Так или иначе, Позену удалось обратить на себя внимание. Неизвестно,
когда и как его сочинение попало к царю, но оно сохранилось среди бумаг,
им точно прочитанных. Более того, вечером 9 января 1856 г., в напряжённой
обстановке ожидания начала переговоров о мире или возобновления боевых
действий, Александр II принял Позена, с которым толковал «о внутр[еннем]
сост[оянии России], опас[ности] от славян - и направ[лении] граж[данского]
воспит[ания] в универ[ситетах] - об освоб[ождении] крест[ьян] и финан[со-
вых] мер[ах]»38. Похоже, разговор ободрил Михаила Павловича, и уже 16 янва-
ря император «чит[ал] интер[есную] зап[иску] Позена»39. Трудно сказать, было
ли это рассуждение «О предметах государственного управления» или иной, не-
сохранившийся текст, но с середины января до конца февраля Позен подал
монарху ещё одну рукопись (на этот раз без названия). В ней содержались
краткие советы об объявлении мира особым манифестом, о расформировании
ополчения и шести казачьих полков, о роспуске по домам всех отставных и бес-
срочноотпускных солдат, об упразднении всех штабов командующих армиями,
за исключением Кавказа и Царства Польского, о продлении телеграфных ли-
ний, «назначении новой народной переписи» и т.д. Но основное внимание
уделялось плану строительства железной дороги между Одессой и Москвой при
помощи как «наших банков» и частных компаний, так и расквартированных
36
Там же, л. 12-13, 16.
37
Там же, л. 11-12.
38
ГА РФ, ф. 678, оп. 1, д. 310, с. 3. Столь развёрнутая характеристика разговора делалась им
лишь в исключительных случаях.
39
Там же, с. 6.
90
на юге войск (их силы, в частности, предлагалось использовать на участке от
Одессы до Кременчуга)40.
Масштаб задуманного впечатлял, но Позен на этом отнюдь не останавли-
вался. 10 марта, пользуясь предоставленным ему правом посылать свои сообра-
жения непосредственно императору, он завёл в письме речь о «необходимости,
прежде приступа к мерам улучшения по всем частям государственного устрой-
ства, определить систему всех предполагаемых улучшений», а 7 апреля напра-
вил Александру II пространную «записку о способах определения и о сущности
этой системы». Решая столь претенциозную задачу, Михаил Павлович заяв-
лял, что не имеет никаких амбиций и честолюбивых помыслов. «Расчёты мои
с миром давно кончены, - уверял он царя в сопроводительном письме, - долг
к отечеству честно выполнен почти тридцатилетнею трудовою службою, семей-
ство устроено, дела в порядке». Однако именно это парадоксальным образом
превращало его прожектёрство в своего рода миссию: «Может быть, Богу угод-
но было продлить мою жизнь только для того, чтобы исполнить святой долг
к государю, принявшему бремя правления в столь тяжких обстоятельствах»41.
Позен исходил из того, что «положение государства не может быть упроче-
но частными, случайными мерами улучшения. Необходимо определить твёрдую
систему для всего государственного устройства и затем для осуществления этой
системы предпринимать постепенные меры улучшения, не ломая ничего и не
допуская никаких крутых переворотов». Впрочем, как полагал автор записки,
и ломать было нечего, поскольку «в настоящее время у нас нет системы». Она
была у Петра I (хотя и «не без погрешностей») и у Екатерины II. Александр I,
«увлечённый духом времени», попытался осуществить «такие преобразования,
для которых Россия далеко не созрела тогда, да не готова и теперь». Ему это
не удалось, но учреждение министерств и Государственного совета, не соответ-
ствовавшее «ни духу основных законов наших, ни формам среднего и низшего
управления, оставленным без изменения», вызвало «совокупно с другими при-
чинами… то расстройство, в котором нашёл государство» Николай I. Убедив-
шись «в необходимости определить общую систему государственного устрой-
ства», он не сумел этого достичь. Напротив, «правительство начало издавать
закон за законом… без связи в целом, без гармонии в частях, иногда и без прак-
тического взгляда на возможность исполнения». Административная система
разрасталась и усложнялась: «Каждому захотелось действовать, иметь влияние.
Отсюда излишняя централизация, вредное многоделие и всемертвящие фор-
мализм и механизм». В ведомствах, действующих совершенно бесконтрольно,
часто «с переменою главного лица изменяется и система», в высших комитетах
важнейшие дела оставлены «на произвол безответственных канцелярий»42.
Для «определения и начертания системы» Позен на этот раз предлагал
учредить под председательством царя комитет из всех министров, главноуправ-
ляющих и некоторых других «сановников» для рассмотрения «общего обзора
состояния вверенной каждому части», «обзора недостатков, существующих по
вверенной каждому части», «системы, которой каждый предполагает следовать
по своему управлению, и цели, к которой он полагает вести», а также «про-
граммы предполагаемых им в этой системе улучшений, изменений и преоб-
40
ГА РФ, ф. 728, оп. 1, д. 2509, л. 55-64.
41
Там же, л. 66-67.
42
Там же, л. 17-24.
91
разований, с указанием и порядка, в каком меры эти будут следовать одна за
другою». В результате их обсуждения на 10-12 заседаниях в течение полугода
надо было «начертить из них одну общую систему и общую программу всех
необходимых улучшений». В дальнейшем самодержцу оставалось бы только
наблюдать за её исполнением по отчётам43.
При этом полностью исключалось «изменение в чём-нибудь основной идеи
государственного устройства», которая «должна остаться неприкосновенною;
но её надобно уяснить, провести через все фазы правительственной деятельно-
сти и положить в основание всех правительственных мер: по законодательству,
внешней политике и внутреннему управлению». «Основная идея государствен-
ного устройства нашего, - писал Позен, - есть: по вере - православие и ве-
ротерпимость, по форме правления - самодержавие, по правам состояний -
разделение народа на сословия, порождённые историческим развитием нашим.
Простые эти начала выражались в последнее время словами: православие, са-
модержавие и народность». Однако эти понятия нуждались в уточнении, по-
скольку нередко использовались превратно. Так, «во имя православия допуска-
лись гонения, притеснения и насильственные обращения», а «в видах мнимого
охранения самодержавия» - «произвол и самовластие лиц исполнительных»,
«наконец, под предлогом народности развились у нас идеи самые утопические,
с примесью коммунизма и социализма»44.
По мнению Позена, православие «как господствующая вера» нуждалось
в защите «от всякого отступничества и вторжения ересей». Но и «другие веро-
исповедания пользуются свободою и покровительством закона», даже «секты,
прежде возникшие и не противные гражданскому устройству нашему, терпи-
мы», а «обращение в православие иноверцев и сектаторов… должно быть чисто
духовное, не насильственное и не вынуждаемое приманками земных благ»45.
Рассуждая о самодержавии, Позен утверждал, что «оно осуществляет-
ся только в священной особе монарха», в руках которого «сосредотачивается
власть законодательная и исполнительная без всякого ограничения». Но она
«принадлежит ему как помазаннику Божьему» и «никогда не передаётся под-
данному, какого бы он ни был высокого звания и достоинства», а «все орудия,
самодержавием употребляемые, действуют в назначенных пределах, не отсту-
пают от закона, дают отчёт в своих действиях и подлежат за них ответственно-
сти». Поэтому «к разрешению самодержавной власти» Позен относил «только
главные и высшие вопросы»46.
В число «главных начал», между «самодержавием» и «народностью», Позен
включал «человечество». «Прежде чем думать о народности, - полагал он, -
надобно, кажется, позаботиться о человечестве. Во всех правительственных
мерах прежде всего должно быть уважено достоинство человека. К его благу,
частному и общему, должны быть устремлены все действия правительства».
Вместе с тем именно «установляемая система должна показать ясно, в чём
именно заключается наша народность». Михаил Павлович настаивал на том,
что «тут не должно быть места никаким отвлечённостям» и «не следует также
слишком увлекаться отдалёнными историческими преданиями». Со своей сто-
роны, он считал, что «народность наша заключается в вере, форме правления,
43
Там же, л. 25-27.
44
Там же, л. 27-28.
45
Там же, л. 28-29.
46
Там же, л. 29.
92
языке, нравах, а частью даже и в обычаях» и «эти главные и отличительные
свойства нашей народности должны быть охраняемы и правительственными
постановлениями»47.
Опираясь на эти «главные начала» («веру, самодержавие, человечество
и народность»), правительству предстояло обеспечить как «внутреннее благосо-
стояние» империи, так и её «внешнюю безопасность». О дипломатии и органи-
зации войск Позен писал бегло и глухо, указав только на необходимость «опре-
делить соразмерность между военными силами морскими и сухопутными»,
выяснить, насколько целесообразно «содержать значительный военный флот
и важные приморские укрепления», и предложив продумать, учитывая «опыт
последней войны», численность, состав, способы комплектования и обеспече-
ния армии и т.п.48
Программа «внутреннего благоустройства» развивалась гораздо подробнее.
Прежде всего отмечалось, что «законы наши, определяющие права состояний,
требуют пересмотра и усовершенствования». Причём особое внимание сле-
довало уделить нуждам «низшего сословия - поселян», половина которого,
«помещичьи крестьяне», «почти не имеет никаких гражданских прав». Позен
констатировал, что «прежняя идея патриархальности устарела и уступила место
убеждению в крайней нравственной несправедливости этого порядка вещей»,
изменения которого желают «не одни крестьяне, но и многие помещики». При
этом «крепостное право лежит тяжким бременем на всём государственном
устройстве нашем»: «навлекает на нас справедливые упрёки всех образованных
народов», позволяет «волновать крестьян и возбуждать беспорядки», «мешает
успехам ума и талантов», вредит «вере и нравственности». Поэтому призна-
валось желательным, «чтобы… в системе правительства было предположено
уничтожение крепостного права и предписано изыскать удобные основания
для исполнения сего, вдруг или хотя постепенно, во всяком однако же случае
мерами лёгкими, без общего потрясения и без разорения для дворянства»49.
Беспокойство вызывало также отсутствие «общей системы народного про-
свещения» при наличии собственных училищ у всех министерств. Для коорди-
нации их действий Позен предлагал «образовать особую комиссию из главных
лиц, заведывающих учебною частью по ведомствам духовному, гражданскому
и военному, и нескольких посторонних особ». Основная задача образования
сводилась им к тому, чтобы получивший его «сделался хорошим граждани-
ном в смысле русского гражданского устройства». В записке также намечалось
«усовершенствование» судебных учреждений (которые «должны иметь основа-
нием русскую жизнь и русские нравы») и «облегчение самого судопроизвод-
ства», говорилось о назревшем «соединении тайной и явной полиции в одно
отдельное высшее управление»50.
Характеризуя положение различных отраслей экономики и обстоятельства,
мешающие их росту (крепостное право, косвенные налоги, «отсутствие част-
ного кредита, вследствие неудовлетворительного состояния частей судебной
и полицейской»), Позен доказывал, что, несмотря на возможность и необхо-
47
Там же, л. 29-30.
48
Там же, л. 30-32. Особо упоминались при этом только военные поселения, которые «если
теперь ещё не вредны, то, конечно, бесполезны», и кантонисты, представляющие «бремя для госу-
дарства» и «рассадник пролетариев» (Там же, л. 32).
49
Там же, л. 32-36.
50
Там же, л. 37-43.
93
димость технических заимствований, «промышленность наша должна быть чи-
сто русская и основываться на том, чтобы развить внутреннее благосостояние
и поставить себя и в этом отношении в наименьшей зависимости от других
государств». Более того, «и финансы наши должны быть устроены на началах
чисто русских. Подати и налоги должны быть строго применены к общему
устройству сословий, несущих эти повинности, и к выгодам промышленно-
сти, а система денежная и кредитная должна иметь в основании обширность
государства, промышленные его способы, нравы жителей и форму правления».
Михаил Павлович напоминал про «новейшие события», показавшие, что имен-
но на «развитие промышленности и богатства народного» опираются «и наша
сила, и влияние». Но поскольку «непосредственное вмешательство правитель-
ства в дела промышленности не может принесть никакой пользы», ему следу-
ет только «устранять всё то, что препятствует её успехам». Прежде всего это
касалось изменения законов «о горнозаводском производстве», регулирования
налогообложения, денежного обращения и банковской деятельности, ожидав-
шей «совершенного преобразования» и централизации «под одно управление»,
а также устранения бюджетного дефицита и скорейшего строительства желез-
ных дорог51.
В правящих кругах записка «О системе улучшений по основным пред-
метам государственного управления» была воспринята крайне сдержанно.
Кн. В.А. Долгоруков 27 июня 1856 г. (в первый же день после своего назначе-
ния шефом жандармов) сделал запись: «Из прилагаемой записки, представлен-
ной т[айным] с[оветником] Позеном, извлечение относительно железных дорог
сообщено по высочайшему повелению ген[ерал]-адъ[ютанту] Чевкину. Прочее
содержание оной принято к сведению»52. Подобная реакция была вполне есте-
ственна. Графы Орлов и Адлерберг, на которых собственно и мог рассчитывать
Позен, добившись прочного положения при новом императоре, желали прежде
всего отдыха от колоссального напряжения, в котором они находились при
Николае I. Позеновские же инициативы сулили им исключительно ненужные
хлопоты.
Однако Александр II настойчиво проявлял интерес к подобным программ-
ным документам. 18 декабря он вновь принял Михаила Павловича и уже на
следующий день перед сном «чит[ал] зап[иску] Позена»53. На этот раз она была
посвящена освобождению крестьян и развивала идеи, высказанные в апреле54.
3 января 1857 г. император созвал Секретный комитет по крестьянскому делу,
на первом же заседании которого читалась записка Позена55. Но опытные са-
новники и тут не растерялись: ловкое противопоставление предложений Позена
и товарища министра внутренних дел А.И. Лёвшина должно было закончиться
взаимной аннигиляцией обоих проектов. Возможно, и Михаил Павлович пред-
51
Там же, л. 38-41, 43-47.
52
Там же, л. 65.
53
Там же, ф. 678, оп. 1, д. 310, с. 113.
54
Первая записка о мерах освобождения крепостных крестьян // Бумаги по крестьянскому
делу М.П. Позена. Dresde, 1864. С. 2-30. Вместе с тем Позен интересовался тогда не только кре-
стьянским делом. В конце 1850-х гг. он также изложил царю свои соображения о продвижении
России в Азию - «от пределов Турции до Тихого океана» (ГА РФ, ф. 728, оп. 1, д. 2509, л. 48-54).
55
Подробнее см.: Захарова Л.Г. Указ. соч. С. 54-91; Мироненко С.В. Страницы тайной исто-
рии самодержавия. Политическая история России первой половины XIX столетия. М., 1990.
С. 196-218.
94
видел подобную перспективу и счёл нужным предать огласке свои замыслы.
Во всяком случае, ещё в конце декабря 1856 г. он познакомил А.В. Никитенко
с фрагментами своего проекта отмены крепостного права, а в начале января,
перед отъездом из столицы, дал ему прочесть апрельскую записку56.
Осенью 1857 г. дворянство Северо-Западного края, видя, что император
намерен провести реформу, а министры не знают, стоит ли за неё браться
и как именно, решило проявить инициативу, надеясь освободить крестьян на
своих условиях. Последовал рескрипт В.И. Назимову, затем по всей России
стали открываться губернские комитеты. В это время Позен всё чаще действу-
ет через Ростовцева, пишет для него программу работы губернских комите-
тов, одобренную в апреле 1858 г. Главным комитетом по крестьянскому делу57.
Однако в конце 1850-х гг. их пути разошлись. К осени 1858 г. Ростовцев всё
больше убеждался в необходимости правительственного контроля над ходом
реформы, и это постепенно сближало его с Милютиным. Позен же не порывал
с «партией Орлова», всё ещё преобладавшей в правящих сферах и не желавшей
«ссориться с дворянством». В 1859 г., став членом Редакционных комиссий,
Позен проиграл борьбу за влияние на Ростовцева. Михаил Павлович пытал-
ся интриговать, солидаризировался с оппозиционными депутатами губернских
комитетов. Ростовцев расценил данный шаг как измену, и это окончательно
погубило репутацию Позена у Александра II58. А к тому времени Герцен давно
уже демонизировал тайного советника в глазах своих читателей.
В 1855-1856 гг. М.П. Позену не удалось стать идеологом и вдохновителем
правительственной политики, хотя его роль в событиях «оттепели» оказалась
довольно видной. Его записки тех лет отчётливо показывают, что основной во-
прос, решавшийся тогда, состоял отнюдь не в поиске виновных в поражениях
войск, не в количестве штуцеров и пудов пороха, не в протяжённости желез-
ных дорог и скорости телеграфных сообщений и т.п., а в том, кто и как будет
управлять империей при новом монархе, насколько уцелеет в ходе неизбежной
трансформации прежняя система и что придёт ей на смену.
56
Никитенко А.В. Указ. соч. С. 451-454.
57
Захарова Л.Г. Указ. соч. С. 96-103.
58
Бумаги… С. 49-99, 129-316; Памятная записка И.И. Ростовцова о размолвке с М.П. Позеном //
Еленев Ф.П. Первые шаги освобождения помещичьих крестьян в России. СПб., 1886. С. 109-113.
95