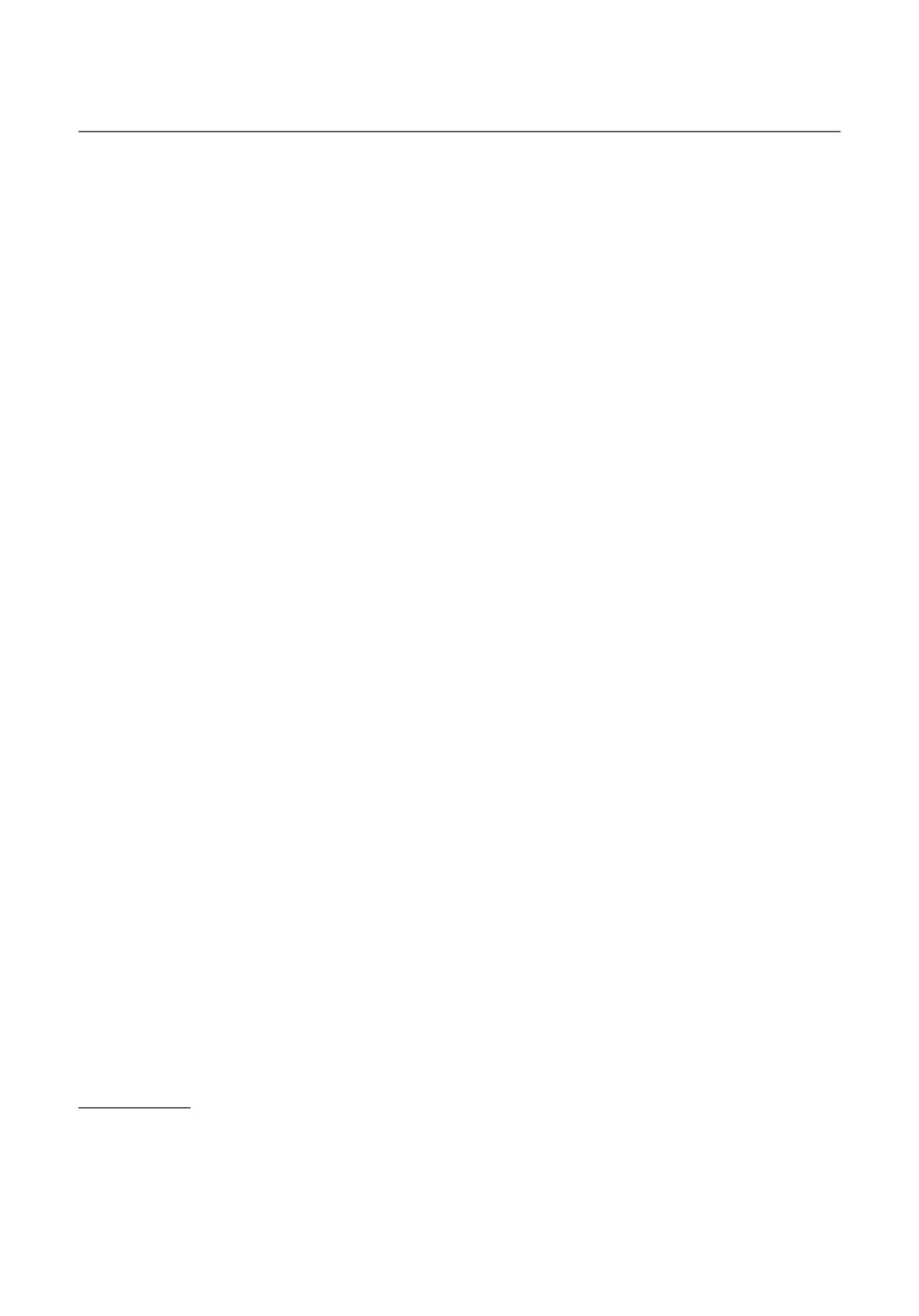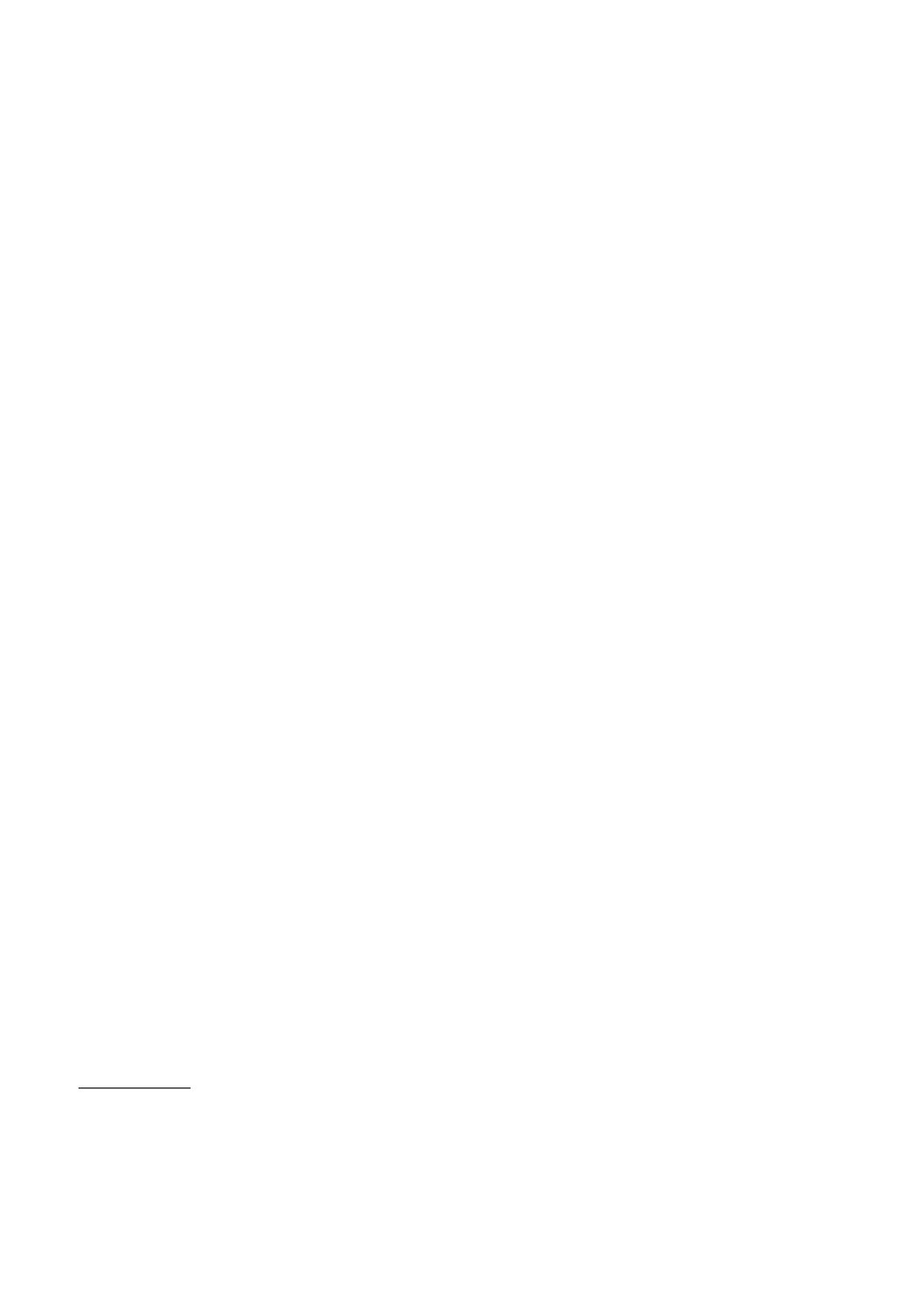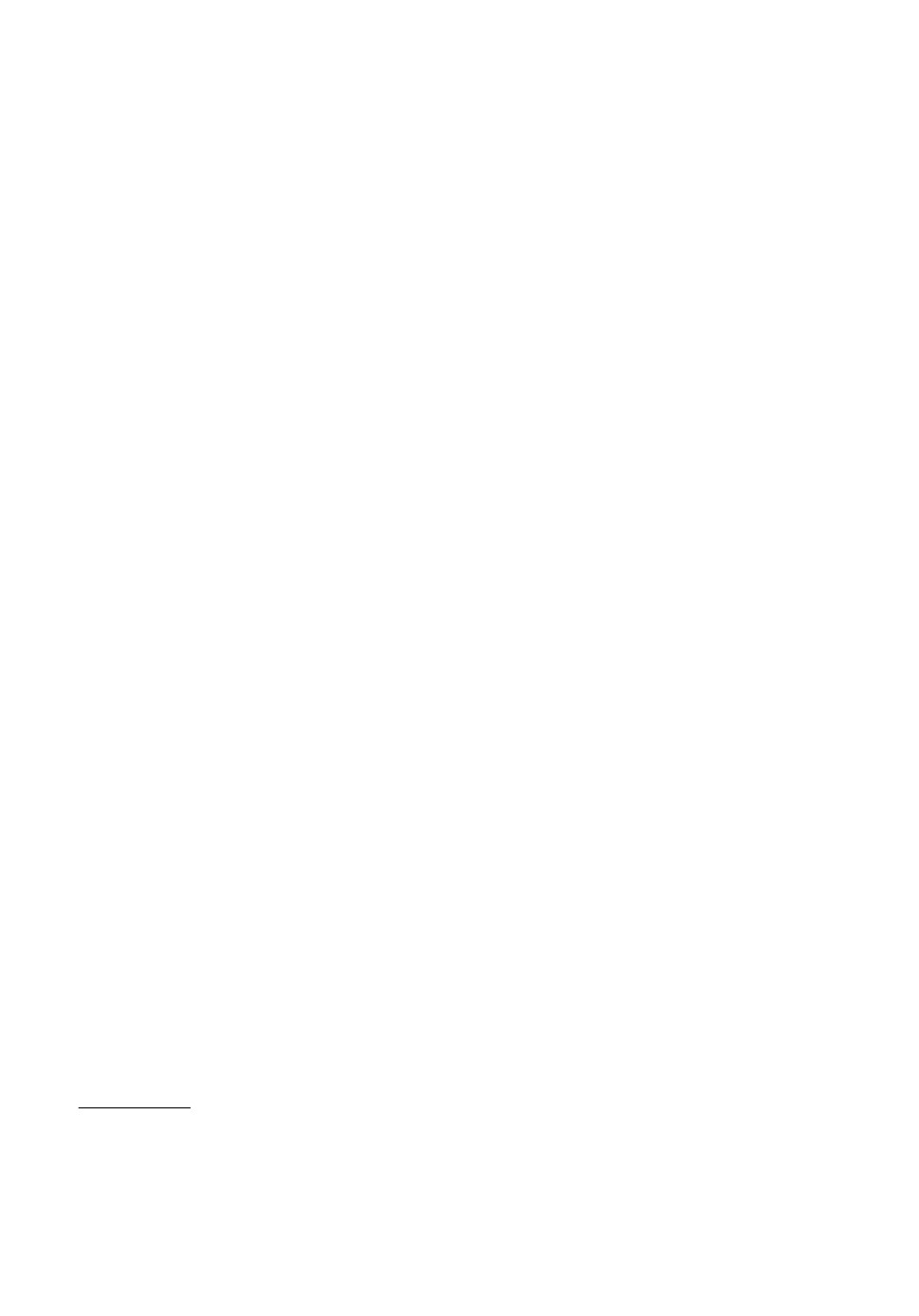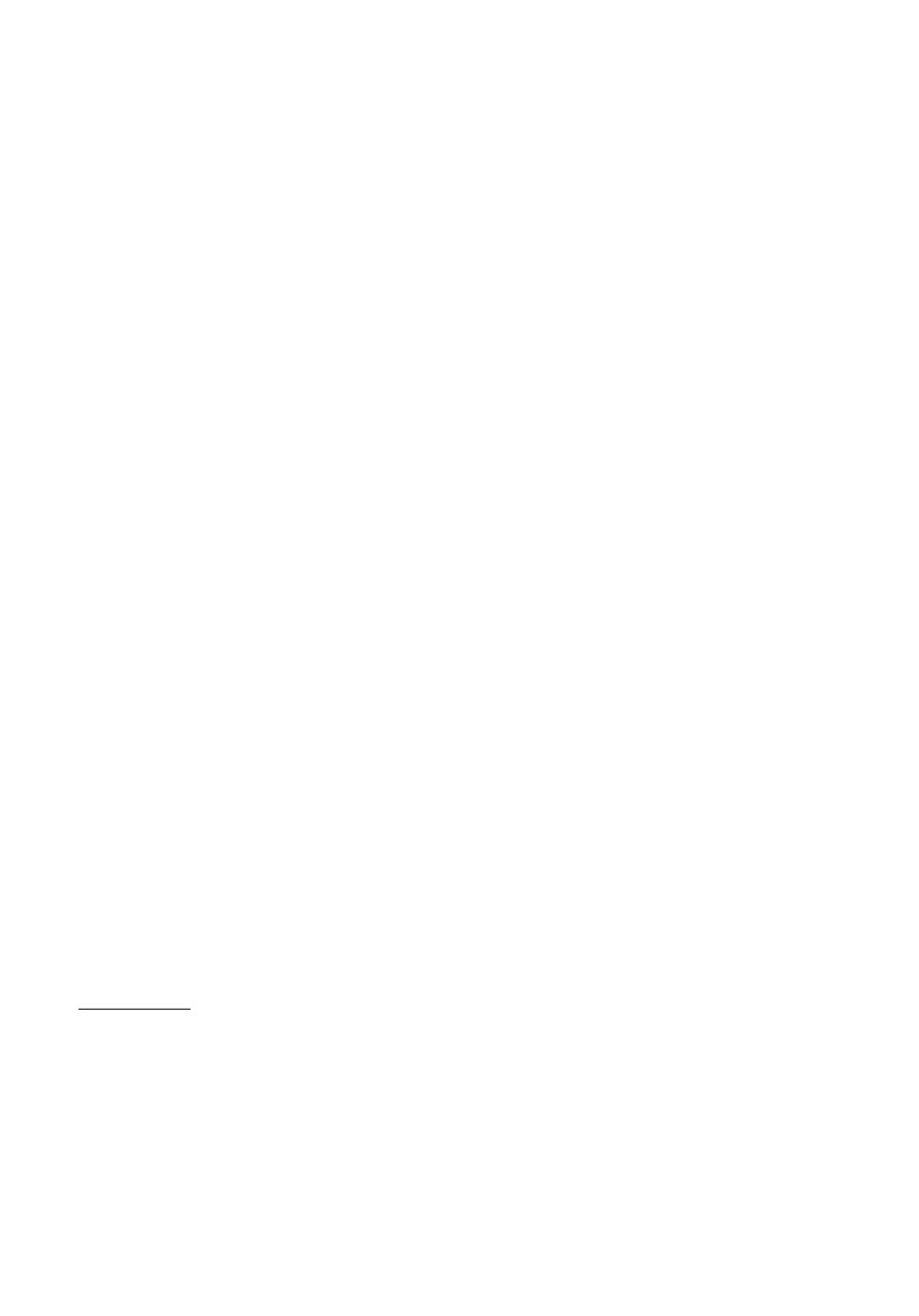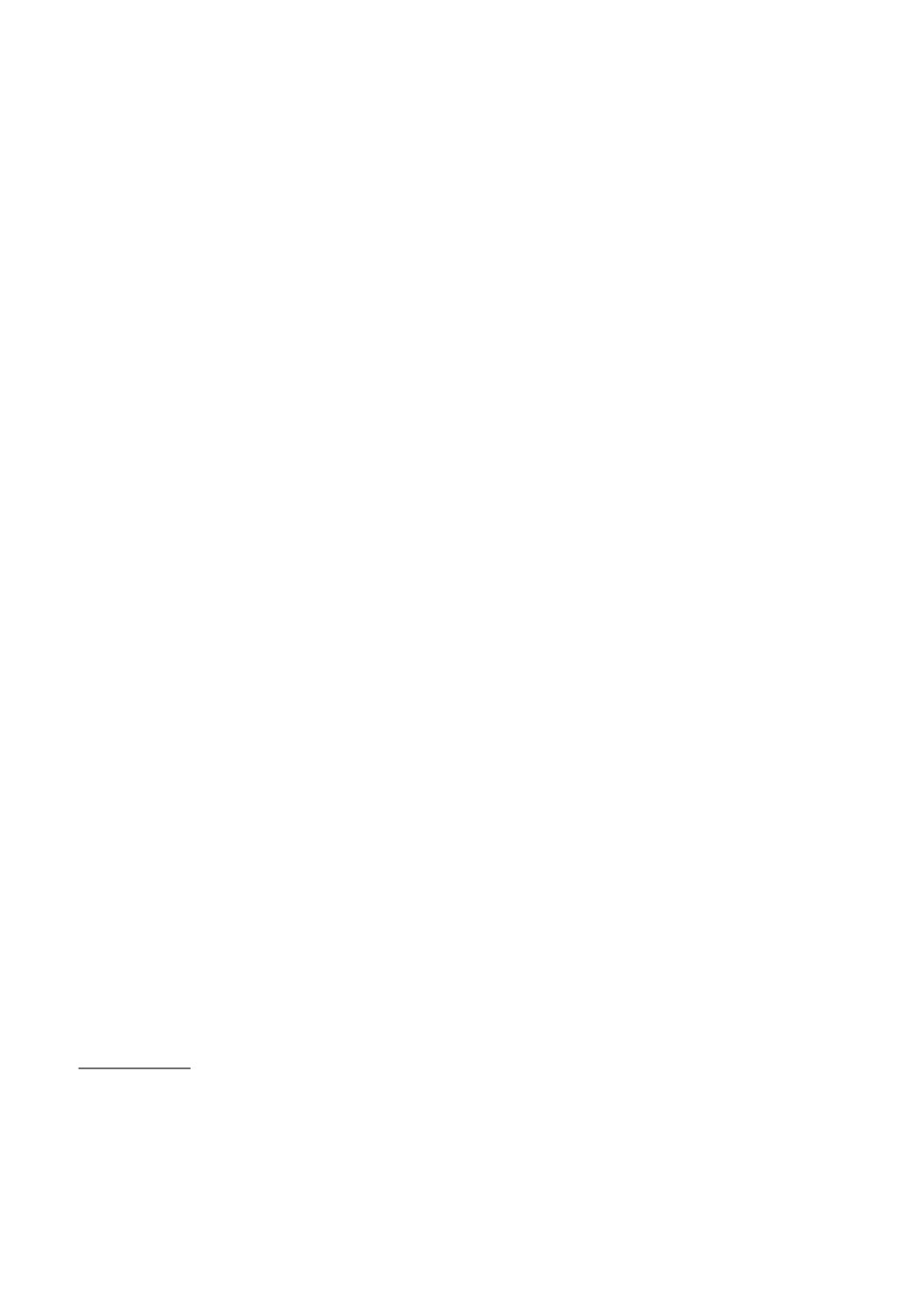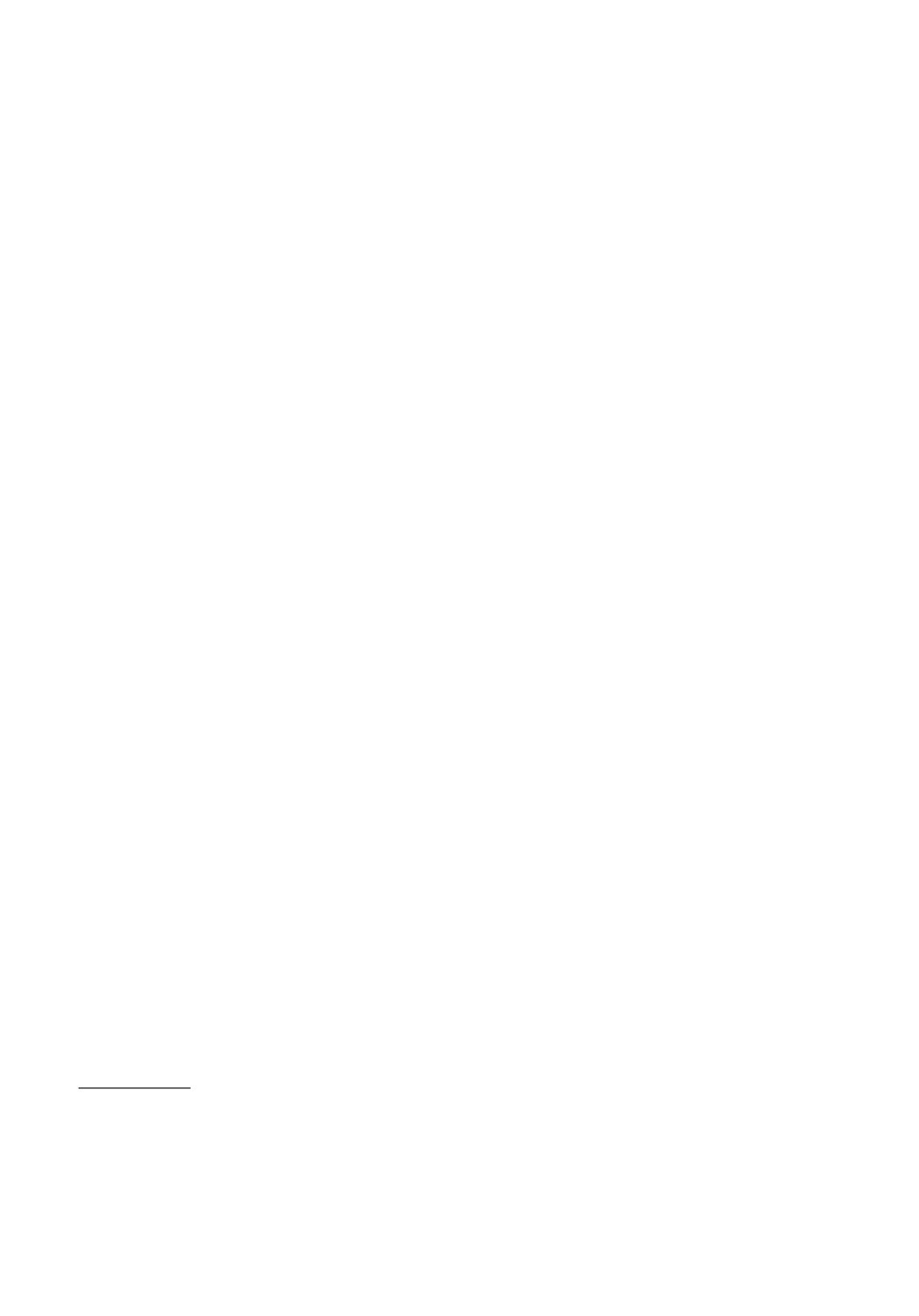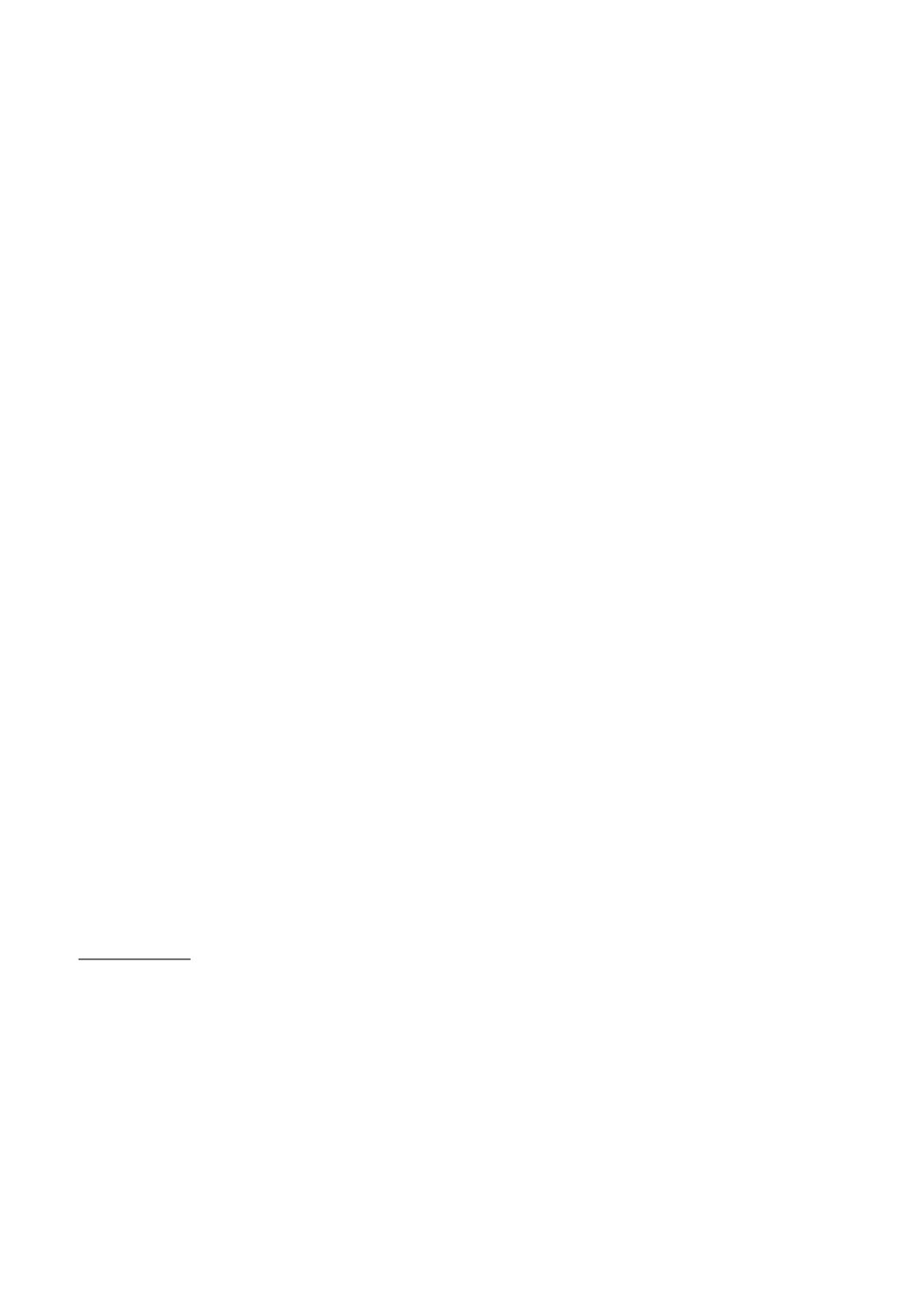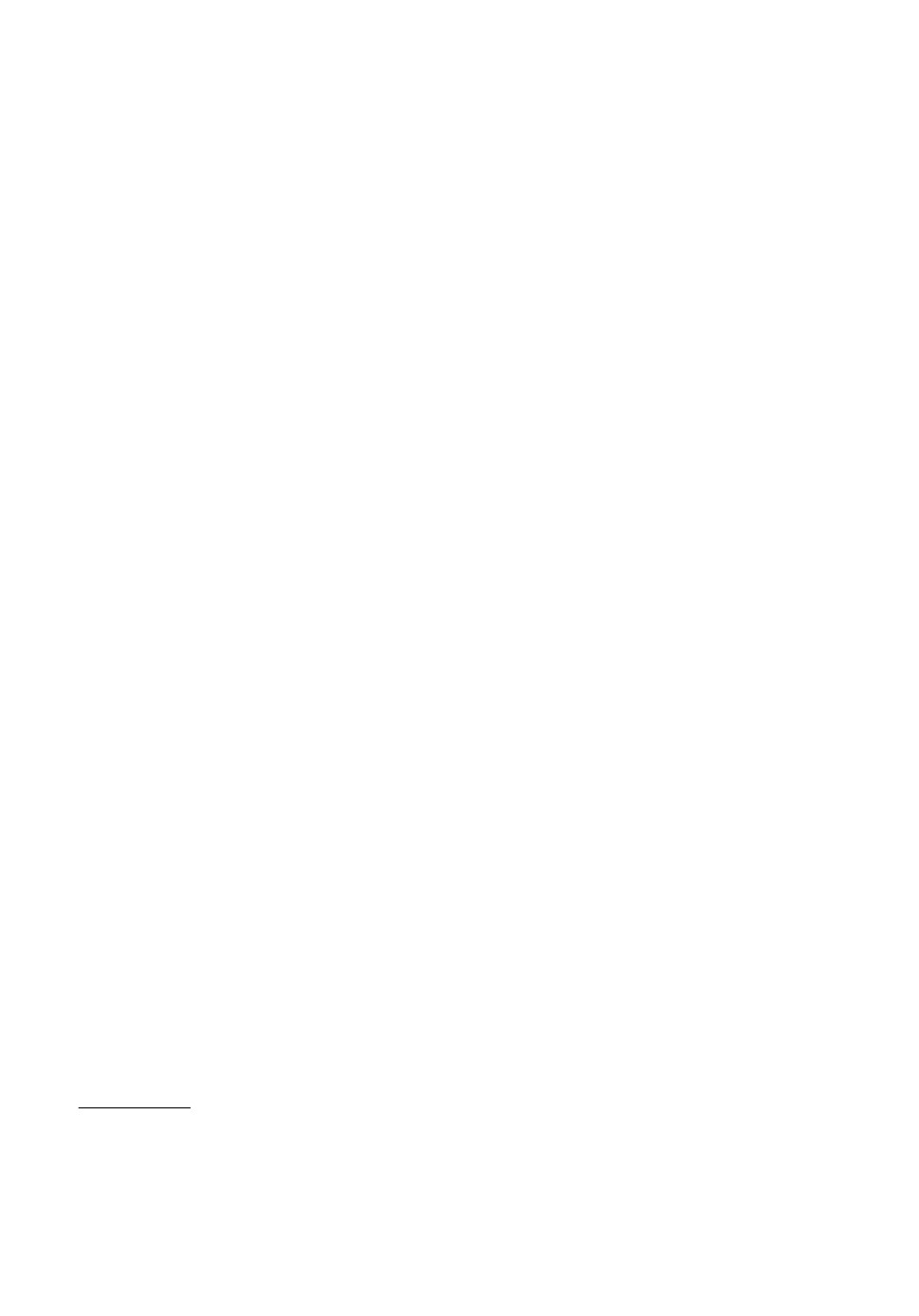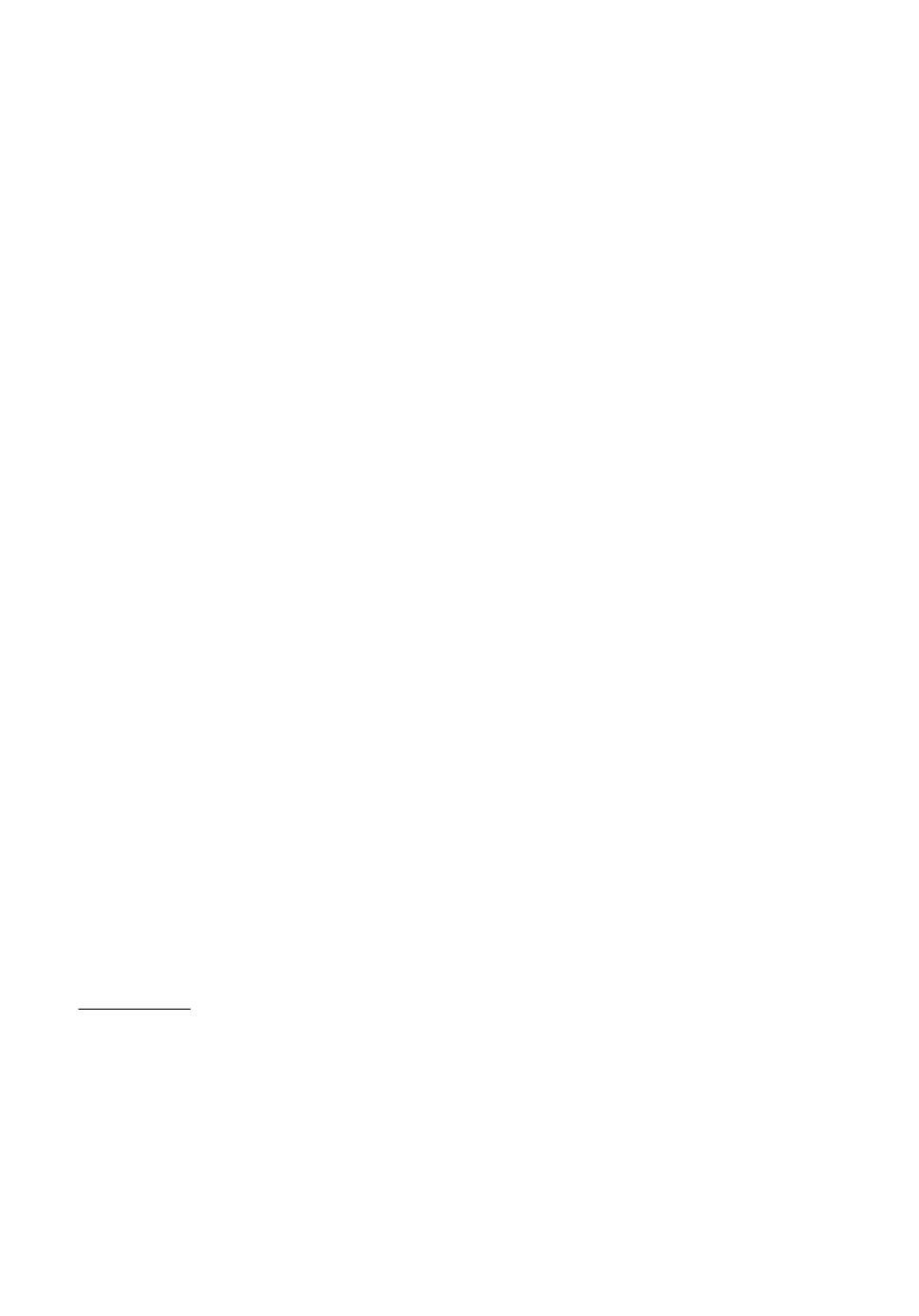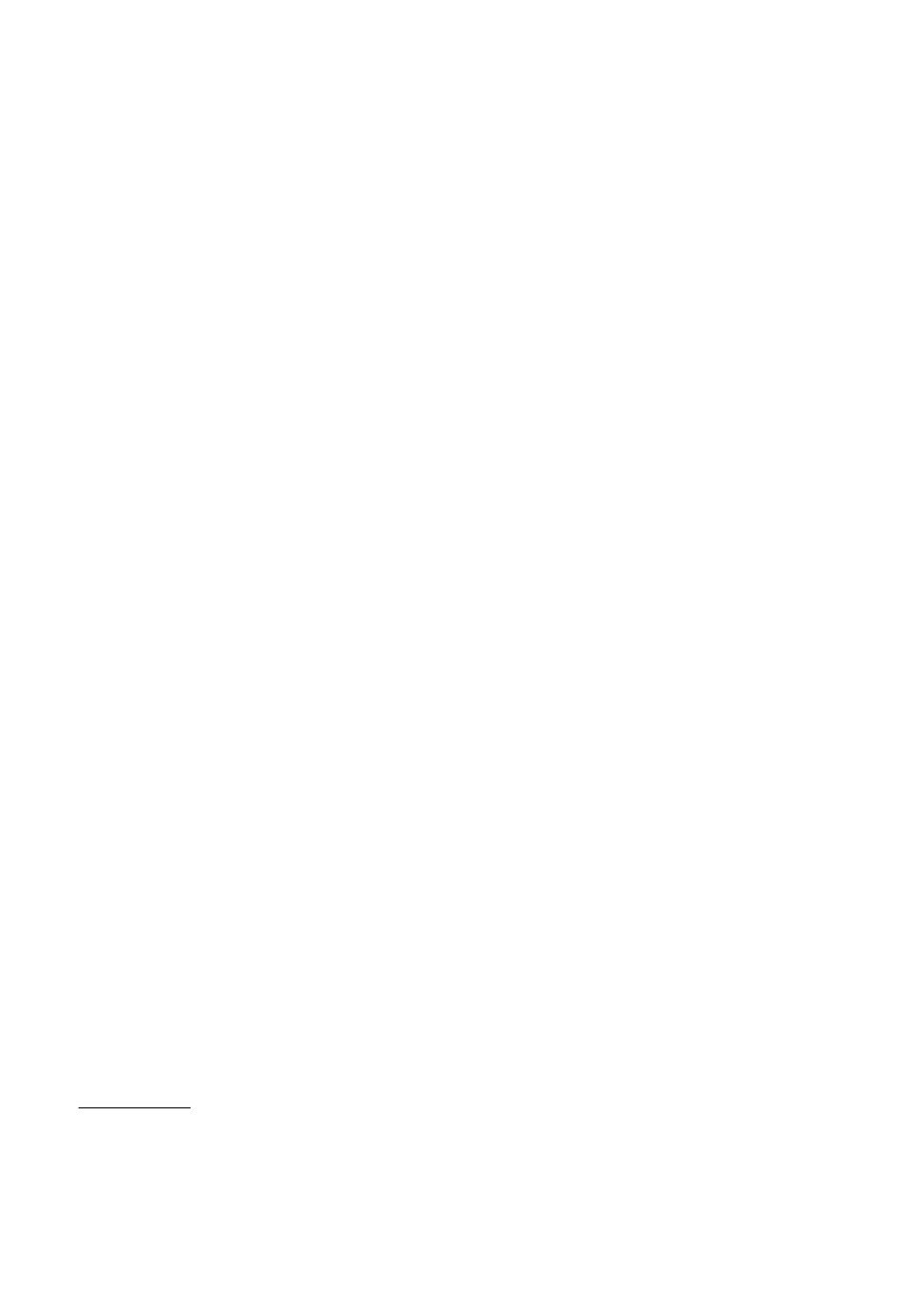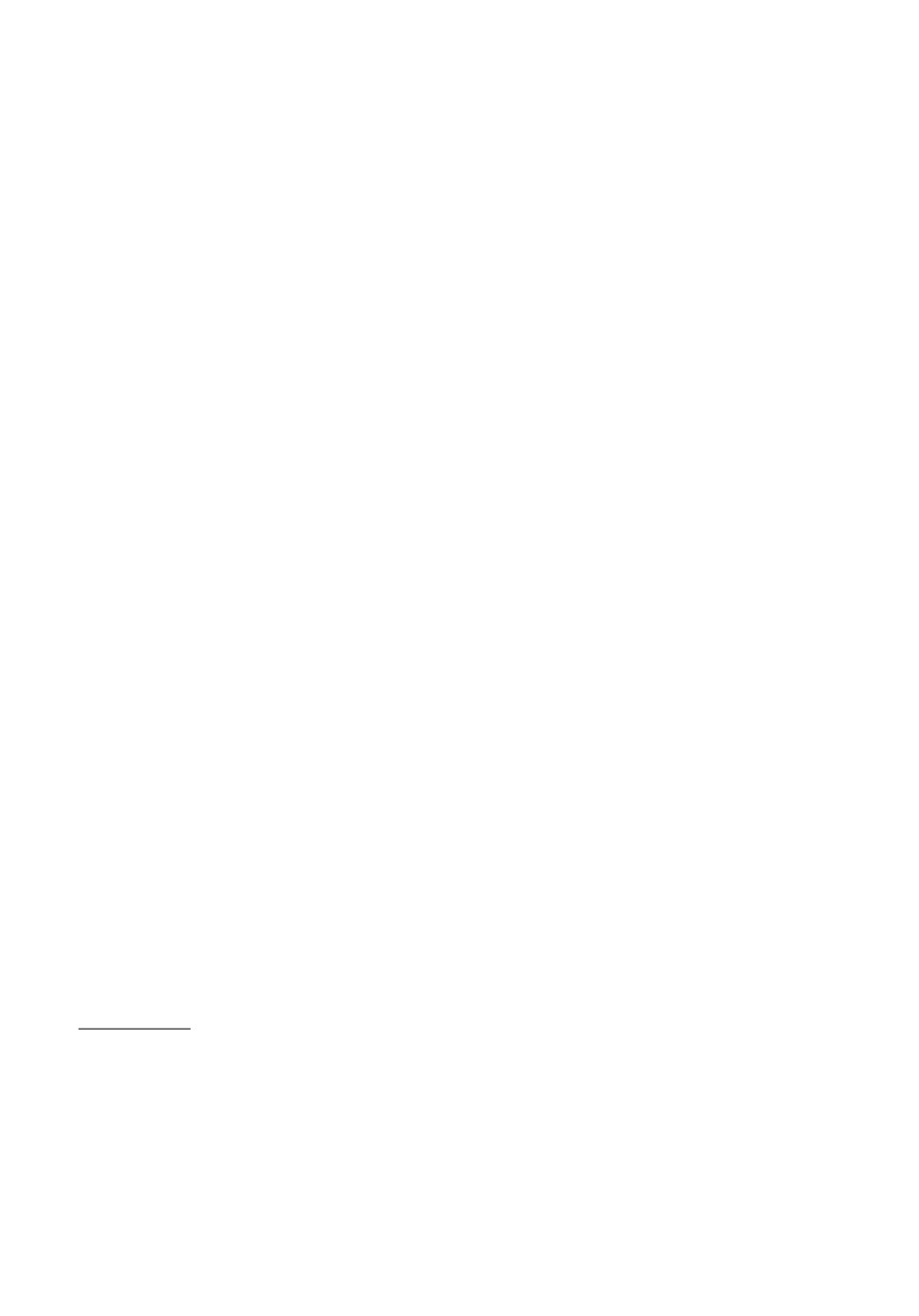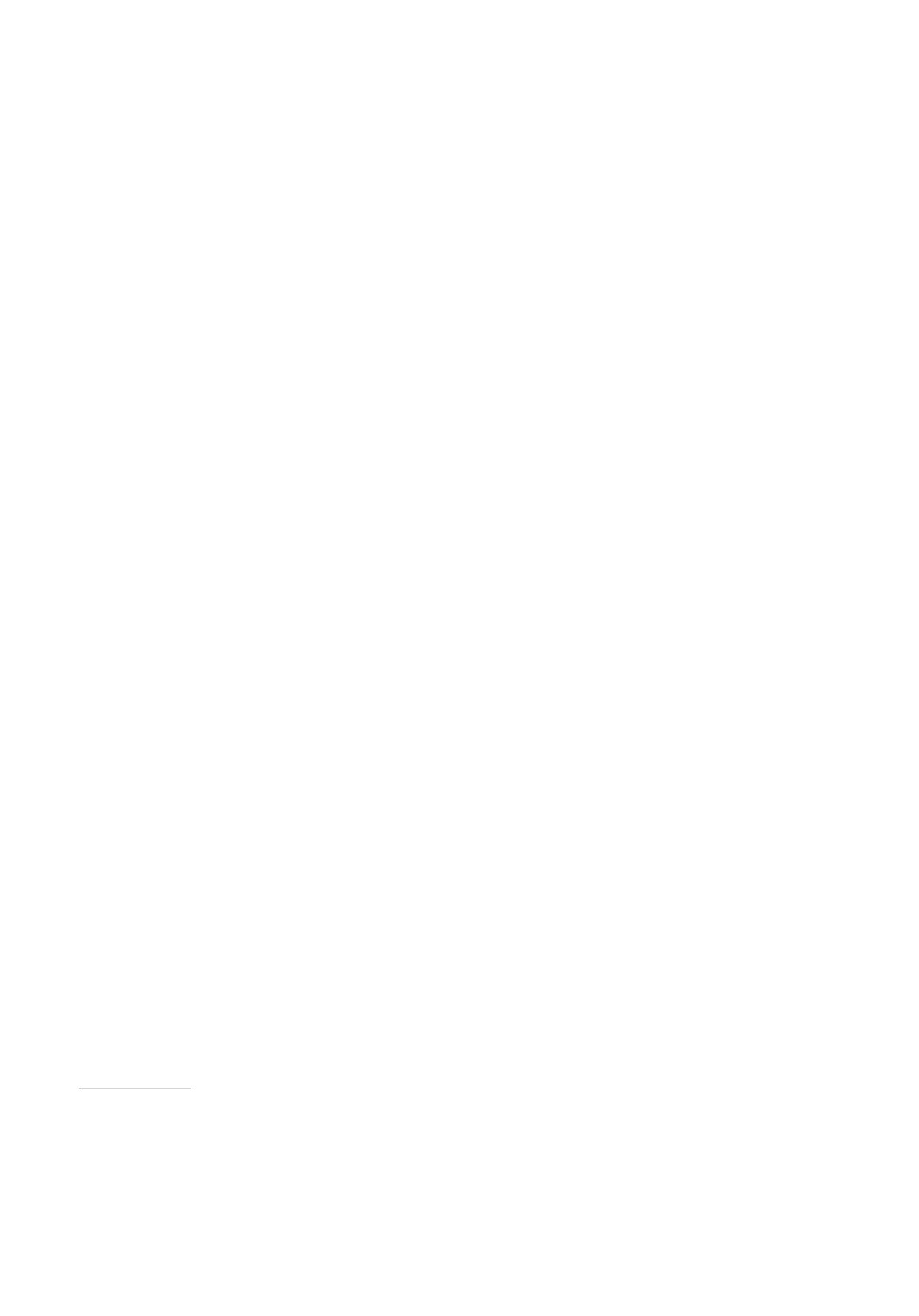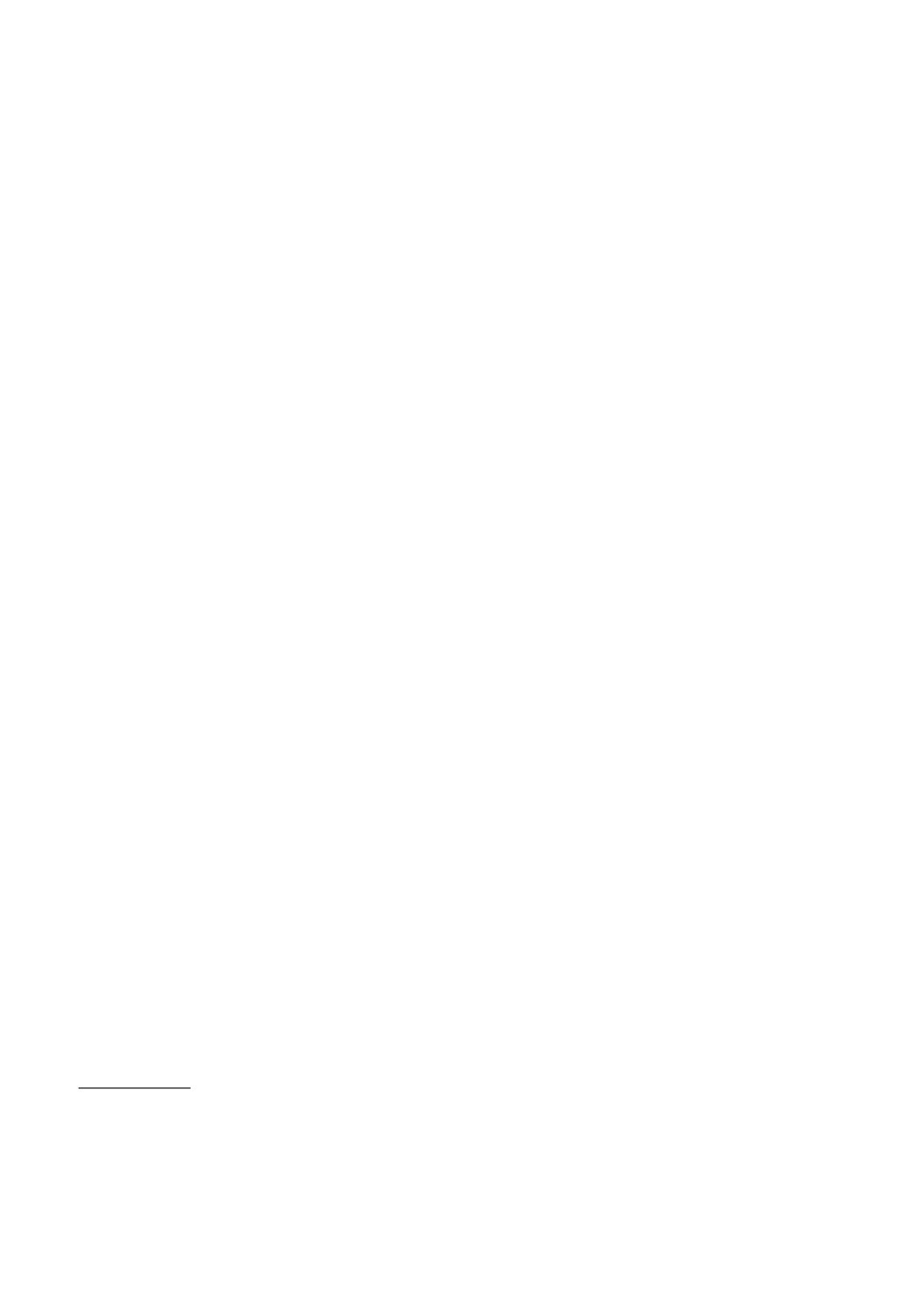Война и гласность
Государственная дума и цензурная политика
в годы Первой мировой войны
Игорь Богомолов
The State Duma and Censorship Policy in Imperial Russia
during the First World War
Igor Bogomolov
(Institute of Scientific Information for Social Sciences,
Russian Academy of Sciences, Moscow)
DOI: 10.31857/S0869568722040100, EDN: FZUIDU
Военная цензура оказала большое влияние на ход политических, экономи-
ческих, культурных дискуссий в России в годы Первой мировой войны. Споры
о границах компетенции военной цензуры не утихали все предреволюционные
годы, проявляясь и в частных разговорах, и в газетных дебатах, и на заседаниях
Государственной думы. В основе этих споров лежало общее понимание необ-
ходимости существования военной цензуры, которую, однако, нужно «усовер-
шенствовать», чётко указать её полномочия. В 1914-1917 гг. Дума уделяла этой
проблеме немало внимания, разработав закон о военной цензуре и многократ-
но поднимая проблему её применения в политической сфере. В историографии
работа над этим законопроектом упоминалась редко и описывалась кратко1,
без учёта менявшейся военно-политической обстановки, дискуссий по этому
вопросу в законодательных палатах и правительстве. Данная статья призвана
восполнить эти пробелы, проливая свет на менявшееся правовое положение
и полномочия военной цензуры в России накануне революции 1917 г.
Военная цензура в 1914-1915 гг. «Временное положение о военной цензу-
ре» («Временное положение») разрабатывалось с 1909 г. в Главном управлении
Генерального штаба (ГУГШ) и специальным межведомственным совещани-
ем под председательством генерал-майора Ю.Н. Данилова2. Первый вариант
был подготовлен ещё в 1910 г., однако окончательную версию документа пред-
ставили Военному совету только 13 июля 1914 г. Судя по сопроводительной
записке, подписанной начальником Генерального штаба Н.Н. Янушкевичем,
изначально проект предполагалось направить на рассмотрение законодатель-
ных палат. Однако быстрое ухудшение международной обстановки заставило
военное командование ускорить процесс. Уже 15 июля типографии Главного
штаба предписывалось «весьма срочно» отпечатать 500 экземпляров «Времен-
ного положения» и прислать их в особое делопроизводство ГУГШ не позднее
10 часов утра 17 июля. В этот же день Янушкевич просил председателя Сове-
© 2022 г. И.К. Богомолов
1
См., например: Патрушева Н.Г. Цензурное ведомство в государственной системе Россий-
ской империи во второй половине XIX - начале ХХ века. М., 2013. С. 353-355; Гайда Ф.А. Власть
и общественность в России в период кризиса Третьеиюньской системы: диалог о пути политиче-
ского развития (1910-1917 гг.). Дис. … д-ра ист. наук. М., 2016. С. 573-574.
2
РГВИА, ф. 2003, оп. 1, д. 4895, л. 2-2 об.
96
та министров И.Л. Горемыкина о «скорейшем проведении» закона3. 18 июля
генерал-квартирмейстер ГУГШ Н.А. Монкевиц телеграфировал в штабы воен-
ных округов о необходимости «срочно установить цензуру телеграмм, отправ-
ляемых [в] Западную Европу»4. На копии, переданной начальнику штаба Вар-
шавского округа, он от руки приписал: «Постановлено немедленно приступить
к формированию органов по военной цензуре»5.
Практические шаги последовали прежде всего на почте. Начальник Грод-
ненского почтово-телеграфного округа телеграфировал в Варшаву 18 июля, что
в следующие трое суток отделения прекратят передачу частных телеграмм за
границу, «не отказывая, однако, подавателям в приёме». О том же сообщил
начальник Белостокской почтово-телеграфной конторы, приписав, что «эта
мера публике неизвестна». Начальник Луковской конторы уже 19 июля пере-
дал в штаб Варшавского округа заграничную телеграмму на немецком языке6.
Фактически это означало введение военной цензуры в прифронтовых губерни-
ях ещё до утверждения официальных документов.
Спешно готовясь к войне, правительство вынесло «Временное положение»
на высочайшее рассмотрение согласно ст. 87 Основных государственных зако-
нов, и 20 июля Николай II его утвердил. Документ опубликовали в «Собрании
узаконений и распоряжений правительства», издавали отдельными брошюра-
ми. 86 статей «Временного положения» были поделены на 9 глав. В первой гла-
ве перечислялись произведения печати и корреспонденция, освобождавшиеся
от военной цензуры7, и устанавливалась степень её строгости в прифронтовых
(«театр военных действий») и тыловых районах империи. На территории «пол-
ной» военной цензуры вводился предварительный просмотр всех газет и жур-
налов, фотографий и рисунков, внутренней и международной корреспонден-
ции. «Частичная» цензура касалась только международных телеграмм и писем8.
В главах 2 и 3 описывались организация военной цензуры и её обязанности.
Устанавливался состав Главной и местных военно-цензурных комиссий, созда-
вавшихся при штабах военных округов. В Главную комиссию входили предста-
вители военного и морского ведомств, МИД и Министерства юстиции. Наи-
большее представительство имело МВД, командировавшее членов от Главного
управления по делам печати, Главного управления почт и телеграфов и Депар-
тамента полиции. Тем не менее комиссия состояла при ГУГШ, назначавшем
её председателя из штабных офицеров званием не ниже генерал-лейтенанта.
Так, председателем Главной комиссии стал начальник Военно-юридической
академии генерал-лейтенант А.И. Звонников. Состав местных комиссий фор-
мировался схожим образом, но обычно ограничивался представителями воен-
ного ведомства и МВД. Главы комиссий имели право «разъяснять» военным
цензорам их права и обязанности, а председателю Главной комиссии предо-
3
Там же, л. 250, 254.
4
Там же, л. 18.
5
Там же, л. 5.
6
Там же, л. 39, 40, 44.
7
От военной цензуры освобождались: все издания правительства, Академии наук, высших
учебных заведений; книги на древних и классических языках и их переводы; публичные речи, про-
износимые «во исполнение долга службы или обязанностей звания»; почтовые отправления особ
Императорской фамилии, правительственных учреждений, главнокомандующих и командующих
отдельными армиями, дипломатов (Временное положение о военной цензуре. Одесса, 1914. С. 6).
8
Временное положение… С. 7.
97
ставлялось право разработки «проектов об изменении подробных правил» по
работе своих подчинённых9.
Главы 4-7 описывали процесс работы «полной» военной цензуры на театре
военных действий: время предоставления гранок редакторами изданий, срок их
рассмотрения цензорами, порядок открытия и работы типографий, литографий
и металлографий, предварительный просмотр конспектов речей и докладов.
Полномочия цензоров не ограничивались прифронтовыми губерниями. Так,
ст. 31 давала им возможность не допускать в печать сведения, которые могут,
по их мнению, оказаться «вредными для военных интересов государства»10.
Чины полиции получали право прервать лекцию в случае отклонения высту-
пающего от заранее согласованной программы. Фактически безграничными
оказались и возможности выемки корреспонденции. Так, в «отдельных случаях
и по распоряжению главных начальников военных округов» цензор в районах
вне театра военных действий мог просматривать и внутреннюю переписку11.
Главы 8 и 9 устанавливали порядок обжалования действий военной цен-
зуры и ответственность за распространение секретных и запрещённых сведе-
ний. Так, за их разглашение во время доклада могли оштрафовать на сум-
му от 100 до 2 тыс. руб. Для печати устанавливалась градация штрафов по
значимости опубликованной информации: от 100 до 2 тыс. руб. выплачивали
виновные (автор, издатель, типографщик, книгопродавец) в размещении лю-
бых сведений без разрешения военной цензуры; если же информация касалась
«внешней безопасности России и вооружённых её сил» штраф составлял от
500 до 10 тыс. руб. (предусматривалось также тюремное заключение на срок до
одного года). При этом возможности для обжалования ограничивались. Жало-
бы следовало подавать командующим армиями, главным начальникам военных
округов и военно-цензурным комиссиям в течение трёх дней после вынесения
постановления о наказании. Решения главнокомандующих и Главной военно--
цензурной комиссии считались в этом случае окончательными12.
20 и 26 июля 1914 г. также вышли новые варианты «Перечня сведений
и изображений», не подлежавших оглашению и распространению в печати, ре-
чах и докладах. Новый «Перечень» состоял из 25 пунктов, тогда как вариант от
12 июля 1914 г. - из 18. Значительно расширены и дополнены пункты о боевой
готовности, комплектовании и довольствии армии и флота, предположениях
об их действиях в России и за рубежом, о передвижении частей и соединений,
ходе мобилизации, работах в крепостях и укреплениях, состоянии дорог и ли-
ний связи, содержании писем, потерях в личном составе, волнениях, катастро-
фах, эпидемиях на фронте и в занятых областях. «Перечень» устанавливался
на год и в дальнейшем дополнялся и расширялся13. К примеру, уже в ноябре
1914 г. был добавлен запрет на разглашение сведений о «предположениях, по-
становлениях и мероприятиях Совета министров, связанных с чрезвычайны-
ми расходами на потребности военного времени, а равно как и вызываемых
военными обстоятельствами»14. Хотя
«Перечень» составлялся коллегиально
9
Там же. С. 8-11.
10
Там же. С. 12.
11
Там же. С. 7.
12
Там же. С. 19-22.
13
Батулин П.В. Перечни военной цензуры 1912-1923 гг. // Ленинградский юридический
журнал. 2012. № 4. С. 155.
14
Временное положение… С. 27.
98
и поначалу касался только вопросов обороны, подпись под ним ставил ми-
нистр внутренних дел, а не глава военного ведомства.
Печать ограничилась сообщениями о введении военной цензуры и избе-
гала давать какие-либо оценки «Временному положению». Свою роль сыграло
закрытие в первый же день войны газеты «Речь». «Пресса настроена едино-
душно, хотя, может быть, и не совсем искренно, боясь того же, что уже сде-
лано вел. кн. Николаем Николаевичем с “Речью”», - писал 21 июля 1914 г.
журналист М.К. Лемке15. Хотя очевидной причиной явилась, по выражению
П.Н. Милюкова, «известная оппозиция войне», для редакции это распоряже-
ние стало неожиданностью16. Редактор «Речи» И.В. Гессен отмечал, что за-
крытие газеты вызвало «немалое смущение» и в правительственных кругах, не
говоря уже о «бурно возмущавшемся» председателе Думы М.В. Родзянко17.
Уже через два дня вел. кн. Николай Николаевич отменил своё решение,
однако для других газет пример «Речи» стал весьма показательным. В сентябре
1914 г. Ставка обратила внимание на телеграммы «Русского слова» из Ков-
но и Осовца, в которых заключались «сведения, не подлежащие оглашению,
[о] действиях наших войск». Начальник Главного управления по делам печати
гр. С.С. Татищев по этому поводу вызвал редактора газеты А.В. Руманова и за-
читал ему категорическое требование командования армии не допускать оцен-
ки хода военных действий «с указанием видов на будущее». Руманов в письме
в редакцию привёл в пример газету «Биржевые известия», которая, «доверив-
шись “Русскому слову”», напечатала телеграмму из Ковно и за это была закры-
та. По его словам, ныне «рекомендуется величайшая и исключительная осто-
рожность, ибо это может грозить существованию самой газеты»18.
На практике, однако, военная цензура оказалась далеко не так страшна
и всесильна. Просмотр огромного потока корреспонденции и печати требовал
соответствующих кадровых и материальных ресурсов, которых изначально не
хватало, особенно в Петрограде, Москве, Киеве, Казани и других крупных
городах. В качестве военных цензоров, согласно ст. 20 и 21 «Временного по-
ложения», привлекались чиновники почтово-телеграфных учреждений и пред-
ставители местных комитетов по делам печати, однако и этого «подкрепления»
было недостаточно. Обременённые непосредственной работой, далёкие от во-
енной сферы и мало знакомые с положением на фронтах, они едва справля-
лись с просмотром десятков тысяч писем и телеграмм, многочисленных газет
и журналов, пропускали множество запрещённых сведений19. Военными цензо-
рами назначались и офицеры, но в основном из числа тех, кто к тому моменту
вышел на пенсию или оказался негоден к строевой службе. Для такой работы
им зачастую недоставало усидчивости и внимательности20.
Постоянное обновление «Перечня», многочисленные инструкции и уточ-
нения ситуацию не улучшали, а скорее затрудняли работу. Дополнительной
нагрузкой шли различные указания и «рекомендации», касавшиеся не столько
военных, сколько политических вопросов. Уже в 1914 г. происходила быстрая
«политизация» военной цензуры. Под негласный запрет попали многие темы,
15
Лемке М.К. 250 дней в царской ставке. Пг., 1920. С. 10.
16
Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1991. С. 390.
17
Гессен И.В. В двух веках: жизненный отчет // Архив русской революции. Т. 22. М., 1993. С. 325, 327.
18
РГАЛИ, ф. 595, оп. 1, д. 12, л. 19, 23.
19
РГВИА, ф. 1720, оп. 11, д. 1, л. 2.
20
Там же, ф. 13839, оп. 1, д. 3, л. 25.
99
например, критика действий союзников России на Западном фронте и «всякие
нападки на почтовое ведомство»21.
Межведомственный характер военной цензуры, призванный улучшить
координацию, на деле стал благодатной почвой для соперничества. «Времен-
ное положение» фактически подчиняло начальников местных установлений
по надзору за печатью и почтово-телеграфных контор (представителей МВД)
председателям военно-цензурных комиссий, возглавлявшихся только воен-
ными чинами. В крупных городах, где комитеты по делам печати сохраня-
лись, установилось своеобразное «двоевластие», чреватое конфликтами. Так,
в Москве председатель местной военно-цензурной комиссии А.Н. Гадзяцкий
в августе-сентябре 1914 г. регулярно критиковал комитет по делам печати за
пропуски запрещённых сведений22. Председатель Варшавского комитета по де-
лам печати М.А. Лагодовский открыто усомнился в необходимости создавать
в городе военно-цензурную комиссию, жалуясь по этому поводу в штаб глав-
нокомандующего Северо-Западного фронта23. Сложная и запутанная ситуация
сложилась в Петрограде, где местной военной цензурой поначалу руководи-
ли одновременно штаб 6-й армии и Главная военно-цензурная комиссия24.
В сентябре 1914 г. до столицы дошёл конфликт в Иркутске, где глава почтово--
телеграфной конторы уволил подчинённого, военного цензора, без согласова-
ния с главой местной военно-цензурной комиссии25.
Печать с первых дней войны страдала от непоследовательности и избира-
тельной жёсткости военной цензуры. Наибольшую критику журналистов вызы-
вала различная практика в перепечатке материалов. Известны многочисленные
случаи запрета ранее опубликованных статей и телеграмм26. Большие трудности
редакциям создавало предоставление гранок для предварительного просмотра.
Цензоры часто не успевали просмотреть материалы к утру, опаздывала их об-
ратная доставка27. Наиболее ярко и наглядно эти проблемы проявились в виде
«белых пятен» - пустых мест, остававшихся на месте запрещённых статей и те-
леграмм. В результате газеты теряли читателя, часто находившего вычеркну-
тые новости в других изданиях. Свою роль сыграло и разделение цензуры на
«полную» и «частичную». Так, петроградская печать жаловалась на неравные
условия конкуренции из-за того, что в столице действовала «полная», а в Мо-
скве - «частичная» военная цензура28.
Газеты неоднократно выдвигали предложения по совершенствованию по-
рядка просмотра гранок и их доставки29. Военно-цензурные комиссии старались
идти навстречу этим пожеланиям30, но общую картину за годы войны изменить
не удалось. Не желая терять читателя, пресса прибегала к различным хитростям
для обхода цензуры. Запрещённый материал редакции нередко отправляли по-
вторно, в небезосновательной надежде, что цензор в этот раз его пропустит.
21
Там же, д. 5, л. 8.
22
ЦГА Москвы, ф. 31, оп. 3, д. 1872, л. 134-135, 150.
23
РГВИА, ф. 2019, оп. 1, д. 716, л. 112-114.
24
Там же, ф. 13835, оп. 1, д. 5, л. 269-271.
25
Там же, л. 175, 184, 208, 210.
26
РГИА, ф. 777, оп. 23, д. 41, л. 59; РГВИА, ф. 13839, оп. 1, д. 3, л. 69, 72; РГАЛИ, ф. 595,
оп. 1, д. 12, л. 27-30.
27
РГИА, ф. 777, оп. 21, д. 24, л. 116, 272.
28
Там же, ф. 778, оп. 1, д. 2, л. 15 об.
29
Там же, л. 16 об.-17; РГАЛИ, ф. 595, оп. 1, д. 12, л. 27-30.
30
РГВИА, ф. 13839, оп. 1, д. 3, л. 46, 72, 85.
100
Редакторы заменяли заголовки, переписывали сам текст, не предоставляли гран-
ки в цензуру и нередко публиковали материал, несмотря на прямой запрет31.
Нужно отметить, что схожие недостатки наблюдались в работе цензуры
всех воюющих государств. В Англии, Франции и Германии также обычным
делом были пропуски цензорами ранее запрещённого ими материала, а пе-
чать также прибегала к различным способам их «обмана»32. Тема цензуры ак-
тивно использовалась в парламентской борьбе и интригах, а отношение к ней
политиков менялось в зависимости от ситуации. Так, Ж. Клемансо в первые
годы войны последовательно критиковал цензуру и имел для этого основа-
ния, ежедневно сталкиваясь с ней как редактор газеты «L’homme libre» («Сво-
бодный человек»). В сентябре 1914 г. он заявил: «Каждый здравомыслящий
человек понимает, что цензура может применяться только к военным вопро-
сам. В противном случае это не что иное, как злоупотребление властью». Од-
нако в ноябре 1917 г., уже будучи премьер-министром, он сказал на встрече
с цензорами: «Подавлять цензуру? Никогда! Я не полный идиот. Вы - мои
лучшие полицейские»33. Тем не менее в Россию проникали лишь отрывочные
сведения о проблемах цензуры в стане врагов и союзников, вследствие чего
её установившийся формат и особенности работы обсуждались редко. В годы
войны критики власти рассматривали «русскую» цензуру как характерный
и, что не менее важно, самобытный пример произвола властей. Наглядно эта
тенденция проявилась и при обсуждении цензуры в российских законода-
тельных учреждениях.
«Священное единение» и военная цензура. На заседаниях Думы до лета 1915 г.
цензура не упоминалась, однако на частных собраниях и совещаниях обсуж-
далась неоднократно. Ещё в августе 1914 г. на заседании ЦК конституционно--
демократической партии А.С. Изгоев предложил заявить «о замечающихся бе-
зобразиях в санитарной части, о необходимости отмены военной цензуры, под
покровом которой скрываются эти безобразия»34. 9 ноября он указывал, что
цензура возвращается «в прежнем виде, установлен даже прежний штат цензо-
ров»35. В.И. Вернадский на том же заседании высказал мнение, что «сейчас ещё
совершенно невозможно делать выступления по поводу… цензурных репрес-
сий; широкие слои просто не поймут, что эти репрессии делаются не во имя
потребностей военного времени; станут указывать, что и в газете “Temps” так-
же много белых, не пропущенных цензурою полос»36. П.Б. Струве соглашался,
что вычёркивание «внутренних известий» не имеет смысла, но, по его мнению,
«выходки» социал-демократов могли нанести ещё больший вред и «только до-
ставить удовольствие Германии»37.
Вопрос о военной цензуре поначалу поднимался только в кулуарах и пока
без резких и публичных обвинений. Характерна тактика кадетов, которые от-
мечали её неоправданную строгость, но говорили о ней мимоходом, как о во-
31
РГИА, ф. 777, оп. 23, д. 41, л. 38-39 об, 59, 71 об., 92, 99, 109.
32
Demm E. Censorship and propaganda in World War I: a comprehensive history. L., 2019. P. 16,
17, 25, 26.
33
Ibid. P. 24.
34
Протоколы Центрального комитета конституционно-демократической партии. 1905 - сере-
дина 1930-х гг. Т. 2. М., 1997. С. 372.
35
Там же. С. 427.
36
Там же. С. 430.
37
Там же. С. 432.
101
просе второстепенном. Неудивительно, что к моменту созыва Думы в январе
1915 г. внятных предложений они не подготовили. Милюков сетовал, что этот
вопрос «пришлось поднять в частной беседе, потому что вопросы в комиссии
остаются без ответа». Представители правительства, по его словам, «увёрты-
ваются от ответов, в частности на вопросы о цензуре»38. Павел Николаевич,
вероятно, имел в виду встречу депутатов с министрами 25 января, на которой
в обтекаемой форме затронул эту проблему. В отчёте о деятельности фракции
за эту короткую сессию отмечалось: «Вынужденное молчание прессы роняет её
авторитет и лишает её возможности играть регулирующую роль в поддержании
общественного настроения, так ярко проявившегося в начале войны»39.
Тем не менее к тому времени претензий к военной цензуре накопилось
немало, в том числе благодаря письмам в Думу из разных городов. Так, редак-
тор газеты «Пятигорское эхо» А.И. Попов жаловался, что местными цензора-
ми «выбрасывается всё, что указывает на пульсацию общественной жизни»,
включая заметки и статьи «самого невинного характера». Так, запрещались
материалы о гастрических заболеваниях в Георгиевске и о количестве кроватей
в местных лазаретах, не допущена перепечатка статьи о подвигах солдат на
фронте, а списки убитых удалось опубликовать только после особого разреше-
ния Тифлисского комитета по делам печати40.
В правительстве прекрасно понимали, что военная цензура нуждается в со-
вершенствовании. Министр торговли и промышленности кн. В.Н. Шаховской
в мемуарах оценивал «Временное положение» критически, отметив, что оно
«совершенно не предусматривало каких бы то ни было ограничений общепо-
литического характера». Он привёл в пример французскую и английскую цен-
зуру, которая позволила правительствам эффективно контролировать печать41.
Проблемы видело и командование армии. Военный министр В.А. Сухомлинов
уже в сентябре 1914 г. в письмах Н.А. Маклакову и И.К. Григоровичу сообщал,
что рассмотрение жалоб редакторов на военную цензуру «является почти всегда
бесцельным, так как разрешение… не может последовать с той быстротой, ка-
кая, по условиям газетного дела, необходима для восстановления нарушенных
интересов издания»42. В том же месяце и.о. начальника Генерального штаба
генерал М.А. Беляев писал Сухомлинову: «Главные начальники военных окру-
гов нередко возлагают на военную цензуру чересчур обширные задачи по про-
смотру почтовой и телеграфной корреспонденции, совершенно непосильные
для военной цензуры по её составу, что ведёт к задержке… сообщений и вызы-
вает в населении ропот и нарекания… Местные военно-цензурные комиссии,
ввиду совершенной новизны дела, обнаруживают не вполне ясное понимание
возложенных на них задач, недостаточно умелое руководство деятельностью
находящихся в их ведении военных цензоров, особенно в тех городах, где во-
енной цензуре приходится иметь дело с повременной печатью и с международ-
ной корреспонденцией»43.
38
Протоколы Центрального комитета конституционно-демократической партии... Т. 3. С. 9.
39
IV Государственная дума. Фракция Народной Свободы.
«Военные» сессии.
26 июля
1914 г. - 3 сентября 1915 г. Пг., 1916. С. 12.
40
РГИА, ф. 1278, оп. 5, д. 584, л. 59-59 об.
41
Шаховской В.Н. «Sic transit gloria mundi» (Так проходит мирская слава). 1893-1917 гг. Па-
риж, 1952. С. 152.
42
РГВИА, ф. 13835, оп. 1, д. 5, л. 129-130.
43
Там же, л. 138-139.
102
При организации военной цензуры правительству и командованию прихо-
дилось считаться и с формально-юридическими тонкостями. Согласно ст. 87
Основных законов, действие «Временного положения» прекращалось через
два месяца после окончания последней сессии Думы, если военный министр
не предоставит на её рассмотрение новый законопроект о военной цензуре.
«Было ясно, что издавать новый закон по 87-й статье невозможно, так как
Государственная дума, при первом же созыве, его отменила бы», - вспоми-
нал кн. В.Н. Шаховской44. Поскольку заседания Думы прервались 27 января
1915 г., то крайним сроком стало 27 марта. По утверждению Лемке, «когда
приближался и, наконец, наступил [этот] день… буквально никто из состава
правительства и верхов армии не вспомнил, что… автоматически прекратилось
действие Временного положения о военной цензуре»45.
Однако Лемке прав лишь отчасти: к наступлению этого дня правительство
готовилось, хотя и не собиралось предлагать что-либо новое. Сухомлинов на-
правил законопроект о военной цензуре в канцелярию Думы в крайний срок,
27 марта. В сопроводительной записке излагалась предыстория разработки
«Временного положения» накануне войны и отмечалась необходимость «со-
хранить его и на будущее время»46. Единственное значимое изменение в тексте
Совет министров допустил 29 мая 1915 г., постановив освободить от цензуры
корреспонденцию представительств союзных держав и усилить контроль над
телеграммами и письмами дипломатов нейтральных государств47.
При всём несовершенстве «Временное положение» давало власти эффек-
тивный и гибкий инструмент влияния на печать. Правительство предпочитало
действовать распоряжениями и «рекомендациями», тем более что статьи «Вре-
менного положения» давали Главной и местным военно-цензурным комисси-
ям такую возможность. Вероятно, весной 1915 г. расчёт делался на выполнение
формальных правил внесения законопроектов и получение от Думы одобре-
ния на продление действия военной цензуры. Для её серьёзного реформиро-
вания требовался весомый политический или военный повод, и летом 1915 г.
он появился.
«Великое отступление» и обсуждение военной цензуры в Думе. По мере того,
как ухудшалась обстановка на фронте и накалялась внутриполитическая атмос-
фера, усиливалась критика военной цензуры высшими сановниками и воена-
чальниками. Весной и в начале лета 1915 г. нарастало понимание, что плохо
работающая цензура создаёт не только военные, но и политические риски.
Активизации обсуждения этой проблемы способствовали и перестановки
в правительстве. В июне 1915 г. редакторы газет «Речь», «День», «Биржевые
ведомости», «Новое время» и «Вечернее время» направили новому министру
внутренних дел кн. Н.Б. Щербатову записку, в которой сетовали, что военная
цензура передана не военным чинам, а комитетам по делам печати и «неофи-
циально делится на военную и гражданскую». Результатом стали циркуляры
и «безответственные распоряжения по телефону», запрещавшие газетам касать-
ся вопросов внутренней жизни страны. В качестве примера приводился запрет
Н.А. Маклакова сообщать в печати о свадьбе чиновника МВД. Аналогичное
44
Шаховской В.Н. Указ. соч. C. 152.
45
Лемке М.К. Указ. соч. С. 387.
46
РГИА, ф. 1278, оп. 7, д. 398, л. 3-4.
47
Особые журналы Совета министров Российской империи 1909-1917 гг. 1915 год. М., 2008.
С. 267-268.
103
письмо совет общества петроградских редакторов отправил в Думу, вновь пе-
речислив примеры распоряжений и инструкций цензорам, которые не имели
«никакого отношения к военным интересам родины»48.
После назначения на министерский пост в интервью «Русскому слову»
Щербатов отметил, что в «переживаемое время военная цензура является без-
условно необходимой», хотя и обещал принять меры к «облегчению чрезмер-
ных стеснений» печати49. В письме Янушкевичу Николай Борисович подверг
критике разделение военной цензуры на «полную» и «частичную», что на
практике дало преимущества московской и провинциальной прессе в обсуж-
дении, например, еврейского вопроса и послевоенного устройства Польши
и Армении. Ст. 31, по его мнению, не столько расширила полномочия цензо-
ров, сколько усилила противоречия и непоследовательность в работе с газе-
тами в разных регионах. Местные военно-цензурные комиссии держали себя
«совершенно особняком» от установлений по надзору за печатью. Щербатов
предложил разделить сферы ответственности: ГУГШ давало бы рекомендации
по военной части цензуры, МВД - по «вопросам, непосредственно к войне
не относящимся». Для устранения несогласованности следовало объединить
«всех лиц военного и гражданского ведомств, на которых возложен просмотр
произведений печати, в одном учреждении». Министр считал целесообраз-
ным введение одинаковой цензуры на всей территории империи, о чём «дав-
но уже ходатайствуют начальники некоторых военных округов (Московского,
Казанского)»50.
Янушкевич скептически отнёсся к идеям Щербатова, прежде всего к объе-
динению военной цензуры под властью одного учреждения. Упразднение «ча-
стичной» цензуры он считал неуместным с политической точки зрения, так как
это «фактически было бы началом возвращения на всей территории империи
к принципу предварительной цензуры», против чего «некоторые министерства»
категорически возражали51. В целом же он защищал «Временное положение»,
признавая лишь определённые кадровые и организационные недостатки. В его
письме читается критика в адрес МВД, которое якобы не помогало совер-
шенствовать работу военно-цензурных комиссий, не работало над улучшением
кадрового состава цензоров, для чего имело больше возможностей. В письме
новому военному министру А.А. Поливанову генерал сетовал на смешение во-
енной и политической цензуры. Одним из результатов, по его мнению, стало
появление «белых пятен» в московских газетах, хотя Москва не входила в театр
военных действий и её печать не должна была проходить предварительный
просмотр. Выход он видел в ограничении военной цензуры «Перечнем», ко-
торый, «весьма возможно, требует пересмотра» и которому цензоры должны
следовать «с полною твёрдостью»52.
Поливанов в своих мемуарах упомянул встречу с представителями печа-
ти в июне 1915 г., на которой выступил за реформирование военной цензу-
ры, считая её «инстанцией, ограждающей военные тайны»53. По утверждению
48
Гессен И.В. Внутренняя жизнь // Ежегодник газеты «Речь» на 1916 год. Пг., 1916. С. 207-208;
Гессен И.В. В двух веках... С. 336.
49
Беседа с кн. Н.Б. Щербатовым // Русское слово. 1915. 12 июня.
50
Лемке М.К. Указ. соч. С. 392-394.
51
Там же. С. 392-395.
52
Там же. С. 404.
53
Бей Е.В. Военный министр А.А. Поливанов - «генерал от политики». М., 2020. С. 280.
104
кн. В.Н. Шаховского, Алексей Андреевич указал представителям военного ми-
нистерства в этом вопросе «идти на всякие уступки» Думе54. Согласно показа-
ниям генерала Беляева Чрезвычайной следственной комиссии, в июле 1915 г.
Поливанов «по соглашению с председателем Думы просил, чтобы в день от-
крытия, при декларации правительства и ответных речах, присутствовал пред-
седатель главной цензурной комиссии… но ему не было дано вполне опреде-
лённой инструкции. Я говорил тогда, что Звонникова мне ужасно жаль, так
неопределённо его положение»55.
Накануне созыва Думы законопроект о военной цензуре обсуждал-
ся фракциями без особого энтузиазма. Показателен в этом смысле доклад
кн. Д.И. Шаховского на заседании ЦК конституционно-демократической пар-
тии 16 июня 1915 г. В предложенной программе Дмитрий Иванович не затро-
нул вопрос о положении печати и о цензуре, как предлагали А.Я. Ефимович
и В.А. Степанов56. Тем не менее в выступлениях на открытии сессии 19 июля
эта тема заняла видное место и стала дополнительным поводом для критики
правительства. И.Н. Ефремов, говоря о недостатках снабжения армии, отме-
чал «чрезмерную строгость» цензуры, из-за которой печать «создавала даже
ложное представление о наших силах и силах противника»57. Милюков указал
на практику «цензурных изъятий, вызываемых чисто политическими сообра-
жениями, а иногда и простым недомыслием неопытного персонала цензоров».
По его мнению, это создаёт почву для «всевозможных слухов и толков», с ко-
торыми власть теперь вынуждена бороться58. М.А. Караулов подчеркнул па-
губность пустых газетных полос, которые в народном сознании «заполняются
в избытке слухами, рассказами самого нелепого содержания». Его призыв «ос-
вободить» печать сопровождался рукоплесканиями на всех скамьях59. Огласку
получил также скандал из-за сокращения стенограмм речей А.Ф. Керенского
и Н.С. Чхеидзе60.
Вопрос о реформе военной цензуры поднимался на заседании 20 июля.
И.В. Годнев заявил, что «никакого действующего положения о военной цен-
зуре нет», так как военный министр якобы не внёс законопроект до 27 марта,
а думская канцелярия получила пакет с документами только 3 апреля. Депутат
призвал рассмотреть и принять законопроект в семидневный срок, а до этого
формально печать «ничем не будет стеснена». Дума одобрила это предложение,
тем более что следующую неделю планировалось посвятить работе в комисси-
ях61. Первоначально разработку проекта закона предполагалось поручить ко-
миссиям о печати и по военным и морским делам62, однако 1 августа рассмо-
трение поручили только комиссии о печати63. На её первом заседании 22 июля
54
Шаховской В.Н. Указ. соч. С. 152-153.
55
Падение царского режима. Стенографические отчёты допросов и показаний, данных
в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. Т. 2. М.; Л., 1926.
С. 217.
56
Протоколы Центрального комитета конституционно-демократической партии... Т. 3. С. 114.
57
Государственная дума. Стенографические отчёты. Созыв IV. Сессия IV. Пг., 1915. Стб. 88.
58
Там же. Стб. 98.
59
Там же. Стб. 143.
60
Там же. Стб. 196, 197.
61
Там же. Стб. 205, 207, 208.
62
РГИА, ф. 1278, оп. 7, д. 398, л. 2, 21.
63
Там же, л. 22; Государственная дума. Стенографические отчёты. Созыв IV. Сессия IV.
Стб. 243.
105
председателем с минимальным перевесом (9 против 8 голосов) был избран
Н.П. Шубинский, его главный конкурент И.Н. Ефремов стал заместителем,
докладчиком в Думе назначен гр. Д.П. Капнист64.
Второе заседание комиссии состоялось только 2 августа 1915 г. На него при-
гласили Звонникова, Беляева, председателя Петроградской военно-цензурной
комиссии генерал-майора П.Д. Струкова, начальника Главного управления по
делам печати А.А. Катенина, и.о. председателя Петроградского комитета по
делам печати А.М. Андрияшева, вице-директора Первого департамента Ми-
нистерства юстиции А.В. Лядова. Однако уже через 20 минут заседание было
закрыто вследствие того, что член комиссии прогрессист Н.И. Гродзицкий за-
явил, что не получил повестку на 22 июля и не смог поучаствовать в выборах
председателя. Ефремов уклончиво ответил, что если факт неполучения будет
признан, то, возможно, потребуются новые выборы. Другие кадеты в комиссии
поддержали эту идею. П.В. Герасимов считал, что в данной ситуации целе-
сообразно проводить заседание под председательством заместителя. Милюков
призвал приостановить работу комиссии «ввиду предстоящего 3 августа пере-
избрания её состава», с чем согласился и правый депутат В.Н. Снежков. Пред-
ложение приняли единогласно65.
На заседании комиссии 4 августа присутствовали те же гражданские и во-
енные чины, за исключением Андрияшева и Лядова. К работе присоединились
и представители Морского министерства капитаны Б.И. Доливо-Добровольский
и М.И. Дунин-Барковский. Во вступительном слове гр. Капнист отметил, что
«Временное положение» фактически не работало, его «суровость» избирательна
и непоследовательна. Комиссии, по мнению докладчика, предстояло «точно
определить… как пространство, на котором должна действовать военная цензу-
ра, так и объём восходящего на её рассмотрение печатного материала»66.
Лишь правые депутаты Г.А. Шечков и С.Н. Алексеев полагали, что с не-
избежными неудобствами печать должна мириться «ради высшей цели - блага
армии». Другие члены комиссии были настроены изменить порядок работы
военной цензуры и ограничить её полномочия. В.А. Маклаков считал, что пре-
жде всего необходимо «освободить» законопроект от понятия «театр военных
действий» и составить общие для всей страны правила. По его мнению, воен-
ной цензурой должны заведовать «лица военные», оценивающие материалы
«исключительно со своей военной точки зрения». Для этого нужны специаль-
ные органы цензуры, независимые от установлений по надзору за печатью,
которые «не в состоянии отрешиться от прежних традиций». Катенин встал на
защиту своих подчинённых, объяснив их ошибки тем, что на практике бывает
крайне трудно провести грань между «специально военными интересами и об-
щими интересами государства». Беляев высказался в гораздо более благожела-
тельном для оппозиции тоне. Он согласился с тем, что термин «театр военных
действий» скорее ухудшил положение печати, а «внутриполитические» вопросы
следовало изъять из ведения военной цензуры67.
64
РГИА, ф. 1278, оп. 5, д. 582, л. 1 об.-2.
65
Там же, л. 4-5. Капнист на заседании Думы 3 августа просил не избирать постоянную
комиссию о печати, чтобы не терять времени на выборы председателя и ускорить работу над про-
ектом (Государственная дума. Стенографические отчёты. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 358).
66
РГИА, ф. 1278, оп. 5, д. 582, л. 9 об.
67
Там же, л. 9 об.-12 об.
106
С 5 по 9 августа 1915 г. комиссия обсуждала законопроект постатейно. Ра-
бота шла напряжённо, редактура многих статей вызывала дискуссии и споры.
Член комиссии кн. С.С. Волконский писал 7 августа врачу А.П. Губареву: «За-
седания комиссии о печати идут ежедневно по шесть часов, и то подряд. Когда
члены комиссии расходятся, и не в законном составе мы всё-таки продолжаем
заседание на свой страх, и это удаётся. Однако напряжение это не все выдер-
живают: помещики и крестьяне всё-таки удирают восвояси, несмотря на явное
порицание товарищей»68.
Наибольшие споры и сомнения вызвало предложение отказаться от разде-
ления цензуры на «полную» и «частичную». В качестве компромисса Маклаков
и Герасимов предложили оставить за Советом министров право устанавливать
«полную» цензуру в определённых районах, но комиссия их не поддержала69.
Несмотря на возражения Звонникова, были вычеркнуты и статьи, позволявшие
военному и морскому министрам издавать «подробные правила» по примене-
нию военной цензуры. Полностью удалён раздел о цензуре речей и докладов
на театре военных действий. Капнист объяснял это тем, что вблизи фронта пу-
бличные выступления в принципе маловероятны, а контроль над ними в тылу
может «крайне ограничить обмен мнений», ибо «невозможно предварительно
требовать даже конспектов от лиц, возражающих докладчику»70.
В новом варианте законопроекта отдельно подчёркивалось, что просмотру
военной цензуры подлежат только материалы из «Перечня». О его содержа-
нии в комиссии также возникли споры. Маклаков и А.И. Савенко выступили
за выработку исчерпывающего «Перечня», что облегчило бы работу редакци-
ям. Звонников парировал, что в этом случае цензоры будут вправе отказаться
просматривать статьи, «за помещение которых редактор может подвергнуться
ответственности»71. В итоге «Перечень» в законопроекте всё же упомянули,
но оставили возможность его изменения Советом министров с условием вне-
сения нового варианта на рассмотрение Думы. При этом серьёзных поправок
в него комиссия не внесла. Наиболее заметная из них - снятие по предложе-
нию Н.Д. Крупенского, Гродзицкого и Милюкова запрета на оглашение сведе-
ний о железнодорожных катастрофах, если они не касаются перевозки войск
и военных грузов72. Кроме того, комиссия вывела из-под действия цензуры
перепечатки из правительственных изданий, книги на древних и классических
языках, а также стенограммы речей членов Думы и Государственного совета.
Милюков настоял на формулировке, позволявшей газетам публиковать части
стенограмм, так как они обычно не имели возможности поместить на сво-
их полосах полные отчёты73. В число источников информации, на которые
не распространялась военная цензура, включили Петроградское телеграфное
агентство74.
68
Цит. по: Представительные учреждения Российской империи в 1906-1917 гг.: материалы
перлюстрации Департамента полиции / Отв. ред. В.В. Шелохаев, сост. К.А. Соловьёв. М., 2014.
С. 441.
69
РГИА, ф. 1278, оп. 5, д. 582, л. 18-18 об.
70
Там же, л. 14 об.
71
Там же, л. 15 об.
72
Там же, л. 30-30 об.
73
Там же, л. 17.
74
РГВИА, ф. 2003, оп. 2, д. 959, л. 183.
107
Заметно изменялся состав Главной и местных военно-цензурных комис-
сий: из них исключались представители МВД. Примечательно, что комиссия
поддержала это предложение без какого-либо сопротивления. Лишь Кате-
нин указал, что в вопросах цензуры «едва ли удастся обойтись» без почтово--
телеграфного ведомства75. В итоге осталась оговорка о возможности пригла-
шать на заседания комиссий представителей других ведомств, а также печати.
Другое важное нововведение: цензорами могли назначаться в первую очередь
военные чины (при цензуре печати - офицеры), и лишь за их недостатком -
гражданские, тогда как в правительственном варианте «Временного положе-
ния» было наоборот. Цензору следовало иметь образование не ниже среднего,
его максимальное вознаграждение повышалось с 3 до 5 руб. в сутки.
Комиссия стремилась урегулировать отношения цензуры и редакций. Так,
ежедневные утренние газеты Петрограда и Москвы получили возможность пре-
доставлять гранки в цензуру за 2 часа до выхода номера. В прочих местностях
империи вводился фиксированный срок предоставления - с 6 часов вечера до
1 часа ночи. Всем ежедневным вечерним изданиям полагалось предоставлять
гранки с 8 часов утра, но не позже, чем за 2 часа до выхода номера. Цензоры
обязывались рассматривать гранки ежедневных газет через 2 часа после их по-
лучения, еженедельных изданий - не позже, чем через сутки, ежемесячных -
не позже, чем через трое суток.
Отдельно обсуждалось положение с цензурой писем и телеграмм. Ми-
люков предложил установить недельный срок просмотра корреспонденции,
так как длительные задержки и изъятия, ставшие обыденностью, вызывали
массовые нарекания. Струков ответил, что в Петрограде скопились огром-
ные «залежи» корреспонденции и, чтобы справиться с её растущим потоком,
необходимо увеличить количество цензоров с 200 до 450. Герасимов поддер-
жал Милюкова, отметив, что затруднения цензуры не должны служить по-
водом для отказа от предельных сроков рассмотрения. В.П. Шеин возразил,
что эта мера едва ли поможет, а возможно, сделает хуже, так как почтово--
телеграфное ведомство «из опасения нарушить срок будет пропускать письма
без всякой цензуры». Тем не менее недельный срок установили, но только
для открыток на русском языке. Закрытые письма могли пробыть в цензуре
не более месяца76.
Облегчая условия работы редакций, новое «Положение о военной цензуре»
усиливало ответственность за разглашение военных тайн. Так, виновный за
помещение в каком-либо издании сведений без разрешения военной цензуры
мог быть заключён в тюрьму на срок от одного года и четырёх месяцев до двух
лет (ранее - от двух месяцев до года). Увеличивался штраф за публикацию све-
дений вопреки запрету военной цензуры - от 1 до 10 тыс. руб. (ранее - от 500
до 10 тыс.). Отклонено предложение Герасимова понизить размер минималь-
ного штрафа до 100 руб.77 При этом комиссия приняла предложение Шеина
упомянуть о возможности изъятия уже проданных номеров с запрещёнными
сведениями и об ответственности лиц, которые будут распространять указан-
ные издания78. Несмотря на эти ужесточения, утверждался судебный порядок
75
РГИА, ф. 1278, оп. 5, д. 582, л. 22.
76
Там же, л. 37-37 об.
77
Там же, л. 39-39 об.
78
Там же, л. 41.
108
производства дел о нарушении постановлений о военной цензуре, на чём на-
стаивали Герасимов и Маклаков79.
Таким образом, комиссия о печати сумела рассмотреть законопроект за по-
ложенные 7 дней. Текст был роздан депутатам 13 августа и заявлен «со спешно-
стью» 18 августа, но очередь до него дошла только через неделю80. Выступивший
с докладом Капнист отметил, что комиссия «пришла к единогласному заклю-
чению о необходимости полного перестроения» законопроекта81. Н.Е. Мар-
ков заявил, что правые поддержат закон, хотя и упрекнул правительство за
«поспешное» ослабление цензуры в угоду Прогрессивному блоку. Он привёл
в пример союзные страны, где под действие цензуры попадали и политические
новости82. Милюков также отметил существование жёсткой цензуры в Англии
и Франции, но добавил, что в России её злоупотребления «принимают особый
характер, так как они развиваются на основе старых привычек»83. Савенко при-
вёл множество примеров «химически чистого произвола» цензуры в отношении
провинциальной, в частности киевской печати. Он отметил, что и прошлый
вариант «Временного положения» не был плох, проблема заключалась в «ис-
полнителях», работу которых и следовало упорядочить84. В.И. Хаустов и Ке-
ренский обратили внимание на тяжёлое положение рабочей печати, приведя
в пример газету «Утро», закрытую после выхода двух номеров85. М.И. Скобелев
назвал законопроект попыткой сохранить в руках Совета министров контроль
над печатью и заявил, что в таком виде социал-демократическая фракция его
«отвергает»86.
Подробное обсуждение законопроекта продолжилось 28 августа. А.С. Су-
ханов, М.С. Аджемов, М.Х. Бомаш и В.В. Шульгин привели многочисленные
примеры «удушения» печати в целях борьбы с обсуждением рабочего, еврей-
ского и других вопросов87. Гродзицкий от лица прогрессистов раскритиковал
идею распространения военной цензуры на всю территорию империи, посето-
вав на усиление кар для редакторов, полную незащищённость тайной перепи-
ски и неизбежный рост расходов на контроль всей прессы и корреспонденции.
Он заключил, что «не в исполнителях причина зла, а в самой системе, ибо
военная цензура есть часть военного строя и несовместима с элементами пра-
вового строя»88. Керенский не преминул спросить депутатов «центра», где они
были во время январских заседаний 1915 г., когда «отрицательные и вредные
для страны стороны режима военной цензуры… были совершенно всем уже
очевидны?». Он утверждал, что оказался единственным, кто критиковал воен-
ную цензуру, правда, только в бюджетной комиссии89.
В.А. Маклаков выступил с защитой проекта, напомнив, что в основе не-
свободы печати лежало принятие Думой в июне 1912 г. закона «об изменении
действующих законов о государственной измене путём шпионства». Одна из его
79
Там же, л. 38-38 об.
80
Государственная дума. Стенографические отчёты. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 858, 997.
81
Там же. Стб. 1009.
82
Там же. Стб. 1041, 1045-1046.
83
Там же. Стб. 1056-1057.
84
Там же. Стб. 1015-1016.
85
Там же. Стб. 1082, 1084.
86
Там же. Стб. 1036-1039.
87
Там же. Стб. 1130-1134.
88
Там же. Стб. 1103-1110.
89
Там же. Стб. 1134.
109
статей давала министру внутренних дел право «воспрещать сообщение в печати
сведений, касающихся внешней безопасности России». Депутат оценил это как
фактический запрет печати сообщать в военное время любые сведения о войне,
а редакторы должны были бы «притворяться, что войны не существует»90. Этот
фактор, по словам Маклакова, заставил кадетов выступить за принятие законо-
проекта. Присутствовавший на заседании Катенин признал ошибки цензоров,
но выступил против предложения Годнева и Маклакова лишить министра вну-
тренних дел права издавать обязательные постановления о печати и запрещать
публиковать сведения, касающиеся «внешней безопасности России»91. Капнист
в заключительном докладе остался недоволен заявлением Катенина, отметив,
что тот не выражал свои претензии на заседаниях комиссии92.
Постатейное обсуждение законопроекта планировалось провести 3 сентя-
бря 1915 г., однако в этот день депутаты узнали о перерыве в работе Думы. Тем
не менее консенсус по вопросу о реформе военной цензуры сложился, боль-
шая часть думцев закон поддержала бы. Только социал-демократы и трудовики
высказывались резко против, нарекания звучали и со стороны прогрессистов.
В целом почти все выступавшие на заседаниях 25 и 28 августа говорили не
столько о законопроекте, сколько о цензурном произволе и подспудно иска-
ли виноватых в сложившемся положении. Как и во многих других случаях,
нашёлся удобный повод для критики власти и оппонентов. Председательству-
ющие неоднократно просили Маркова и Милюкова «вернуться к спешности»,
но те вновь и вновь уходили от проблемы военной цензуры, обсуждая финан-
сирование «Земщины» из «рептильного фонда» и получение лидером кадетов
250 тыс. руб. от Финляндии93. Керенский в выступлении 25 августа практически
не упомянул законопроект, и после нескольких замечаний его лишили слова94.
Несмотря на это, определённая тактика в обсуждении военной цензуры всё
же присутствовала. Представители Прогрессивного блока стремились вывести
из-под удара военных - своих потенциальных союзников, обрушивая всю кри-
тику на МВД за «политизацию» военной цензуры. Скобелев по этому поводу
не без иронии заметил: «Комиссия [о] печати с миной сострадания спешит
защитить от скорпионов Министерства внутренних дел печать в тылу и призы-
вает на помощь военное ведомство… Вам может показаться, г[оспода], что все
противники политической цензуры в лице военного ведомства могут найти на-
дёжного соратника. Но я, к сожалению, должен разочаровать». Далее он при-
вёл выдержки из неизвестно как им полученной переписки ГУГШ с главным
начальником Петроградского военного округа о недопустимости распростране-
ния среди солдат газет «День», «Сеятель» и «Утренняя звезда»95. Впрочем, это
выступление оказалось исключением из общего взгляда на офицеров как на
a priori лучших военных цензоров, чем чины МВД.
Правительство и военная цензура между думскими сессиями. Летом и в на-
чале осени 1915 г. в контроле над прессой произошли некоторые послабления.
Председатель Московского комитета по делам печати А.А. Сидоров впослед-
ствии вспоминал, что Щербатов и товарищ министра кн. В.М. Волконский,
90
Там же. Стб. 1117-1120.
91
Там же. Стб. 1171.
92
Там же. Стб. 1174.
93
Там же. Стб. 1071, 1072, 1074.
94
Там же. Стб. 1085-1086.
95
Там же. Стб. 1032.
110
«видимо, хотели изменить положение печати». В это время снимались наи-
более одиозные запреты, например, на упоминание Г.Е. Распутина96. Кадеты
публично отмечали эти улучшения, прозрачно намекая на благотворную роль
Поливанова. «В последние недели мы присутствуем при попытке ввести цен-
зуру в рамки строго военных потребностей», - заявлял Милюков на заседании
Думы 25 августа97. И.В. Гессен констатировал в конце 1915 г., что печать «по-
лучила возможность полнее освещать вопросы внутренней политики, пределы
действия военной цензуры стали сокращаться. Этому способствовали больше
всего именно военные власти»98.
Однако с прекращением заседаний Думы в прессе и среди депутатов на-
чали распространяться сведения о грядущем ужесточении цензуры. В сентя-
бре 1915 г. кадеты Ф.И. Родичев и А.И. Шингарёв встретились с кн. Щер-
батовым по поводу слухов о внесённом в Совет министров «законопроекте
о восстановлении предварительной цензуры». Министр внутренних дел «ста-
рался успокоить депутацию… в том смысле, что проект не будет осуществлён,
указывая, что сам он не является его сторонником, но жалуясь при этом на
излишества, допускаемые печатью». Наибольшее сопротивление проекту, по
словам Родичева, оказали Поливанов и министр иностранных дел С.Д. Са-
зонов, «защищали только [С.В.] Рухлов, [В.Н.] Шаховской и, с оговорками,
[А.Д.] Самарин»99.
Слухи имели под собой основания. Ещё в конце августа 1915 г. в прави-
тельстве активно обсуждался вопрос о необходимости усиления контроля над
газетами. Согласно записям А.Н. Яхонтова, на заседании Совета министров
26 августа Горемыкин заявил, что «военная власть должна принять все меры
к успокоению печати», а МВД «обязано помочь в этом». Щербатов в ответ
посетовал, что его ведомство «бессильно перед усмотрением Ставки», которая
высказалась за невмешательство военной цензуры в политические вопросы. На
требование Горемыкина «вычёркивать побольше всю газетную ерунду» глав-
ный начальник Петроградского военного округа генерал П.А. Фролов сослался
на директивы Ставки и Главной военно-цензурной комиссии и дал понять,
что будет выполнять только их. Поливанов, в свою очередь, прямо заявил, что
«военное ведомство должно быть вне политики. Это не его дело»100.
Кн. В.Н. Шаховской считал, что Поливанову, искавшему «популярности…
в широких либеральных кругах и даже в самых левых слоях», представлялось бо-
лее выгодным отдать инициативу Думе, нежели искать союзников в правитель-
стве. По его мнению, Алексей Андреевич находился в «молчаливой оппозиции»
Совету министров, считавшему необходимым «установление согласованной ра-
боты военной и общеполитической цензуры под военным флагом»101. К приме-
ру, Сазонов на заседании 26 августа отметил, что Англия и Франция «в ужасе
96
Сидоров А.А. Из записок московского цензора // Голос минувшего. 1918. № 1-3. С. 106.
97
Государственная дума. Стенографические отчёты. Созыв IV. Сессия IV. Пг., 1915. Стб. 1069.
98
Гессен И.В. Внутренняя жизнь. С. 208. Примечательно, что Поливанов привёл в своих вос-
поминаниях пространную цитату из статьи Гессена (Бей Е.В. Военный министр А.А. Поливанов…
С. 392).
99
Протоколы Центрального комитета конституционно-демократической партии... Т.
3.
С. 172.
100 Тяжёлые дни. Секретные заседания Совета министров 16 июля - 2 сентября 1915 г. // Ар-
хив русской революции. Т. 18. М., 1993. С. 117.
101 Шаховской В.Н. Указ. соч. С. 152.
111
от той разнузданности, которая царит в русской печати», приведя в пример
сообщение в «дрянном “Вечернем времени”» о покушении на вел. кн. Николая
Николаевича. Он добавил, что в Германии «широко понимают военную цензу-
ру и не разгораживают её по ведомствам». Другие члены правительства, считав-
шие важным тесное взаимодействие с Думой, также склонялись к «расшири-
тельному» толкованию военной цензуры. Так, недовольство позицией Фролова
по этому вопросу выразил государственный контролёр П.А. Харитонов. Глав-
ноуправляющий землеустройством и земледелием А.В. Кривошеин заявил, что
«г[оспода] генералы плюют на всех нас и ничего не желают делать». На просьбу
Поливанова дать конкретные указания он ответил, что военными цензорами
должны руководить «патриотическое чувство и любовь к страдающей роди-
не»102. Фактически противопоставив себя правительству, военный министр, тем
не менее, в конфликты и пререкания не вступал, ограничиваясь замечаниями
и короткими фразами. «Открыто в заседаниях Совета [министров] он не возра-
жал, наоборот, как бы соглашался, но когда дело подходило к осуществлению,
то им употреблялись все усилия, чтобы возможно затянуть дело», - вспоминал
Шаховской103.
Перестановки в правительстве осенью 1915 г. также не сулили печати улуч-
шений в её положении. Нужно отметить, что публично за ужесточение цензуры
новые представители власти не высказывались. Так, министр внутренних дел
А.Н. Хвостов в интервью газетам 27 сентября назвал предварительную цензуру
«абсурдом», сравнив её введение с возвращением к крепостному праву104. Од-
нако, по утверждению Поливанова, именно он предложил председателю Сове-
та министров ввести в Москве военное положение, расширявшее полномочия
командующего военным округом, в том числе и в отношении прессы. Так или
иначе, в ноябре 1915 г. Горемыкин предложил присоединить Московский во-
енный округ к театру военных действий, чтобы обуздать «особенно ненавист-
ную ему московскую печать»105. «Всё говорило о том, что Горемыкин, Хвостов
и [С.П.] Белецкий хотят сильно сжать печать, и что они считают деятельность
военной цензуры недостаточно ограждающей интересы политики», - вспоми-
нал впоследствии Сидоров106.
Новое «Положение о военной цензуре». На этом фоне судьба законопроекта
о военной цензуре приобрела особое значение. Неудивительно, что в февра-
ле 1916 г., с возвращением Думы к работе, ведущие газеты обратили на него
внимание. «Новое время» по обыкновению весьма осторожно критиковало
правительство, основную вину и ответственность возлагая на законодательные
учреждения. В редакционной статье за 11 февраля отмечалось: «Вот уже десять
лет, как в России существует институт народного представительства… За всё
это время Гос[ударственная] дума решительно ничего не сделала для обще-
го положения прессы… Законопроект о положении прессы валялся и валяется
в думских комиссиях совершенно так же, как и всякий другой, не интересу-
ющий депутатов, непонятный для них закон»107. В размещённой рядом статье
102 Тяжёлые дни. Секретные заседания Совета министров… С. 117, 127.
103 Шаховской В.Н. Указ. соч. С. 153.
104 У нового министра // Биржевые ведомости. 1915. 27 сентября.
105 Бей Е.В. Военный министр А.А. Поливанов… С. 392.
106 Сидоров А.А. Указ. соч. С. 107.
107 Государственная дума и свобода печати // Новое время. 1916. 11 февраля. Примечательно,
что эту статью Скобелев процитировал на заседании Думы (Государственная дума. Стенографиче-
112
М.О. Меньшиков напомнил «либеральным партиям» их одобрение в 1912 г.
упомянутого выше закона о «шпионстве». «В числе многих ошибок это была
одна из наиболее роковых, и народному представительству нужно подумать,
как исправить её», - заключил публицист108.
«Русские ведомости» остались недовольны подготовленным думской ко-
миссией законопроектом. Время предоставления гранок в цензуру - два часа
до выхода номера - повторяло одно из положений рассматривавшегося нака-
нуне войны законопроекта о печати, признанного редакторами «равносильным
упразднению современной газеты». Особенно это ударяло по утренним газе-
там, которые, выполняя все предписания военной цензуры, не могли публико-
вать ночные новости и рисковали «потерять интерес новизны». С точки зрения
«Русских ведомостей», эта норма не соблюдалась в 1914-1915 гг., положение
не изменилось бы и в случае одобрения думского варианта законопроекта109.
Примечательно, что копии этой критической статьи были розданы депутатам
накануне заседания 25 февраля, на неё ссылались в своих выступлениях Кап-
нист и Гродзицкий110.
Постатейное рассмотрение законопроекта, запланированное ещё на пер-
вый день работы, неоднократно откладывалось, хотя осуждение «произвола»
военной цензуры продолжалось. Поливанов вспоминал, что «оживление и смех
возбуждало сообщение депутатами разных секретных циркуляров, ограничи-
тельных по отношению к печати»111. Так, Савенко рассказал о запрете пропу-
скать сведения о «разномыслиях» в Совете министров, о его распоряжениях
о расходах военного времени, о вероятных кандидатах на министерские посты,
о взаимоотношениях правительства с Думой и его предположениях «в обла-
сти окраинного, инородческого, вероисповедного и иных однородных вопро-
сов»112. Большое внимание привлёк спешный запрос военному министру по
поводу «неправомерности военной цензуры», не допустившей к публикации
речь Чхеидзе на заседании 10 февраля113.
Постатейное рассмотрение проходило на заседаниях 15 и 22 февраля
1916 г. Последнее было полностью посвящено вопросу о военной цензуре.
В.А. Маклаков предложил подчеркнуть в ст. 2, что военная цензура заключа-
ется в запрещении к публикации сведений, которые «могут быть вредны для
военных интересов государства». Он признал, что, по сути, это означало новую
редакцию изъятой ст. 31, но без этого «по тексту нашего закона выйдет, что
единственное право цензора - просматривать печатные произведения, и боль-
ше ничего»114. Одновременно Маклаков предложил отменить ст. 113 Устава
о цензуре и печати 1913 г., позволявшую министру внутренних дел воспрещать
к опубликованию фактически любые сведения. Иными словами, право на цен-
зурное «усмотрение» оставалось у военных, но отбиралось у МВД. Обе поправ-
ки были приняты, несмотря на возражения правых против изъятия ст. 113115.
ские отчёты. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 2122).
108 Печать и парламент // Новое время. 1916. 11 февраля.
109 Законопроект о военной цензуре // Русские ведомости. 1916. 13 февраля.
110 Государственная дума. Стенографические отчёты. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 2070-2072.
111 Бей Е.В. Военный министр А.А. Поливанов… С. 505.
112 Государственная дума. Стенографические отчёты. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 1676-1677.
113 Там же. Стб. 1568.
114 Там же. Стб. 1674.
115 Там же. Стб. 1677.
113
Гродзицкому и Маклакову удалось добиться смягчения некоторых нака-
заний. Так, предельный срок за публикацию сведений «вопреки воспреще-
нию военной цензуры» сократился до одного года четырёх месяцев, за рас-
пространение сведений «по неосмотрительности, небрежности, оплошности,
ошибке» - до восьми месяцев. Данная поправка имела важное значение, так
как лишение свободы на два года означало поражение в избирательных пра-
вах116. Стоит отметить также одобрение поправки Бомаша, который, упомянув
о репрессиях против еврейской печати в 1914-1915 гг., предложил прописать,
что язык не может являться основанием для закрытия издания117. Приняли
и поправку Годнева, предложившего уточнить в ст. 3, что военной цензуре не
подлежат издания законодательных учреждений, т.е. Думы и Государственного
совета118.
Значительную часть поправок отклонили. Не удалась попытка Годнева ис-
ключить из ст. 2 право Совета министров вносить изменения в «Перечень»
даже в период работы законодательных учреждений119. Капнист пояснил, что
добавления всё равно должны вноситься на рассмотрение Думы и могут быть
«немедленно отвергнуты» депутатами120. Отклонены поправки Караулова, пред-
лагавшего отменить запрет сообщать о расположении санитарных частей и раз-
решать становиться цензорами только людям с высшим образованием121. Суха-
нов предложил разрешить сообщать о «злоупотреблениях» в снабжении армии
и работе оборонной промышленности, а также исключить из списка запретных
тем «народные волнения»122. Первоначально Дума поддержала Маклакова, счи-
тавшего, что вся ответственность за публикацию запретных сведений должна
ложиться на редактора, а не на автора. Однако Капнист в последний момент
перед общим голосованием по законопроекту указал, что ст. 45 и 46 касаются
неповременных изданий, и в этом случае «постепенность» ответственности (ав-
тор, издатель, типографщик, книгопродавец) должна быть сохранена. В приня-
том Думой варианте с авторов сняли ответственность только по повременным
изданиям (ст. 43)123.
По итогам прений депутатам удалось внести ряд существенных поправок,
однако основные положения законопроекта о военной цензуре сохранились.
Для социал-демократов, трудовиков и части прогрессистов такой вариант
остался неприемлемым. Гродзицкий вновь предложил вернуться к разделению
цензуры на «полную» и «частичную», выступив против надевания «военного
намордника на всю империю». Капнист продолжал настаивать, что в первона-
чальном варианте «Временное положение» не проработало «ни дня», а оглаше-
ние военных тайн в Москве не менее опасно, чем на театре военных действий.
Милюков от лица кадетов поддержал законопроект, считая, что его критика
связана с плохим знанием текста и внесённых правок124. В итоге новое «Поло-
жение о военной цензуре» одобрили, хотя и под критические замечания левых.
116 Там же. Стб. 2098, 2102.
117 Там же. Стб. 2112.
118 Там же. Стб. 2060.
119 Там же. Стб. 1696. За поправку проголосовали 77 депутатов, против - 83.
120 Там же. Стб. 1695.
121 Там же. Стб. 2051, 2084.
122 Там же. Стб. 2053, 2054, 2056.
123 Там же. Стб. 2106, 2121.
124 Там же. Стб. 2071-2075.
114
Суханов в заключительном слове заявил, что «страна в лице печати ждала от
Государственной думы спасения», но её саму нужно спасать из «когтей реак-
ции, которая глубже и глубже впитывается в её тело»125. Интерес к дебатам
в Думе проявила и пресса союзников. «Аналогия с британскими условиями хо-
рошо видна, так как одного цензора обвиняют в том, что он вычеркнул цитату
из Пушкина как опасную для общественного порядка», - сообщал корреспон-
дент лондонской «Таймс» в Петрограде126.
Накануне Февраля. С весны 1916 г., после передачи законопроекта в Госу-
дарственный совет, думская оппозиция сменила тактику, отныне показывая,
как правительство само нарушает «Временное положение». Так, обсуждение
сметы МВД 29 февраля стало поводом для резкой критики ведомства за отно-
шение к печати и даже к военным цензорам. Савенко заявил, что в Киеве они
«терроризированы местным председателем комитета по делам печати», прямо
указывавшим, что не следует публиковать127. Как и ранее, армия выставлялась
в качестве антипода, примера здравого смысла в отношении прессы и общества
в целом. Капнист, к примеру, заявил, что Военное министерство ведёт борьбу
с МВД, чтобы «отстоять свою, правильную точку зрения на военную цензуру»128.
3 июня группа депутатов подала спешный запрос к военному министру
и министру внутренних дел «по поводу незакономерных действий чинов воен-
ной цензуры». В нём, в частности, приводились выдержки из апрельских и май-
ских циркуляров, предписывавших не пропускать в печать сведения «против
обер-прокурора Святейшего Синода», о «расстройстве транспорта» и о деся-
тилетнем юбилее Думы. Аджемов, комментируя депутатский запрос, сообщил,
что нововременский журналист Меньшиков «взят под цензуру», а ещё в марте
цензорам поступил запрет публиковать какие-либо сведения о бывшем мини-
стре внутренних дел Хвостове129.
В марте 1916 г. законопроект о военной цензуре поступил в Государственный
совет, постатейное рассмотрение было возложено на комиссии законодательных
предположений и по военным и морским делам130. По замечанию «Речи», на
заседании комиссий 22 марта «правые не оставили без возражений ни одной из
частей проекта». Газета также отметила «странное» поведение представителей
правительства. Максимально податливые в думской комиссии о печати, в Госу-
дарственном совете они «категорически» настаивали на фактическом возврате
законопроекта к варианту, внесённому Сухомлиновым весной 1915 г.131
Полного возврата не получилось, хотя к маю 1916 г. комиссии Государствен-
ного совета сделали несколько ключевых корректировок. Так, командующим
фронтами и армиями, а также начальникам военных округов возвратили право
приостанавливать повременные издания и требовать «в исключительных случа-
ях» предоставления их материалов в военную цензуру. Убрали запрет закрывать
газеты на основании их языка. Большинством голосов (13 против 10) приняли
поправку, дававшую военному министру право изменять и дополнять «Перечень»
по соглашению с МВД и МИД. Ограничения могли вводиться не только через
125 Там же. Стб. 2133.
126 Russian censorship defects // Times. 1916. 2 March.
127 Государственная дума. Стенографические отчёты. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 2426.
128 Там же. Стб. 2456.
129 Там же. Стб. 4820-4823.
130 Государственный совет. Стенографические отчёты. Сессия XII. Пг., 1916. Стб. 866.
131 О военной цензуре // Речь. 1916. 23 марта.
115
обновление «Перечня», но и «особыми распоряжениями» командующих или
начальников военных округов. Министр внутренних дел отныне мог давать чи-
нам ведомства вознаграждение «за особые труды» на службе в цензуре. Ст. 113
Устава о цензуре и печати не отменялась, а приостанавливалась на время дей-
ствия военной цензуры. В военно-цензурные комиссии возвратили представи-
телей МВД132. Наконец, по предложению барона Ю.А. Икскюля и А.А. Мака-
рова частичные воспроизведения печатью стенограмм Думы и Совета отныне
также подлежали военной цензуре133. Очевидно, что в таком виде законопроект
подлежал обсуждению в согласительной комиссии, где представители Думы
отвергли бы новые поправки. «Принятый комиссией законопроект стал совер-
шенно неприемлем для Государственной думы и, таким образом, окончательно
похоронен», - заключало «Утро России»134.
С открытием пятой сессии осенью 1916 г. начался новый и заключительный
этап борьбы Думы с правительственной цензурой. Речь Милюкова 1 ноября,
вызвавшая огромный общественный резонанс, а также ряд других выступлений
на следующий день не были допущены к публикации в прессе. Одновремен-
но в Москве постановлением командующего войсками Московского военного
округа генерала И.И. Мрозовского вводилась предварительная цензура печати.
На просмотр отныне поступали все статьи и заметки со сведениями о «боевом
состоянии страны» и вообще любые материалы по усмотрению командующе-
го135. В связи с этими событиями 3 ноября министрам военному и внутренних
дел поступило сразу три депутатских запроса. Заявители ссылались на то, что
Москва не относилась к театру военных действий, а речи депутатов освобожда-
лись от цензуры согласно п. 6 ст. 4 «Временного положения» как произнесён-
ные «во исполнение долга службы и обязанностей звания»136.
Взгляд большинства Думы на цели и задачи военной цензуры влиял и на
общественные воззрения. Основные постулаты законопроекта нередко встре-
чались в письмах депутатам. К примеру, инженер Н.Б. Емельянов отмечал в за-
писке, разосланной главам думских фракций: «Военные цензоры должны быть
назначаемы военными властями и зависеть исключительно от военной власти,
но и в военно-цензурных комиссиях совершенно неуместно и нежелательно
присутствие представителей каких бы то ни было гражданских ведомств, за
исключением разве министерства иностранных дел и юстиции»137.
В самой Думе тема военной цензуры стала поводом для критики власти со
всех флангов политического спектра. Выступление Керенского, заявившего 4 но-
ября, что военная цензура «служит интересам врагов государства», было созвуч-
но речи В.М. Пуришкевича, поставившего «бессмысленную цензуру» в один ряд
с «ложью и параличом» власти138. Впрочем, любые ограничения лишь усиливали
эффект от ноябрьских выступлений депутатов. Понимая это, Милюков отмечал
на заседании 22 ноября, что «наивная цензура встала между нами и страной», но
«только подстегнула интерес к речам, подчеркнула их значительность»139.
132 РГВИА, ф. 89, оп. 1, д. 46, л. 64.
133 Там же, ф. 2003, оп. 2, д. 959, л. 148.
134 Около парламента // Утро России. 1916. 25 мая.
135 Введение военной цензуры // День. 1916. 2 ноября.
136 Государственная дума. Стенографические отчёты. Созыв IV. Сессия V. Пг., 1916. Стб. 136-140.
137 РГВИА, ф. 2003, оп. 1, д. 1489, л. 221 об.
138 Государственная дума. Стенографические отчёты. Созыв IV. Сессия V. Стб. 180, 270.
139 Там же. Стб. 324.
116
На этом фоне Государственный совет вернулся к рассмотрению законопро-
екта о военной цензуре. На заседании обновлённых комиссий военно-морской
и законодательных предположений 10 декабря прогрессивная группа Совета
добилась пересмотра ключевых весенних решений. Так, вернулось уточнение,
что речи членов законодательных палат от цензуры освобождаются140. При
этом после «горячих прений» административный порядок обновления «Пе-
речня» комиссии сохранили, признав предложенный Думой законодательный
«слишком громоздким при условии нынешнего времени»141. Упоминался и за-
прет сообщать в печати о переменах в составе Совета министров. Присутство-
вавшие на заседании Звонников и начальник Главного управления по делам пе-
чати В.А. Удинцев уверяли, что не знают автора этого распоряжения142. В итоге
из-за продолжительных дискуссий комиссии не успели вывести законопроект
о военной цензуре на обсуждение Государственного совета до рождественского
перерыва, а затем - и до Февральской революции.
* * *
Разработка законопроекта о военной цензуре наглядно демонстрирует
особенности законотворческого процесса и функционирования «третьеиюнь-
ской» системы. При этом первый год войны выявил ограниченность кадровых
и организационных ресурсов, не позволявшую правительству в полной мере
использовать широкие возможности, заложенные во «Временном положении
о военной цензуре». Свою роль сыграло и скрытое, а зачастую и открытое
противостояние военных и гражданских властей. Имея большие полномочия,
военная цензура за годы войны так и не обрела необходимой организационной
стройности и последовательности, создавая всё больше проблем и усиливая
раздражение в обществе и армии.
Военно-политический кризис лета 1915 г. заставил власть пересмотреть
полномочия военной цензуры. На этом фоне Дума превратилась в значимый
фактор, потенциально способный повлиять на правительственный курс и ос-
лабить контроль над печатью. Большинство депутатов выступили за то, чтобы
военная цензура не касалась политических и экономических вопросов. Однако
чётко определить, какие сферы общественной жизни относятся к войне, а ка-
кие - нет, оказалось практически невозможно. Столкнувшись с этим, Дума
так и не решилась установить определённый «Перечень» запрещённых к огла-
шению сведений. Надежды на то, что якобы «далёкие от политики» офицеры
выступят лучшими цензорами, чем чины МВД, не казались убедительными
даже некоторым депутатам. Одобренный Думой вариант «Положения о воен-
ной цензуре» содержал ряд компромиссов, вызвавших критику левых фракций,
а также части либеральной печати. Рассмотрение законопроекта Государствен-
ным советом затянулось до начала 1917 г. В результате военная цензура регули-
ровалась «временными» актами вплоть до Февральской революции, оставаясь
для Думы и значительной части общества одним из главных символов прави-
тельственного произвола.
140 Законопроект о военной цензуре в Гос[ударственном] cовете // Русские ведомости. 1916.
10 декабря.
141 В Государственном совете // Новое время. 1916. 10 декабря.
142 В Государственном совете // День. 1916. 10 декабря.
117