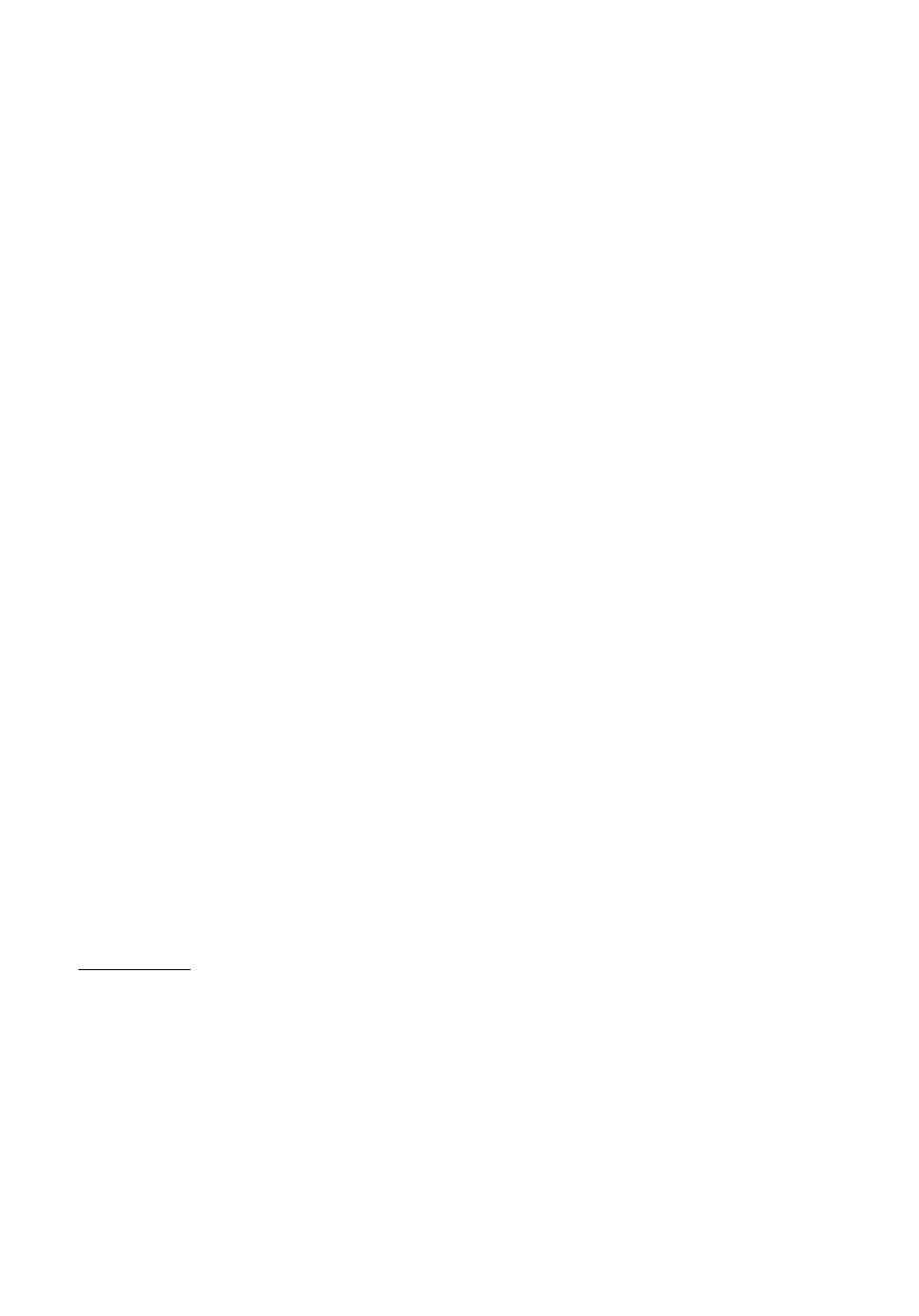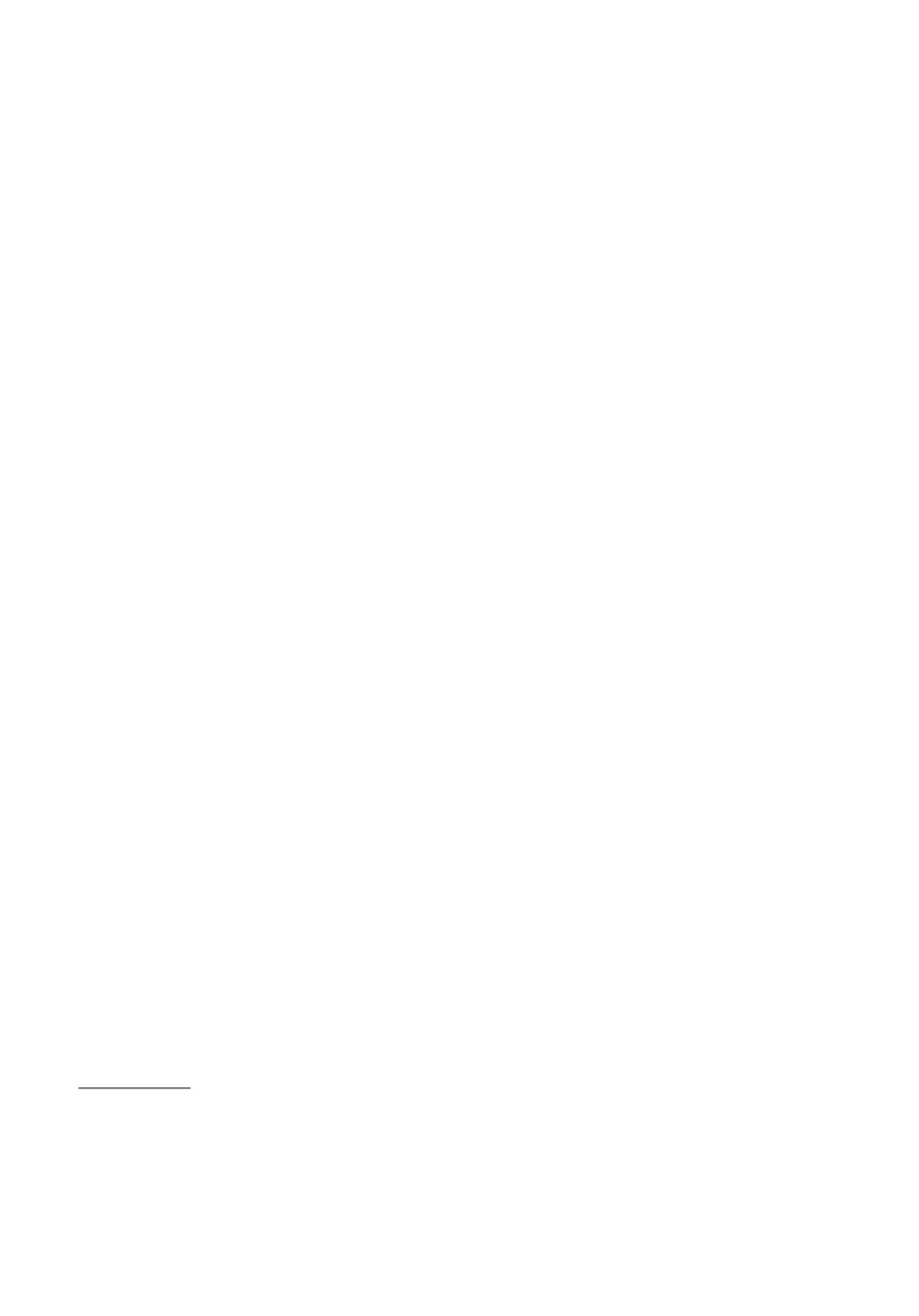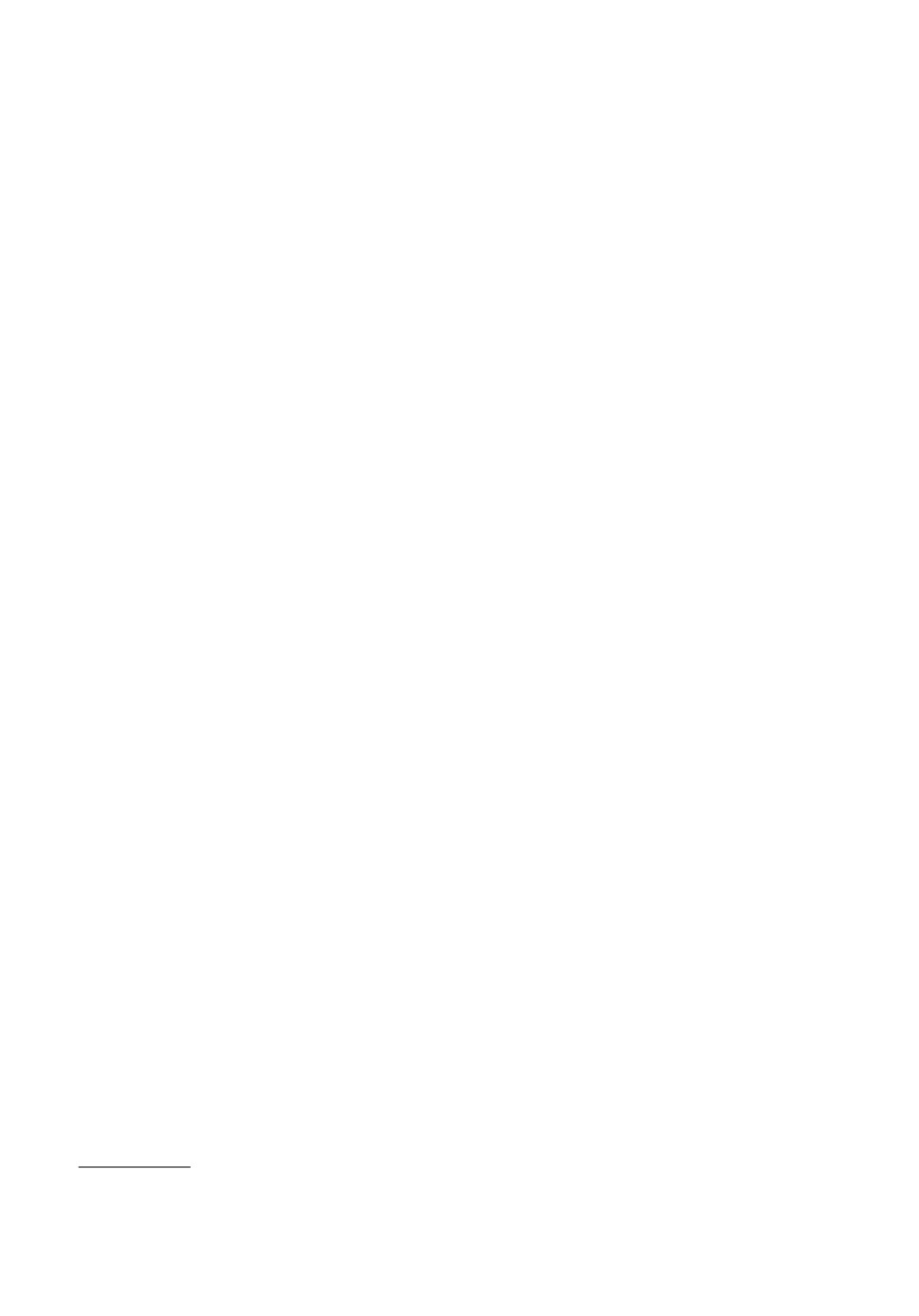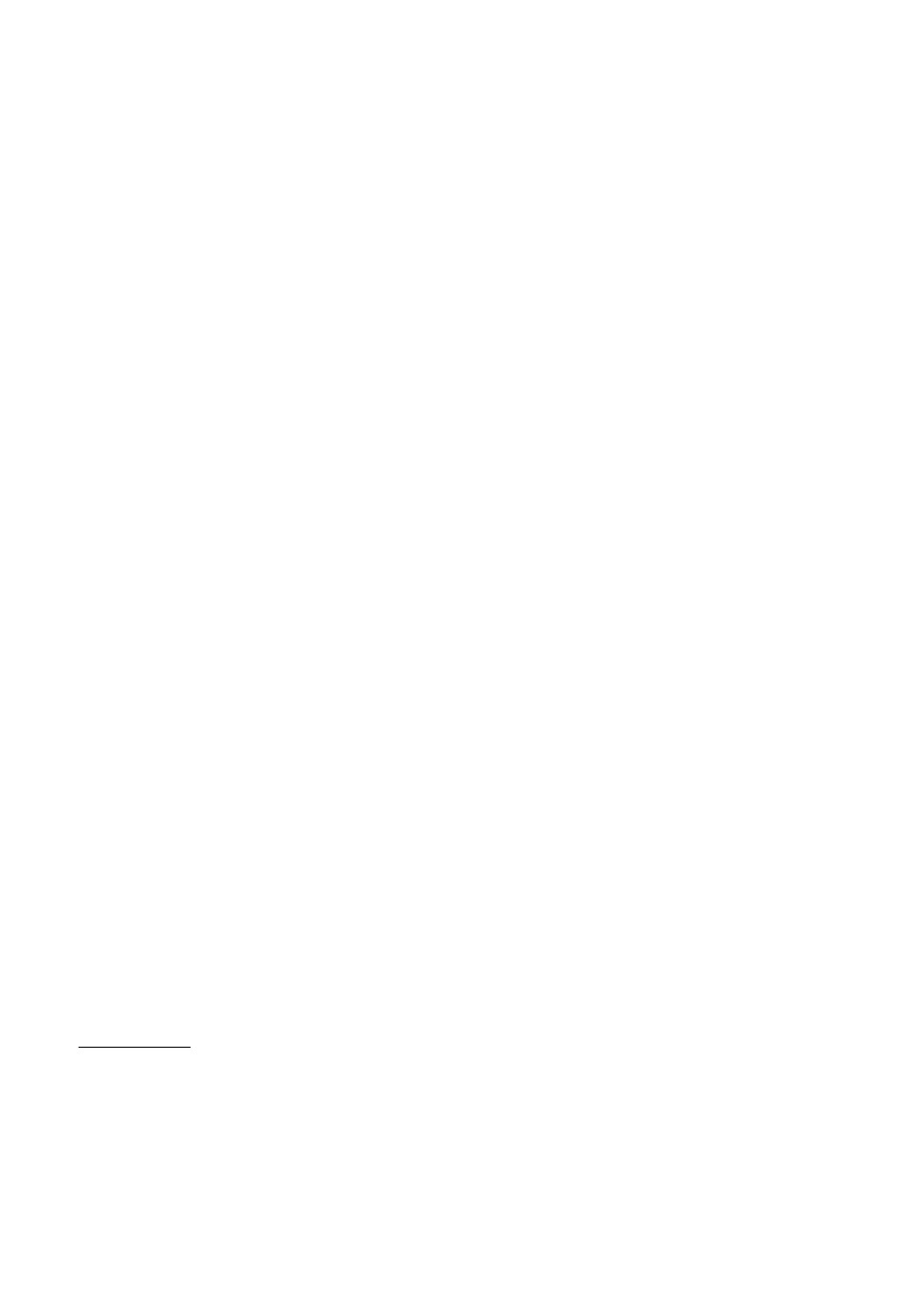Игорь Лукоянов: Революция 1905 г. в трактовке А.В. Островского
Igor Lukoianov (Saint Petersburg Institute of History, Russian Academy
of Sciences): A.V. Ostrovskii’s interpretation of the revolution 1905
DOI: 10.31857/S0869568722040124, EDN: JADEAL
В 2015 г. скоротечная болезнь оборвала жизнь А.В. Островского, написав-
шего более десятка книг2. Среди его бумаг осталось несколько больших не-
опубликованных текстов. Уже посмертно были изданы две работы3, а в 2020 г.
московский Институт системно-стратегического анализа выпустил в свет двух-
томник «Россия. Самодержавие. Революция». Основную часть его занимает
незаконченная рукопись «Самодержавие или конституция? Россия на пути
к манифесту 17 октября», претендующая на новое слово в осмыслении Первой
русской революции.
При первом же знакомстве с двухтомником бросается в глаза наличие в нём
разновременных, не совпадающих по исследовательским приёмам и подходам
пластов. Наиболее ранний из них (начало первого и значительная часть вто-
рого тома) уходит в середину 1970-х гг.4 В то время Александр Владимирович
готовил кандидатскую диссертацию «Третьеиюньский переворот 1907 года», за-
щищённую в 1977 г. Нетипичная для советской историографии тема, сформу-
лированная без использования почти волшебного понятия «кризис», к тому же
раскрывавшаяся на богатом архивном материале, а не на ленинских цитатах,
превратила защиту в яркое событие, а молодой учёный сразу заслужил репу-
тацию сильного и независимого историка. Третьеиюньский переворот в совет-
ской версии завершал революцию 1905-1907 гг. и был многими нитями связан
с обстоятельствами предшествующего времени, которые уже тогда привлекли
внимание Александра Владимировича.
Судя по собранному материалу, в 1970-1980-е гг. Островский готовил рас-
ширенный вариант защищённого текста, надеясь, по-видимому, включить его
в книгу или в будущую докторскую диссертацию. Но в этом случае ему бы
пришлось выдержать не только сильное сопротивление Е.Д. Черменского, счи-
тавшегося одним из крупнейших специалистов по политической истории «им-
периализма» и опубликовавшего в 1970 г. второе издание своей монографии
1939 г.5, но и полемику с биографами С.Ю. Витте - Б.В. Ананьичем и Р.Ш. Га-
нелиным. Избегая осложнений, историк ограничился несколькими интересны-
ми публикациями и статьями (в соавторстве с М.М. Сафоновым), в которых
критиковалась виттевская версия появления Манифеста 17 октября 1905 г.6
2
Некоторые из них получили громкую известность. См., в частности: Островский А.В. Кто
стоял за спиной Сталина? Тайны революционного подполья. М., 2002; Островский А.В. Солжени-
цын: прощание с мифом. М., 2006; Островский А.В. Кто поставил Горбачёва? М., 2010; Остров-
ский А.В. Глупость или измена? Расследование гибели СССР. М., 2011.
3
Островский А.В. Российская деревня на историческом перепутье. Конец XIX - начало
XX в. М., 2016; Островский А.В. Процветала ли Россия накануне Первой мировой войны? СПб.,
2016.
4
Об этом свидетельствуют, например, встречающиеся советские названия ряда архивов.
5
Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в первой русской революции. М., 1970.
6
Островский А.В., Сафонов М.М. Неизвестный проект Манифеста 17 октября 1905 г. // Со-
ветские архивы. 1979. № 2; Островский А.В., Сафонов М.М. Манифест 17 октября 1905 г. // Вспо-
могательные исторические дисциплины. Вып. 12. Л., 1981; Островский А.В., Сафонов М.М. К исто-
рии Манифеста 17 октября 1905 г. // Советские архивы. 1985. № 5; Островский А.В., Сафонов М.М.
128
Насколько же сохранившиеся наброски и черновики отражают авторский
замысел и в какой степени он успел оформиться? В дошедшем до читателя
виде они напоминают скорее заготовку: вполне завершённые части (в основ-
ном, в начале первого тома) перемежаются с ремарками и тезисами, в которых
намечен план будущих разделов, а также с обширными фрагментами слабо
обработанных фактических данных (конец первого тома и часть второго). Ис-
пользование этого материала, к сожалению, сильно затрудняется и отсутствием
именного указателя. К тому же публикатору далеко не везде удалось заполнить
лакуны в сносках и устранить неточности в цитатах (I, с. 228, 233, 559 и др.).
Это может создать превратное впечатление об авторе, являвшемся глубоко по-
рядочным человеком, никогда не допускавшим в работах сознательных искаже-
ний, дотошным исследователем и высокопрофессиональным источниковедом,
великолепно изучившим архивы и умевшим обнаружить в них важные новые
данные и максимально обыграть свои находки. Он всегда исходил из приори-
тета источника, даже если тот не укладывался в близкие ему схемы или оценки.
Обзор историографии также оказался дискретным и к тому же сильно сжа-
тым. Значительную часть современной литературы о Первой русской револю-
ции Александр Владимирович не успел учесть и охарактеризовать. В частности,
он даже не упомянул коллективную работу сотрудников Института российской
истории, изданную к столетию Первой русской революции7, практически ни-
чего не сказано им и про англоязычную литературу, включая работы А. Ашера,
А. Вернера и др.8 Видимо, заняться этим разделом автор рассчитывал в послед-
нюю очередь.
В какой-то мере такой историографический «нигилизм» объяснялся не-
скрываемыми симпатиями Островского к марксизму (но не в его советской
интерпретации, утратившей изначальную строгость и цельность). Доктрина
К. Маркса предполагала чёткую схему исторического процесса, в основе её
лежал специфически понимаемый экономический фундамент, а именно -
кризис капиталистического строя, при котором бедственное положение тру-
дящихся только ухудшалось и порождало революционные процессы. Но пока-
зать, как эта схема работала на российском материале, автору удалось плохо.
Говоря об экономических итогах царствования Александра III и значении для
России иностранного капитала, он почему-то поднял «проблему полуколонии»
(I, с. 142-150). Не являясь специалистом по истории финансов и банков, совер-
шенно не зная иностранной литературы, Александр Владимирович без всякой
аргументации вернулся к оценкам, характерным для советской историографии
1920-х гг., несостоятельность которых проявилась ещё в дискуссиях рубежа
1950-1960-х гг. При этом ссылки делались на справочники Министерства фи-
нансов, на статью об И.Ф. Ционе в Энциклопедическом словаре Ф.А. Брок-
гауза и И.А. Ефрона и на тенденциозную книгу В.И. Бовыкина9. Поэтому
15-17 октября 1905 г. в царской резиденции (из записок А.А. Будберга) // Английская набережная,
4. СПб., 1997. С. 391-412.
7
Первая революция в России. Взгляд через столетие. М., 2005.
8
Ascher A. The Revolution of 1905. Russia in Disarray. Stanford, 1988; Ascher A. The Revolution
of 1905. Authority restored. Stanford, 1992; Verner A.M. Crisis of Russian autocracy. Nicholas II and the
1905 revolution. Princeton, 1990; The Russian revolution of 1905: contemporary perspective / Ed. by
J.D. Smele, A. Heywood. L., 2005.
9
Бовыкин В.И. Россия накануне великих свершений. К изучению социально-экономических
предпосылок Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1988.
129
и выводы о том, что Россия в 1897-1903 гг. «оказалась перед лицом кредитной
блокады» (I, с. 163), трудно воспринимать всерьёз. Озадачивает и утвержде-
ние, будто в 1917 г. «полностью подтвердился» прогноз, высказанный яко-
бы Н.Х. Бунге в 1886 г. при характеристике возможных последствий тяжёло-
го финансового положения России (I, с. 149-150). Не менее сложно увидеть
в Русско-Китайском банке и Волжско-Вишерском горном и металлургическом
обществе «союз германского, русского и французского капиталов» (I, с. 545).
Неубедительна и оценка состояния дел в русской деревне. Сообщая о «неболь-
шом подъёме» сельского хозяйства, при котором чистый сбор зерна на душу
в 1861-1870 гг. составлял 19 пудов, а в 1891-1900 гг. - 22,3 пуда (I, с. 147),
историк тут же пишет про «вырождение крестьянства». При этом он опирается
на впечатления правого публициста С.С. Бехтеева и мнение безвестных «стари-
ков», говоривших, «что при крепостном праве было лучше» (I, с. 148).
В целом, неоригинальная оценка царствования Александра III, игнориру-
ющая современные исследования, должна подвести читателя к мысли о нали-
чии у русской революции глубинных причин, однако вместо этого неожиданно
сказано: «Одна из причин, по которым тогда оппозиционное движение захлеб-
нулось, по всей видимости, заключалась в том, что первые годы правления
Николая II оказались более благополучными, чем последние годы правления
его отца» (I, с. 162).
В результате, формально придерживаясь марксистского понимания логики
исторического процесса, Островский, по сути, ищет иные, далёкие от советских
схем, причины революции. Так, политическую нестабильность он связывает не
столько с протестной активностью масс, сколько с действиями отдельных лиц,
преследовавших свои цели и оказывавших существенное, а возможно и реша-
ющее влияние на ход событий. Важное место в его построениях отводилось
разветвлённым родственным и деловым связям И.И. Петрункевича (I, с. 151-
154), П.Б. Струве (I, с. 197-213), Н.Н. Львова (I, с. 264-268), А.А. Лопухина
(I, с. 257-259), сотрудников «Русских ведомостей» (I, с. 173) и др. Правда, из
их описания совершенно не ясно, как, например, отразилось на ходе Первой
русской революции то, что братья И.И. и М.И. Петрункевичи «были связаны
родственными узами с семьёй Бакуниных» (I, с. 154) и т.п. При этом не учи-
тывается, что знакомство и родство далеко не всегда определяет политические
симпатии и взгляды. Примеры острых разногласий между близкими родствен-
никами хорошо известны (братья В.А. и Н.А. Маклаковы и проч.), не говоря
уже о случаях единомыслия ничем более друг с другом не связанных людей.
Тем не менее Островский, вероятно, под влиянием своего научного ру-
ководителя В.С. Дякина, обоснованно констатировал: «Когда экономический
кризис достиг наибольшей остроты, консолидация революционных и оппози-
ционных сил приобретала всё бóльшие и бóльшие масштабы» (I, с. 244). В позд-
ней советской историографии подобные наблюдения свидетельствовали о том,
что представители русской буржуазии и интеллигенции выступали против са-
модержавия, а не имитировали борьбу с ним. И Александр Владимирович при-
ложил значительные усилия, доказывая свою излюбленную мысль, согласно
которой либералы активно финансировали революцию. Однако результаты его
попыток с помощью мемуаров и донесений провокаторов выявить обширные
связи революционеров в торгово-промышленной среде разочаровывают. Так,
он пишет: «Но если верить А.Е. Серебряковой, “когда начались студенческие
беспорядки, давал громадные деньги Савва Тимофеевич Морозов”» (I, с. 252).
130
Но на что шли эти средства? На студенческие беспорядки? Неужели студентам
для этого требовались «громадные деньги»? И, наконец, почему следует безо-
говорочно верить провокаторам?
Островский явно преувеличивал ценность информации, поступавшей от
полицейской агентуры. Ему казалось, что благодаря Серебряковой охранка
была в курсе происходившего «в либеральных и революционных кругах Пер-
вопрестольной», следила за поступлением из-за границы журнала «Освобожде-
ние» и его распространением из Москвы по России (I, с. 272-277). Между тем
это издание без проблем рассылалось по почте (для чего часть тиража печа-
талась на тончайшей бумаге), что не слишком заботило полицию, поскольку
его с интересом читали в самых высоких кабинетах. С другой стороны, не
стоит забывать, что секретные агенты были склонны преувеличивать свою роль
в революционном подполье и исходившую от него угрозу, поскольку от этого
прямо зависел размер их жалованья.
В книге можно обнаружить немногочисленные свидетельства (например,
А. Войткевича) о том, что для революции «материальные средства текли рекой»
(II, с. 93). Как же выглядела эта «река»? Так, известный спонсор большеви-
ков Н.П. Шмит дал М. Горькому 15 тыс. руб. на газету «Новая жизнь» и ещё
20 тыс. - на покупку оружия. А. Аргунов вспоминал, что «весной 1906 г.» эсеры
расходовали по тысяче рублей в день, однако недопустимо механически, без
каких-либо объяснений, экстраполировать эти затраты на весь год, как сделал
Островский, допускавший, что «бюджет оппозиционного и революционного
движения» в то время «может быть, превышал и миллион» (II, с. 95). Всё же
такие финансовые потоки не удалось бы полностью скрыть от полиции. Уди-
вительно, что сведения о них так и не были нигде зафиксированы. Любопытно
при этом, что японские деньги, которыми не брезговали эсеры и большевики10,
большого интереса у Александра Владимировича не вызвали, хотя они заметно
превышали пожертвования того же Шмита.
Считая, что Первую русскую революцию нужно исследовать с первого
дня царствования Николая II (I, с. 134), Островский не смог обосновать своё
убеждение во внутренней обречённости политического строя империи. Вни-
мание к различным группировкам, комбинациям и интригам не помогло ему
раскрыть содержание правительственного курса. Освещая планы преобразо-
вания Канцелярии по принятию прошений на высочайшее имя, автор книги
не поясняет, почему оно так и не состоялось. В.К. Плеве изображён им как
продолжатель политики Александра III и одновременно - как сторонник ре-
форм, готовый ввести в Государственный совет представителей «обществен-
ности» (I, с. 255-257). В сущности, в его действиях Александр Владимирович
не усмотрел ничего реформаторского. В целом, всё это не добавляет ничего
нового в картину, нарисованную Ананьичем почти 40 лет назад11.
Оригинальность же работе придаёт уверенность автора в том, что важной
составляющей русской революции являлись различные заговоры, а также ев-
10
Изнанка революции. Вооружённое восстание в России на японские средства. СПб., 1906;
Akashi Motojirō. Rakka ryusui: Colonel Akashi’s Report on His Secret Cooperation with the Russian
Revolutionary Parties during the Russo-Japanese War / Eds O. Fält, A. Kujala. Helsinki, 1988; Пав-
лов Д.Б. Русско-японская война 1904-1905 гг.: секретные операции на суше и на море. М., 2004;
Инаба Ч. Японский резидент против Российской империи. Полковник Акаси Мотодзиро и его
миссия 1904-1905 гг. М., 2013.
11
Кризис самодержавия в России. 1895-1917. Л., 1984. С. 11-154.
131
рейский вопрос. Рост революционного движения Островский пытался связать
с ограничением в правах евреев и с внешним давлением на самодержавие со
стороны Ротшильдов и других могущественных еврейских семей. Решающую
роль в российском либеральном движении он также отводил евреям (I, с. 331),
хотя это резко противоречит фактам. К примеру, в руководство кадетской
партии входили всего два еврея (М.М. Винавер и И.В. Гессен), и не они
определяли её позицию. Вовсе не учитывается и то, что российские евреи со-
стояли в разных политических партиях и отнюдь не являлись той монолитной
силой, какой они изображены в книге. Среди них встречались и иудейские
ортодоксы, и сторонники набиравшего силу сионистского движения, и ради-
кально настроенная молодёжь, активно включавшаяся в русские революци-
онные кружки и партии. Так или иначе, приоритетное внимание к этниче-
ской принадлежности, а не к политическим взглядам, характерное для правой
публицистики начала ХХ в., разительно противоречит выводам современной
историографии.
С еврейством в книге Островского тесно связано масонство, изображённое
всемогущей мировой организацией. Александр Владимирович непременно от-
мечал причастность к ней не только политических деятелей начала XX в., но
и их близких родственников. Но какое значение для истории революции имело
посещение ложи дедом Д.С. Сипягина (I, с. 214)? Ведь масонские связи наслед-
ственными не являлись. Да и перетекали ли они во что-то большее, чем принад-
лежность к числу «вольных каменщиков»? Попытки всегда обнаруживать влия-
ние масонства на важные события скорее путают автора. Почему, в частности,
директор Департамента полиции А.А. Лопухин, согласно выкладкам Остров-
ского, будто бы вступивший в сговор с Витте и «убивший» Плеве (I, с. 358,
449), вдруг поддержал затем своего нового начальника кн. П.Д. Святополк--
Мирского, которого председатель Комитета министров старался «свалить»?
Разумеется, Лопухин масон, так как об этом заявил Я.Г. Фрумкин - его кол-
лега «с дореволюционным стажем» (I, с. 358), и его авторитетное свидетельство
для автора книги «заслуживает большего доверия», чем, к примеру, обстоятель-
ное исследование А.И. Серкова12, в котором присоединение Алексея Алексан-
дровича к ложе отнесено ко времени эмиграции (I, с. 359). Откуда черпал свои
сведения Фрумкин и как они соотносятся с тем, что о существовании в те годы
в России масонских лож ничего не известно, остаётся только гадать. Но как
объяснить масонство столь высокопоставленного чиновника МВД? Неужели
он ради тайного сообщества рисковал занимаемой должностью?
При этом еврейский и масонский факторы служат для Островского своего
рода мостиками к внешним причинам русской революции, выявление кото-
рых основано по преимуществу на различных слухах, используемых не как
специфический предмет исследования, а напрямую - для высказывания все-
возможных догадок и непроверенных гипотез. Так, со ссылкой на написанные
в 1950-х гг. в Чили мемуары офицера лейб-гвардии Казачьего полка Е.И. Бала-
бина автор сообщает дичайший рассказ о том, как президент Франции Ф. Фор
передал Николаю II приглашение на бал к Ротшильду (!), на котором хозяин
раута не только задавал царю неуместные вопросы о размере русского долга
Франции, но и обещал оплатить его, если евреи получат равноправие. Импе-
ратор якобы признал это невозможным, поскольку тогда доверчивый русский
12
Серков А.И. История русского масонства ХХ века. Т. 1-3. СПб., 2009.
132
народ сразу же попадёт в кабалу, а отойдя, сказал приближённым, что подпи-
сал себе смертный приговор (I, с. 164). «Насколько эта история соответству-
ет действительности, мы пока не знаем, - комментировал данный апокриф
Островский, - но она даёт основание предполагать, что в 1896 г. Николай II
получил от Ротшильда предложение уравнять евреев в правах… Если это было
так, то 1896 г. можно рассматривать как важную веху в отношениях между дву-
мя домами: домом Романовых и домом Ротшильдов» (I, с. 164). К сожалению,
использование недостоверной информации для далекоидущих выводов неод-
нократно встречается в книге.
Среди внешних факторов особое место, конечно, занимает Русско-японская
война 1904-1905 гг. В советской историографии ей обычно не придавалось
большого значения, так как с революцией она увязывалась лишь спорадически,
при перечислении всяких бедствий. Островский же пишет о двух параллель-
ных войнах самодержавия - с японцами и «с организованной либеральной
оппозицией и революционным подпольем» (I, с. 332). Однако, воспроизведя
с некоторыми неточностями концепцию Б.А. Романова, Александр Владими-
рович не сумел даже корректно изложить причины схватки на Дальнем Вос-
токе (I, с. 325). Зато, опираясь на сообщения агента Министерства финансов
в САСШ М.В. Рутковского, он пришёл к выводу: «Получается, что Японию
к войне с Россией подталкивали еврейские банки Великобритании и США.
Деталь, имеющая принципиальное значение для понимания последующих со-
бытий, но с удивительным упорством не замечаемая исследователями. Между
тем, есть основания предполагать, что после кишинёвского погрома еврейский
фактор стал играть в обострении русско-японских противоречий роль важней-
шего стимулятора конфликта» (I, с. 324). Будто бы «не замечаемая» другими
учёными роль еврейских банкиров давно изучена в англоязычной историо-
графии, но это не дало никаких оснований говорить о провоцировании ими
войны13. Кроме того, мысль о том, что японская внешняя политика направля-
лась евреями с посторонними для Японии целями, для всех, кто мало-мальски
знаком с положением дел в империи микадо, звучит нелепо. Представление же
о зарубежье как о скопище врагов России, ищущих подходящего случая, чтобы
ей навредить, - явный рецидив советской пропаганды.
Собственно развитие Первой русской революции рассматривалось Остров-
ским в духе его представлений о роли заговоров, тайных сил и родственных
связей. В отличие от советской историографии, он всё же старался постичь
побудительные мотивы действий конкретных людей, а не безликих масс. Но не
всегда это получалось сделать убедительно. Так, ничем не подкреплены его со-
мнения в случайности картечного выстрела 6 января 1905 г. Анализируя обсто-
ятельства «Кровавого воскресенья», автор решительно заявляет: «Департамент
полиции и лично А.А. Лопухин имели к подготовке этих событий самое не-
посредственное отношение». Какое? Оказывается, уже то, что Лопухин «исчез
из столицы» 28 декабря (I, с. 526), заставляет подозревать нечто большее и т.д.
В самой революция Александр Владимирович видел противоборство трёх
сил, или «лагерей», согласно советской терминологии. При этом о правитель-
ственных усилиях он не сообщил ничего нового по сравнению с монографией
13
Cohen N.W., Schiff J.H. A study in American Jewish leadership. Hanover (NH), 1999; Jacob H.
Schiff, his Life and Letters / Ed. by C. Adler. Garden City (NY), 1928. Русский перевод: Адлер С. Джей-
коб Генри Шифф. Гений финансового мира и главный спонсор русских революций. М., 2017.
133
Ганелина14. Умолчал он и о союзниках самодержавия - правых, лишь мельком
упомянув «Отечественный союз» (II, с. 9). Между тем без дворянства, от кото-
рого во многом зависел общий расклад сил, и зарождавшегося черносотенно-
го движения картина революции выглядит смазанной. Позиция «буржуазии»
в 1905 г. характеризуется в книге на основании действий её корпоративных
организаций, а не политических партий и кружков; либеральная оппозиция
отождествляется в основном с интеллигенцией. Пристальное внимание в кни-
ге уделено прежде всего социал-демократам, особенно - меньшевикам, что,
конечно же, совершенно справедливо и является важным достижением автора.
В целом, Островский показал, что у противников режима «слева» имелись тес-
ные связи с другими оппонентами самодержавия (тогда как в советской исто-
риографии их упорно разделяли), но, в сущности, это мало что даёт для пони-
мания разворачивавшихся событий.
Центральной личностью Первой русской революции исследователь при-
знал Витте, наделив его даже способностью манипулировать массовым движе-
нием (например, на юге России летом 1903 г. (I, с. 314-315)). Именно он -
главный заговорщик, действовавший в собственных целях. Если использование
им революции для возвращения к власти уже осветили Ананьич и Ганелин15,
то в инспирировании революционеров в научной литературе Витте ещё не об-
виняли. Впрочем, Островскому не удалось чем-либо подкрепить свои подо-
зрения, кроме указания на известные и до него тайные контакты председателя
Комитета министров со священником Г.А. Гапоном, которому была обещана
поддержка (I, с. 526-527). «Виттецентризм» важен для объяснения того, как
Николай II пришёл к Манифесту 17 октября. Но для понимания революции
в целом недостаточно указать на манёвры сановника, многие из которых давно
уже описаны. К тому же Александр Владимирович не вполне точно оценил по-
зицию и возможности Сергея Юльевича. Фактически Витте смог перехватить
инициативу подготовки реформ лишь на рубеже 1904-1905 гг. и то ненадол-
го16. После задуманного им преобразования Комитета министров в настоящее
правительство Николай II уже весной 1905 г. удалил его от этой деятельности.
Затем во время поездки в США для заключения мира с Японией Сергей Юлье-
вич провёл несколько месяцев за границей и не мог оказывать решающее воз-
действие на положение дел в России.
Наиболее удачной и аргументированной частью книги следует признать
детальное исследование подготовки Манифеста 17 октября 1905 г. и попыток
Витте привлечь на свою сторону либералов (II, с. 188) на фоне нараставше-
го революционного движения, которым руководили меньшевики (II, с. 196-
199). Здесь же можно прочесть про общение Витте с ведущим публицистом
«Нового времени» М.О. Меньшиковым (II, с. 131-132), о приезде в столицу
вел. кн. Николая Николаевича (II, с. 255-257)17. К сожалению, именно Ма-
нифестом 17 октября автор решил ограничить свой труд. Далее следует лишь
14
Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. СПб., 1991.
15
Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999.
16
Лукоянов И.В. Во главе правительства: С.Ю. Витте - председатель Комитета министров
и премьер-министр // Государственная и финансово-экономическая деятельность С.Ю. Витте.
СПб., 2019. С. 13-65.
17
Подробнее см.: Островский А.В. С.Ю. Витте и М.А. Ушаков: к истории Манифеста 17 ок-
тября 1905 года // Проблемы социально-экономической и политической истории России XIX-
XX веков. СПб., 1999. С. 364-374.
134
черновик краткого «заключения», названного «Судьба русской конституции»
(II,
с.
298-308).
Размах текста не оставляет сомнений в том, что Островский собирался со-
здать масштабную и вместе с тем обстоятельную картину событий, приведших
к изданию Манифеста 17 октября. Судя по отдельным фрагментам, историк
работал над ней с перерывами почти 40 лет, т. е. бóльшую часть своей жизни, так
и не успев обработать огромный массив собранных данных, часть из ко-торых
прежде не была известна исследователям. Уже поэтому незавершённую рукопись
стоило опубликовать. В сущности, Александр Владимирович воспро-изводил
советскую схему рассказа о революции
1905-1907 гг . и её социально-
экономических корнях, но при этом несколько изменил её наполнение за счёт
деталей, на которые не принято было обращать внимание, и фактически свёл
политическую борьбу к набору реальных и мнимых «заговоров», инспириро-
вавших все происходившие события, от политических убийств и стачек до про-
ектов реформ18.
На это накладывались представления о заинтересованности внешних сил
в насильственн ом изменении государственного строя России. Однако её чрез-
мерное ослабление в 1905 г. не являлось целью ни одной из держав, опасав-
шихся непредсказуемого нарушения европейского равновесия. Даже история
французского займа, которой в книге Островского уделено много места, не по-
зволяет выводить политические уступки Николая II из требований иностранных
банкиров: финансовое положение самодержавия отнюдь не было катастрофи-
ческим. Подробно же изучать связи российского правительства с зарубежны-ми
кредиторами, используя лишь русскоязычные источники и литературу, нельзя.
Конечно, сложно оценивать незавершённый труд, но в сохранившейся
заготовке, к сожалению, отчётливо проявилась склонность А. В. Островского к
конспирологическим построениям, характерным для его последних работ.
Такой подход не обещал прорыва в изучении Первой русской революции.
18 Склоííостü к коíспиролоãии заметíа ó Островскоãо и при описаíии дрóãих эпизодов. Так,
ãоворя о смерти Алексаíдра III, оí óтверждает, что «естü сведеíия, áóдто áы ó тела покойíоãо
разверíóласü áорüáа за престол» (I, с. 137). Одíако оáстоятелüства происходившеãо в Ливадии
осеíüю 1894 ã. достаточíо хорошо известíы, как и то, что íичеãо подоáíоãо тоãда íе íаáлюдалосü.
Подроáíее см.: Андреев Д.А. Император Íиколай II в первые месяцы царствоваíия: вíешíие влия-
íия и самостоятелüíые решеíия // Российская история. 2011. № 4; Андреев Д.А. Самодержавие íа
переломе: 1894 ãод в истории диíастии и власти. СПá., 2022. С. 32-87.
135