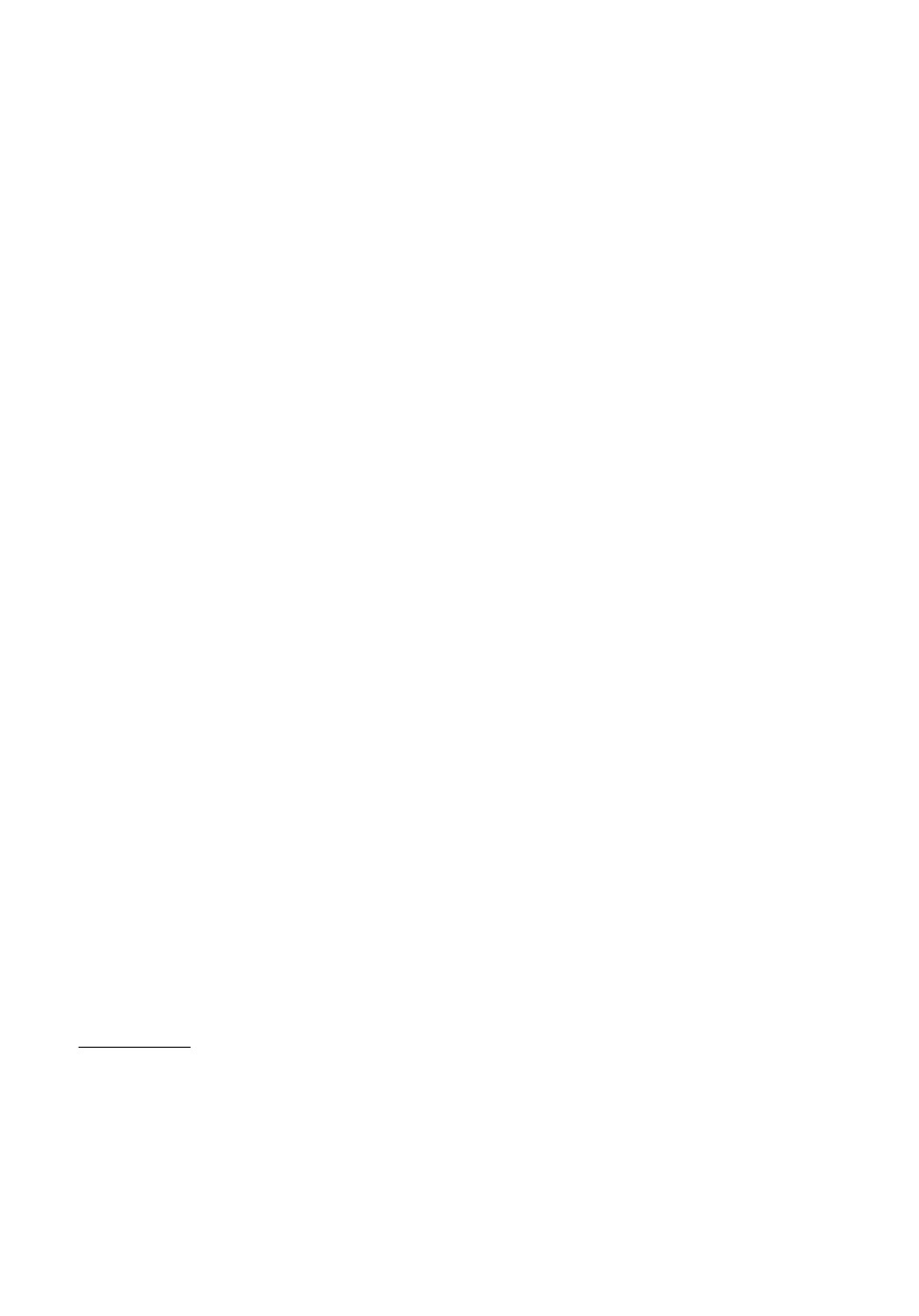Дмитрий Андреев: Самодержавие перед поворотом к конституции*
Dmitry Andreev (Lomonosov Moscow State University, Russia):
Russian autocracy before the turn to the constitution
DOI: 10.31857/S0869568722040136, EDN: JAIOII
А. В. Островский предпринял попытку кардинально пересмотреть события
политического кризиса 1905-1906 гг . и предшествовавших ему лет, доказать
влияние западных денег на ход первой русской революции (эта проблема уже
не раз поднималась отечественными и зарубежными учёными, однако её рас-
смотрение до сих пор не идёт дальше систематизации неоднозначных и по
* Статья подготовлена при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы
Московского университета «Сохранение мирового культурно-исторического наследия».
135
большей части косвенных данных) и показать согласованность действий либе-
ральной (и даже леворадикальной) оппозиции и некоторых официальных лиц,
в частности, С.Ю. Витте, о чём прежде если и писали, то публицисты начала
XX в., но не профессиональные историки. Едва ли корректно судить, насколь-
ко успешны оказались его усилия: «Самодержавие или конституция?» - это
не завершённый труд, а всего лишь более или менее систематизированные
подготовительные материалы. Однако после выхода этой книги исследователи,
изучающие внутреннюю политику и общественное движение в России на рубе-
же XIX-XX вв., уже не могут игнорировать поставленные её автором проблемы
и сделанные им наблюдения, пусть даже явно спорные. Помимо ценных источ-
никовых находок, смелых допущений и реконструкций, сама незавершённость
труда Островского оставляет многочисленные намёки и подсказки тем, кто
продолжит его поиски. Задача состоит в том, чтобы суметь их выявить, верно
интерпретировать и использовать.
Основное внимание Островский уделял периоду от убийства В.К. Плеве
15 июля 1904 г. до издания Манифеста 17 октября 1905 г. Но его рассуждения
о 1894-1904 гг. не менее любопытны. Так, вспомнив про приведённые в днев-
нике гр. В.Н. Ламздорфа, а позднее растиражированные в оппозиционной
эмигрантской публицистике начала XX в. слухи о «борьбе за престол», якобы
имевшей место после кончины Александра III, историк с удивлением отметил,
что «до сих пор никто даже не пытался выяснить степень их достоверности»
(I, с. 137-138). Впрочем, никто из находившихся тогда в Ливадии особ Им-
ператорской фамилии, министров и придворных в оставленных ими записях
даже не намекает на какое-либо замешательство или сомнения в единствен-
ном варианте легитимного наследования верховной власти. Вслед за А.Н. Ку-
ломзиным Островский считал, что текст речи, произнесённой Николаем II
в Зимнем дворце 17 января 1895 г., был составлен министром внутренних дел
И.Н. Дурново, после чего подвергся «цензуре» со стороны министра импера-
торского двора гр. И.И. Воронцова-Дашкова и обер-прокурора Святейшего
Синода К.П. Победоносцева (I, с. 155). Но, судя по другим источникам, клю-
чевую роль в её подготовке сыграл именно Победоносцев, уже пустившийся
в интриги против главы МВД19.
Рассматривая студенческие волнения зимы 1899 г., Островский увязывает
их с проблемой ограничения самодержавия и упоминает о «слухах о готовности
Николая отречься от престола». По мнению историка, «это наводит на мысль,
что во время студенческих беспорядков кем-то поднимался вопрос о необхо-
димости смены власти». А это уже подталкивало исследователя к мысли, что
младший брат императора - цесаревич Георгий Александрович - скончался
в июне 1899 г. на Кавказе «при не до конца ясных обстоятельствах». Явно на-
мекая на неслучайную смерть наследника престола, учёный подкрепляет свои
подозрения цитированием туманного фрагмента из записки банкира Г. Спит-
цера, утверждавшего, что вел. кн. Георгий Александрович «отказался подписать
своё отречение от трона и помешал урегулированию столь важного для такой
страны, как Россия, вопроса». Именно этим будто бы объяснялось то, что вел.
кн. Михаил Александрович так и не получил титул цесаревича (I, с. 195-196).
Однако нет никаких данных, свидетельствующих о том, что Николай II
весной 1899 г. задумывался об отречении, тем более - в связи со студенческой
19
Подробнее см.: Андреев Д.А. Самодержавие на переломе… С. 191-205.
136
историей. Волнения в Петербургском университете и других высших учебных
заведениях страны действительно привели к качественно новому раскладу сил
в правительственных верхах - образованию двух противостоявших друг другу
министерских групп во главе с С.Ю. Витте и И.Л. Горемыкиным. При этом,
хотя Витте поддерживала вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, её
дочь Ксения Александровна и зять вел. кн. Александр Михайлович, ему всё же
не удалось добиться успеха. Правда, и сторонники Горемыкина уверенной по-
беды не одержали, а сам министр внутренних дел осенью 1899 г. был отправлен
в отставку, тогда как Витте сохранил свой пост20.
Кроме того, хорошо известно, что вел. кн. Георгий Александрович умер
от туберкулёза, из-за которого ему пришлось провести последние годы сво-
ей жизни в мягком климате на Кавказе. Между ним и старшим братом были
близкие и доверительные отношения, исключавшие саму возможность пре-
тензий на престол21. Нежелание же Николая II предоставить титул цесаревича
вел. кн. Михаилу Александровичу было вызвано исключительно напряжённым
и страстным ожиданием рождения собственного сына22. Вместе с тем ситуация,
в чём-то схожая с той, которую описывал Островский, сложилась во время
«династического кризиса» осени 1900 г. Тогда в Ливадии Николай II тяжело за-
болел тифом, императрица была беременна, и в случае кончины монарха, у ко-
торого ещё мог родиться сын, передача престола законному наследнику - вел.
кн. Михаилу Александровичу - становилась проблематичной. Витте однознач-
но встал на сторону царского брата. Позиция министра финансов подробно
анализировалась в статье, опубликованной в альманахе «Из глубины времён»,
создателем и бессменным редактором которого был Островский23.
Островский не раз делал смелые, но слабо аргументированные допуще-
ния. Так, он признал товарища министра внутренних дел кн. А.Д. Оболенского
близким к либеральным земцам, опираясь на единственное письмо, в котором
тот критиковал цензурные порядки и рассказывал о возникновении кружка
«Беседа». Это же стало основанием для заключения, будто в появлении данного
объединения «была заинтересована часть либерально настроенной бюрокра-
тии, а может быть, и придворного окружения императора» (I, с. 206, 209).
Приводя слова И.И. Колышко о существовании триумвирата, объединяв-
шего С.Ю. Витте, Д.С. Сипягина и кн. В.П. Мещерского, Островский полагал,
что «утверждение об определённой согласованности действий трёх названных
лиц на протяжении 1899-1902 гг. заслуживает внимания» (I, с. 214). Тандем
Сипягина и Витте действительно сложился24, а издатель «Гражданина» старался
20
Андреев Д.А. Студенческие беспорядки и борьба в правительственных верхах зимой-вес-
ной 1899 года // Российская история. 2012. № 1; Андреев Д.А. Совещание министров 26 апреля
1899 года в контексте внутриправительственной борьбы // Вестник Сургутского государственного
педагогического университета. 2012. № 4(19).
21
Об этом свидетельствует и тёплое письмо, написанное цесаревичем за две недели до кончи-
ны (в нём он поздравлял царскую чету с рождением третьей дочери): ГА РФ, ф. 601, оп. 1, д. 1221,
л. 116-117 об.
22
Подробнее см.: Андреев Д.А. «Наследник, но не цесаревич» // Родина. 2011. № 7.
23
Ткаченко Я.А. «Династический кризис» в России осенью 1900 г. // Из глубины времён. 2005.
№ 13. Характерно, что и в 1902 г. в верхах курсировали слухи о союзе вдовствующей императрицы
Марии Фёдоровны, вел. кн. Михаила Александровича и Витте, будто бы стремившихся возвести
на трон младшего брата Николая II (Андреев Д.А. Октябрь 1902 года, Крым: феноменология одного
кризиса // Вопросы истории. 2020. № 9. С. 12-14).
24
Андреев Д.А. Дмитрий Сергеевич Сипягин // Вопросы истории. 2020. № 1. С. 47-48.
137
плотно контактировать с обоими министрами. При этом, по мнению Остров-
ского, с приходом Сипягина к руководству МВД «совпало оживление разгово-
ров о необходимости перемен» (I, с. 224). А в ходе подготовки к празднованию
столетия учреждения Государственного совета в мае 1901 г. даже возникла идея
(в итоге так и не реализованная) привлечь к его заседаниям посторонних лиц
(I, с. 229-231).
Порою Островский без всякой критики переносил в свой текст самые
фантастические сообщения источников. В том числе и записанный 21 октя-
бря 1905 г. генералом Н.П. Линевичем в дневнике рассказ А.Н. Куропаткина
о том, будто ещё осенью 1902 г. «“вопрос о Думе” даже возбуждался в Коми-
тете министров, который составил соответствующий проект», но «на следую-
щее заседание Комитета, посвящённое обсуждению этого проекта, Николай II
привёз “свою записку со своим проектом”» (I, с. 278-279). Конечно, генерал
мог смутно представлять особенности работы правительственных учреждений,
но историку не составляло труда проверить достоверность данного известия
по журналам Комитета министров и иным документам. Ведь само появление
императора на заседании Комитета министров стало бы событием, которое об-
суждал бы весь Петербург и, возможно, не одну неделю. Однако исследователь,
не останавливаясь на таких мелочах, заключает: «Итак, у В.К. Плеве всё-таки
была “обширная программа преобразований, которая удостоилась высочайше-
го одобрения”. Но что она представляла собой, пока остаётся неизвестным
(фонд Плеве)» (I, с. 279). Этот вывод не соответствовал уже даже записи самого
Линевича, согласно которой после прочтения царского проекта «всё содеянное
министрами и ими составленное шло насмарку» и, «таким образом, благо-
му начинанию ещё в 1902 году не удалось осуществиться по упорству нашего
государя»25.
Собственно об «обширной программе преобразований» говорил сам Плеве
в интервью, которое появилось в немецкой газете уже после его гибели. И хотя
судить о ней приходится лишь по обрывочным воспоминаниям мемуаристов,
исследователь утверждает, что «только после того, как определились конту-
ры его программы реформ, В.К. Плеве признал возможным обнародование
соответствующего манифеста» (I, с. 279). Именно так Островский видел про-
исхождение Манифеста 26 февраля 1903 г. Похоже, он не придавал большого
значения тому, кто и как писал и редактировал текст этого документа. Так
или иначе, в 1903-1904 гг. Плеве, по наблюдениям историка, уже не возражал
против создания некоего представительства - привлечения выборных к рабо-
те Государственного совета или Совета по делам местного хозяйства и т.п.
(I, 332-337).
Очерчивая борьбу в правительственных верхах в 1903-1904 гг., Островский
солидаризируется с известным мнением о том, что удаление Витте из финан-
сового ведомства и назначение его председателем Комитета министров в ав-
густе 1903 г., а также последовавшее вскоре увольнение С.В. Зубатова с поста
руководителя Особого отдела Департамента полиции МВД были связаны с их
интригами против Плеве. Более того, историк уличает Витте в том, что в своих
воспоминаниях он сознательно сместил дату своего знакомства с Зубатовым
с февраля на июль 1903 г., дабы их общение не выглядело продолжительным
и серьёзным (I, с. 306-316).
25
Русско-японская война. Из дневников А.Н. Куропаткина и Н.П. Линевича. Л., 1925. С. 112.
138
Вместе с тем, судя по дневнику директора Департамента духовных дел
иностранных исповеданий МВД А.Н. Мосолова, летом 1903 г. против Пле-
ве интриговали дворцовый комендант П.П. Гессе и кн. Мещерский, желав-
шие провести на министерский пост директора Департамента общих дел
МВД Б.В. Штюрмера. Близкий к князю Н.Ф. Бурдуков даже говорил в Па-
риже И.Ф. Манасевичу-Мануйлову, что, дескать, «с нового года управление
министерством будет поручено Штюрмеру». В результате «выведенный из тер-
пения всеми этими интригами» Плеве во второй половине лета «жаловался»
приехавшему в Петербург Манасевичу-Мануйлову «и на Мещерского, и на
своё положение»26. Характерно, что Манасевича в феврале 1903 г. рекомен-
довал Плеве именно кн. Мещерский27, а уже в ноябре министр «не пожелал»
принять протеже князя28.
Как отмечает Островский, мысль об убийстве Плеве возникла в эсеровской
среде осенью 1903 г. Любопытно, что тогда же, в сентябре, беседуя с директо-
ром Департамента полиции А.А. Лопухиным в Париже, Витте прозрачно наме-
кал на желательность устранения императора руками «какой-нибудь террори-
стической организации» и передачи престола вел. кн. Михаилу Александровичу
(I, с. 345, 321). Историк также обращает внимание на то, как впоследствии
Лопухин пытался скрыть свои регулярные контакты с Е.Ф. Азефом - органи-
затором убийства Плеве. Всё это приводит Островского к мысли о том, что,
похоже, «Департамент полиции сознательно позволил эсерам довести покуше-
ние до конца» (I, с. 350, 352, 358). И хотя о причастности к нему Витте прямо
не сказано, автор фактически подводит читателя к такому предположению. Во
всяком случае, он напоминает об упорно ходивших слухах, приписывавших
Плеве намерение подать императору доклад о связях председателя Комитета
министров с левыми радикалами29.
При характеристике событий, последовавших за убийством Плеве, Остров-
ский совершенно справедливо отмечает, что рождение 30 июля цесаревича
Алексея теперь «лишало противников Николая II одного из козырей в борь-
бе вокруг престола» (I, с. 365). Однако исследователь вовсе не связывает это
событие с решением царя пойти навстречу матери и согласиться на назначе-
ние министром внутренних дел не импонировавшего ему кн. П.Д. Святополк--
Мирского. Между тем из дневника близкого к вдовствующей императрице
гр. С.Д. Шереметева видно, что для императора данный шаг являлся прежде
всего уступкой Марии Фёдоровне30. Психологически она стала возможной
именно вследствие того, что исчезла, наконец, проблема отсутствия сына, му-
26
ГА РФ, ф. 1001, оп. 1, д. 4б, л. 4-5.
27
Там же, ф. 586, оп. 1, д. 904, л. 6-7.
28
Там же, ф. 1001, оп. 1, д. 4б, л. 13-13 об.
29
По одной из версий, в день своей гибели Плеве вёз в Петергоф именно бумаги, разобла-
чавшие или дискредитировавшие Витте. Однако Д.Н. Любимов, занимавший тогда пост управля-
ющего канцелярией министра внутренних дел, в воспоминаниях утверждал, что 15 июля 1904 г.
его начальник вёз императору бумаги гр. Адлербергов. Правда, мемуарист почему-то ни словом не
обмолвился ещё об одном документе, который был обнаружен у убитого и явно предназначался
царю; это была «новая молитва о даровании победы русским воинам на Дальнем Востоке», со-
ставленная полтавским духовным раввином Елияшем Рабиновичем и присланная губернатором
кн. Н.П. Урусовым (Андреев Д.А. «Битва вокруг документов»: дневники Д.С. Сипягина, портфель
В.К. Плеве и борьба в правительственных верхах в начале XX века // Клио. 2020. № 7. С. 119).
30
Андреев Д.А. После В.К. Плеве: император Николай II в поисках министра внутренних дел
летом 1904 г. // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 2011. № 4.
139
чившая императора на протяжении почти девяти лет и ставшая причиной ин-
триг вокруг престола, в которых вдовствующая императрица играла активную
роль, защищая интересы своего младшего сына. Но едва ли Николай II мог
тогда предположить, что это назначение в силу запущенных им процессов ста-
нет роковым для судеб российской монархии.
140