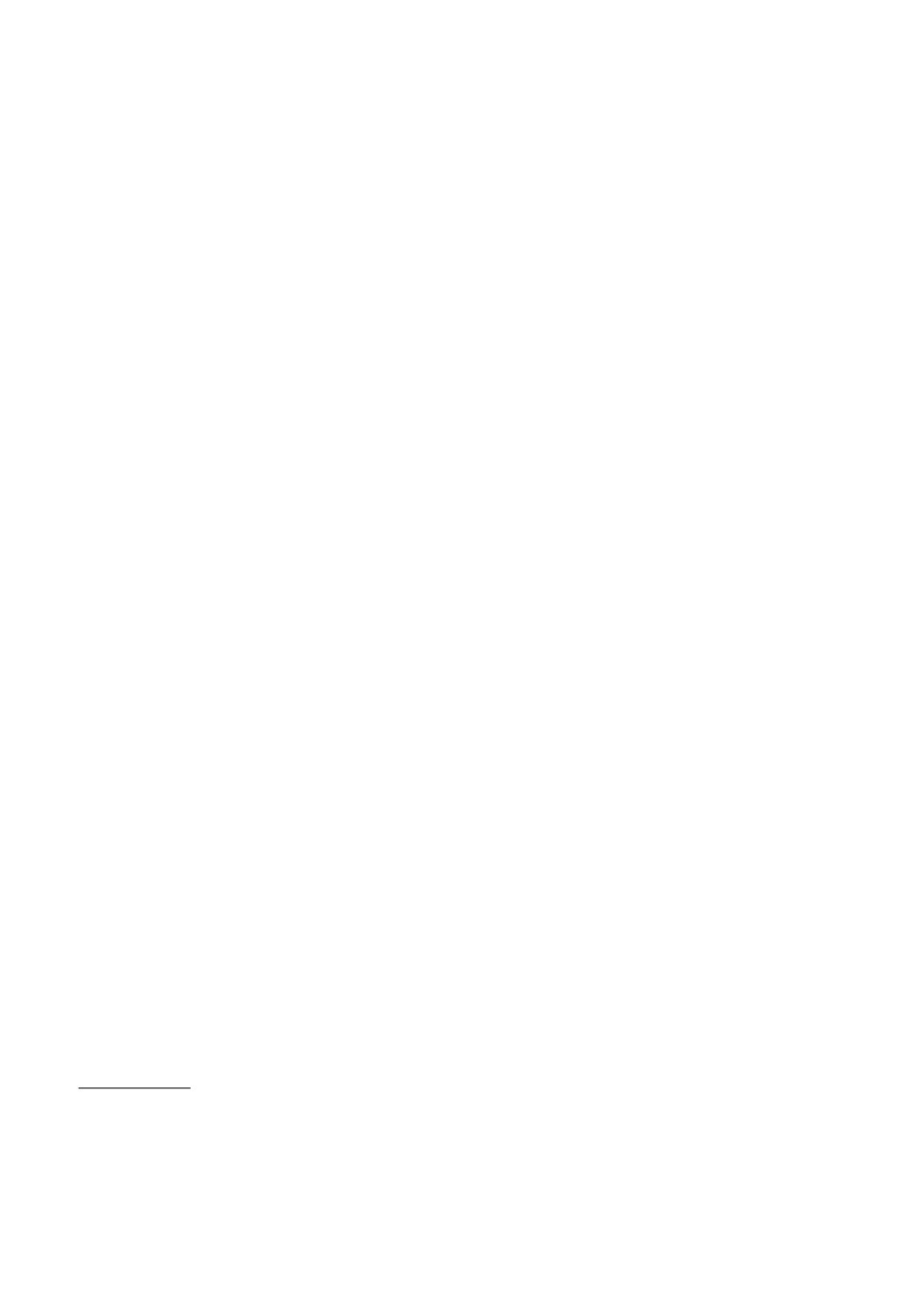Ольга Белоусова: Родственные отношения внутри элиты
Российской империи - недооценённый фактор или ложный след?* Olga
Belousova (Lomonosov Moscow State University, Russia):
Family relations within the elite of the Russian Empire -
an underestimated factor or a false trail?
DOI: 10.31857/S0869568722040148, EDN: JAMYXQ
Одной из характерных особенностей исследовательского подхода
А. В. Островского при изучении политической истории было повышенное вни-
мание к родственным отношениям внутри элиты. Демонстрируя их, историк
подводил к мысли, что снисходительное, а порой и благожелательное обра-
щение правительственных лиц и придворных с оппозиционными деятелями,
не скрывавшими конституционных мечтаний, объяснялось в том числе и се-
мейными узами. И наоборот: успешное распространение мнений, враждебных
самодержавной власти, опиралось на более или менее открытую поддержку их
носителей родственниками (причём часто весьма дальними) из аристократиче-
ских кругов. При этом автор выстраивал генеалогические цепочки, объединяв-
шие высокопоставленных чиновников, лидеров оппозиции и даже откровен-
ных радикалов и революционеров. Историк видел в этом важнейший фактор,
который до сих пор недооценён, но многое объясняет в расстановке политиче-
ских сил на рубеже XIX-XX вв.
Действительно, некоторые генеалогические реконструкции Островского
впечатляют своей наглядностью и ещё более тем, что сделаны они на основе
опубликованных и давно известных источников. Так, фрондировавший зем-
ский деятель И. И. Петрункевич был женат на графине Анастасии Сергеев-
не Паниной, вдове сына министра юстиции. Её мать, Анастасия Николаев-
на Мальцева (в девичестве - княжна Урусова), принадлежала к ближайшему
окружению вел. кн. Марии Николаевны и императрицы Марии Александровны
(I, с. 153). А дочь от первого брака Софья вышла замуж за сына государствен-
ного секретаря А. А. Половцова и Н. М. Июневой - внебрачной дочери вел.
кн. Михаила Павловича. Правда, вскоре Софья Владимировна добилась раз-
вода, «посвятила себя общественной деятельности» и, в частности, финансово
поддерживала «Революционную Россию» (I, с. 154, 242). Не менее характерен
пример президента Вольного экономического общества и знаковой фигуры
в земском движении гр. П. А. Гейдена - двоюродного брата начальника канце-
лярии Императорской Главной квартиры флигель-адъютантагр. А. Ф. Гейдена
(I, с. 199-200) и фрейлины императрицы Марии Фёдоровны гр. О. Ф. Гейден
(I, с. 301-302). Савва Тимофеевич Морозов, поддерживавший земских либе-
ралов, а затем и социал-демократическую«Искру», помимо прочего, являлся
* Статья подготовлена при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы
Московского университета «Сохранение мирового культурно-исторического наследия».
140
дядей жены начальника Переселенческого управления МВД А.В. Кривошеи-
на (впоследствии товарища, а затем и главноуправляющего землеустройством
и земледелием), который, в свою очередь, был шурином его брата - Сергея
Тимофеевича (I, с. 238).
Помимо старообрядцев, внимание Островского привлекали сектанты, вра-
щавшиеся в непосредственной близости от престола. Так, командир лейб-гвар-
дии Преображенского полка (в 1867-1870 гг.) генерал-адъютант Г.И. Чертков,
двоюродный брат мужа близкой к вдовствующей императрице обер-гофмейсте-
рины гр. А.Д. Строгановой, был женат на также близкой к Марии Фёдоровне
«видной баптистке» урождённой Е.И. Чернышёвой-Кругликовой, чья сестра
находилась замужем за В.А. Пашковым, «по имени которого русские баптисты
получили название пашковцев». К баптистам принадлежала и родная сестра
Черткова, которая во втором браке стала женой гр. П.А. Шувалова, занимав-
шего в 1866-1874 гг. пост шефа жандармов (I, с. 301-302). Впрочем, следует
отметить, что баптисты не занимались политикой и считались неблагонадёж-
ными лишь в конфессиональном отношении.
Интересны судьбы детей входившего в круг доверенных лиц императрицы
Марии Фёдоровны генерал-адъютанта кн. В.А. Барятинского. Его дочь Ирина
вышла замуж за племянника жены И.И. Петрункевича (I, с. 301-302), а сын
Владимир женился на популярной в леволиберальных и демократических кру-
гах актрисе Л. Яворской (I, с. 302-303).
Обер-гофмейстер кн. Г.Д. Шервашидзе, управлявший двором вдовствую-
щей императрицы, по словам Островского, «придерживался умеренно либе-
ральных взглядов и был противником неограниченной самодержавной власти»
(I, с. 301, 303). Он был женат на дочери барона А.П. Николаи, в 1884-1889 гг.
председательствовавшего в Департаменте законов Государственного совета,
Марии, а её двоюродный брат - барон Павел Николаевич Николаи - являл-
ся двоюродным братом будущего первого наркома иностранных дел Г.В. Чи-
черина, который в начале XX в., служа в МИД, «постепенно эволюциони-
ровал к марксизму». Сам же Павел, покинув государственную службу, стал
лютеранским пастором, основателем Русского студенческого христианского
движения и российского филиала «Ассоциации молодых христиан» (YMKA)
(I, с. 303-304).
В книге обстоятельно рассмотрено окружение директора Департамента
полиции МВД в 1902-1905 гг. А.А. Лопухина, который «имел разветвлённые
родственные связи как при дворе и в правительстве, так и в лагере либераль-
ной оппозиции». Ссылаясь на дубровинское «Русское знамя», историк пи-
сал: «В газетах сообщалось, что в прокурорские годы А.А. Лопухин находился
в близких отношениях с некими Ц. и С., которые были связаны с революци-
онными кругами. Получив предложение возглавить Департамент полиции, он
якобы дал Ц-у телеграмму: “Взлетаю на солею, как бы там шею не свернуть”».
Насколько могут быть достоверны подобные черносотенные слухи, собранные
в статье с выразительным названием «Лопухинское отродье», автор не уточня-
ет. Под стать Лопухину была и его жена, в девичестве - княжна Урусова, сестра
кн. С.Д. Урусова, в начале XX в. - бессарабского и тверского губернатора,
затем депутата I Думы, подписавшего Выборгское воззвание, мужа внучатой
племянницы П.Л. Лаврова (I, с. 257-259).
Столь же пристально отслеживал Островский родственников кн. П.Д. Свято-
полк-Мирского. При этом исследователь упоминает даже о том, что муж се-
141
стры князя «находился в отдалённом родстве с семьёй графа Михаила Та-
риэловича Лорис-Меликова» (I, с. 370). Не сказано только, что его отец,
кн. Д.И. Святополк-Мирский, и гр. М.Т. Лорис-Меликов с молодости остава-
лись личными врагами. Справедливо указав на то, что в 1904 г. «назначению
П.Д. Святополк-Мирского на должность министра протежировала императри-
ца Мария Фёдоровна», историк полагал: «Не исключено, что определённую
роль здесь сыграло то обстоятельство, что брат состоявшего при дворе им-
ператрицы Марии Фёдоровны князя Владимира Анатольевича Барятинско-
го - Александр - был женат на сестре князя П.Д. Святополк-Мирского Ольге»
(I, с. 373). Можно лишь сожалеть о том, что автор не пояснил, как именно
столь опосредованные связи могли хоть как-то сказываться при замещении
одной из важнейших должностей в империи. Зато многозначительно отмечено,
что жена Святополк-Мирского (в девичестве гр. Е.А. Бобринская) «находилась
в родстве с такими видными представителями либеральной оппозиции, как
князь Г.Е. Львов и Н.Н. Львов» (I, с. 371).
Иногда подобные генеалогические изыскания приводят к некоторой пу-
танице. Так, Островский писал, что муж сестры В.А. Маклакова (секретаря
кружка «Беседа» и участника «Союза Освобождения») - сын адвоката В.И. Та-
неева - был прапраправнуком «масона генерал-майора Сергея Михайловича
Танеева (1749-1825)» и внучатым племянником А.С. Танеева (младшего), отца
близкой к императрице Александре Фёдоровне А.А. Вырубовой, управлявшего
с 1896 г. Собственной е.и.в. канцелярией (I, с. 377). Однако В.И. Танеев, бу-
дучи внуком Ильи Михайловича Танеева, приходился С.М. Танееву внучатым
племянником, двоюродным племянником - А.С. Танееву (старшему), а внуку
того - А.С. Танееву (младшему) - соответственно троюродным дядей. Следо-
вательно, его сын В.В. Танеев, муж А.А. Маклаковой, приходился главноуправ-
ляющему четвероюродным братом. Хотя, если вспомнить, что родные братья
Василий и Николай Маклаковы являлись полными политическими антипода-
ми и оппонентами, то трудно сказать, как отражалось на их судьбе и деятель-
ности свойствó с Танеевыми.
Удивительны родственные переплетения кн. Г.Е. Львова - будущего гла-
вы Временного правительства, входившего в начале XX в. в кружок «Беседа»
и «Союз Освобождения». По материнской линии его родственником являл-
ся многолетний начальник канцелярии Министерства императорского двора
А.А. Мосолов. В родстве с Георгием Евгеньевичем состоял и зять министра им-
ператорского двора барона В.Б. Фредерикса В.Н. Воейков. Сам же кн. Львов
через свою тёщу приходился дальним родственником Лопухину (I, с. 396-397).
Кн. А.Д. Оболенский, на рубеже XIX-XX вв. последовательно состоявший
товарищем министра сначала в МВД у И.Л. Горемыкина и Д.С. Сипягина, по-
том в финансовом ведомстве у С.Ю. Витте, Э.Д. Плеске и В.Н. Коковцова,
а в 1905-1906 гг. занимавший пост обер-прокурора Святейшего Синода, через
жену (урождённую светлейшую княжну Е.Н. Салтыкову) находился в свойствé
с членами «Союза Освобождения» князьями Долгоруковыми и Н.Н. Львовым
(троюродным братом петербургского градоначальника И.А. Фуллона (I, с. 529-
531)), обер-гофмаршалом императорского двора гр. П.К. Бенкендорфом, а так-
же с семейством светлейших князей Ливенов (I, с. 415-417).
Островский предполагал, что свояченицей барона Э.Ю. Нольде, служивше-
го в начале XX в. управляющим делами Комитета министров, была народница
А.В. Якимова, а его зятем - живший в Симбирске и близкий к Ульяновым на-
142
родник А.А. Кадьян. К оппозиции оказались близки и дети Нольде: сын Борис
работал в либеральной газете «Право», затем вступил в партию кадетов, дочь
Екатерина стала женой Б.Г. Кнатца, принимавшего активное участие в кон-
солидации конституционалистских сил в период «весны» при кн. Святополк--
Мирском (I, с. 441-442).
Александр Владимирович систематически выявлял подобные «неблагона-
дёжные», по его мнению, связи представителей российской политической эли-
ты. Однако показать, в какой мере они создавали условия для единомыслия
и взаимодействия даже самых близких людей, ему так и не удалось. Страстное
же желание увидеть в семейственности и клановости подсказку, способную
объяснить происходившее в империи, не раз уводило исследователя по ложно-
му следу.
Конечно, не подлежит сомнению то, что влиятельные и консолидирован-
ные аристократические кланы занимали в российской элите начала XX в. вид-
ное место. Относя к их числу Волконских, Шереметевых, Шуваловых, Ворон-
цовых, К.А. Бенкендорф отмечал: «Когда я говорю об этих семейных группах,
я чувствую, что должен немного пояснить их значение. Хотя к этому времени
немногие из старшего поколения занимали важные посты в управлении импе-
рией, но в те дни крайнего политического напряжения, в результате которого
в России был введён ограниченный конституционный режим, именно через
представителей этих семей можно было широко влиять на решения монар-
ха»31. Правда, упомянув несколько фамилий, мемуарист не уточнил, какие ещё
дворянские семьи к ним примыкали. Л.П. Минарик выделяла четыре союза
крупных землевладельцев, группировавшихся вокруг Шуваловых, Мещерских,
близкой родни Императорской фамилии, а также знати польского происхож-
дения32. А.С. Карцов писал, что «члены “родственной сети” оказывали друг
другу неформальную, но весьма действенную поддержку, в том числе в деле
проникновения и укрепления в составе правящей элиты»33.
Между тем родственные связи того же гр. С.Д. Шереметева, являясь, без-
условно, важнейшим ресурсом в его государственной и политической деятель-
ности, были не только обширны, но и весьма разнообразны. Родство или свой-
ствó существовало между ним и министрами гр. И.И. Воронцовым-Дашковым,
Д.С. Сипягиным, кн. П.Д. Святополк-Мирским, А.Г. Булыгиным, П.А. Сто-
лыпиным34, финляндским генерал-губернатором гр. Ф.Л. Гейденом и др. При
этом отношения графа с его высокопоставленными родственниками разитель-
но различались: от близких и доверительных с Сипягиным до подчёркнуто
формальных и настороженных со Столыпиным. Более того, далеко не всег-
да кланы сплачивало ощущение общих интересов. А разница в политических
взглядах часто становилась причиной конфликтов близких родственников даже
внутри одной семьи.
Так, гр. Шереметеву долго не удавалось достичь взаимопонимания с сыном
Павлом, который увлёкся земским движением и стал одним из основателей
31
Бенкендорф К.А. Половина жизни: воспоминания русского дворянина. М., 2014. С. 32.
32
Минарик Л.П. Экономическая характеристика крупнейших земельных собственников России
конца ХIХ - начала ХХ в.: землевладение, землепользование, система хозяйства. М., 1971. С. 21-23.
33
Карцов А.С. Русский консерватизм второй половины ХIХ - начала ХХ в. (князь В.П. Ме-
щерский). СПб., 2004. С. 290.
34
Белоусова О.В. «Вот где главное наше горе». Граф Сергей Шереметев и его высокопостав-
ленные родственники // Родина. 2012. № 7.
143
кружка «Беседа», включавшего и других представителей аристократических се-
мейств - Бобринских, Голицыных, Долгоруких. По свидетельству кн. М.В. Го-
лицына, молодой граф «тогда был очень левого направления, дружил с земцами
и земскими служащими из числа так называемых красных и неблагонадёжных
и этим навлёк на себя недовольство со стороны родителей, которые почти
лишили его материальной помощи»35. Как утверждал Ф.А. Головин, в самом
начале 1896 г. Павел Сергеевич много говорил с ним «о борьбе земского начала
с бюрократическим, о ничтожности личности государя. Весь этот разговор вёл
к приглашению меня в состав тайного общества под названием “Беседа”»36.
Память, похоже, подводила мемуариста, поскольку кружок сформировался
только в 1899 г. Тем не менее сын Сергея Дмитриевича, несомненно, играл
в нём заметную роль. Одно из собраний даже проводилось на его квартире.
Так, кн. П.Д. Долгоруков сообщал 8 марта 1902 г. В.Ю. Скалону: «Редакцион-
ное совещание назначено на 16 в 8 часов вечера в квартире графа П.С. Шере-
метева (Фонтанка, собственный дом), и обещает быть довольно интересным.
Кроме литераторов будут и несколько земцев»37. Обсуждать предполагалось
работу открывшегося в январе 1902 г. Особого совещания о нуждах сельскохо-
зяйственной промышленности. «Учреждение Особого совещания, - вспоминал
кн. М.В. Голицын, - вызвало для нашей “Беседы” необходимость собраться
и столковаться, причём на сей раз собрались в начале марта в Петербурге,
в квартире Павла Шереметева во флигеле на Фонтанке». Там же «было решено
на местах, где удастся, расширить не только программу вопросов, но и состав
уездных земских собраний, рекомендовалось выдвигать вопросы правовые, фи-
нансовые, культурно-просветительные, поскольку они могли освещать мест-
ные нужды»38.
Любопытно, что гр. С.Д. Шереметев являлся членом Особого совещания
и 2 февраля отметил в дневнике: «Вечером первое заседание новой сельск[о]--
хоз[яйственной] комиссии, или Особого совещания, под председ[ательством]
Витте. Очень интересно, и начало обещает дело… Уже всплывает вопрос об об-
щине»39. В первой половине марта он находился в Москве и, по-видимому, ещё
не догадывался о причастности сына к «Беседе», не говоря уже о проходившей
у него встрече. Во всяком случае, в его дневнике в это время нет упоминаний
о Павле или событиях, связанных с ним. Вернувшись 16 марта в Петербург,
Сергей Дмитриевич почти ежедневно виделся с Сипягиным и его товарищем,
кн. Святополк-Мирским, отвечавшим за жандармское ведомство. Но в том,
что за графским домом ведётся полицейское наблюдение и уже известны со-
биравшиеся там участники «Беседы», высокопоставленные родственники ему
так и не признались. Зато министр рассказывал о неудавшемся покушении на
Трепова и межведомственных дрязгах.
35
Голицын М.В. Мои воспоминания (1873-1917). М., 2007. С. 196.
36
Головин Ф.А. Николай II // Николай Второй. Воспоминания. Дневники. СПб., 1994. С. 82.
37
Цит. по: Соловьёв К.А. Кружок «Беседа»: в поисках новой политической реальности, 1899-
1905. М., 2009. С. 168.
38
Голицын М.В. Указ. соч. С. 288.
39
РГАДА, ф. 1287, оп. 1, д. 5047, л. 13. Правда, вскоре граф с разочарованием признал: «Витте
председательствует очень дурно. Совсем не в его характере. Всё больше сам говорит. Опять Сипягин
выводит на путь. Каждый гнёт свою программу. Ермолов совсем неприличен, в сильном возбужде-
нии. Спор на личной почве» (Там же, л. 36).
144
При этом, как и его отец, П. С. Шереметев оставался убеждённым мо-
нархистом. 2 мая 1903 г . он говорил Плеве: «Мне кажется, что за последнее
время весьма распространились идеи необходимости конституции в России.
Я должен заявить, что я решительно высказываюсь против такой формы прав-
ления в России, но не могу не сказать, что замечаю, как на моих глазах, за какие-
нибудь два-три года последние идеи конституциализма сделали огром-
ные успехи и очень распространены среди отдельных дворян и земств. Я про-
тив таких взглядов, ибо я думаю, что самодержавие нам необходимо, но ос-
нованное на местном самоуправлении. Поэтому для меня земство есть основа
самодержавия. Если же угнетать земства, вообще местных людей, то мы неиз-
бежно придём к конституции в России»40.
Неудивительно, что гр. С. Д. Шереметев глубоко переживал идейный раз-
лад с сыном. «Бедный Павел, - писал он в дневнике в 1899 г ., - неужели он
никогда не выкарабкается из этой лжи и не станет самостоятельным. Слишком
уж он боится влечений и слишком нетерпим. Слабость характера уже давно
и явно выразилась»41. Тем не менее отец внимательно присматривался к состо-
янию молодого графа и в том же году отмечал: «Павел сидел и ужинал. Он как
будто тише, и курс словно слегка меняется»42. Постепенно отношения между
ними выровнялись. После событий 1905-1906 гг . гр. П. С. Шереметев занял-
ся изучением истории и народных промыслов, неоднократно представлялся
императору. Примечательно, что без протекции отца в 1915 г . он стал членом
Государственного совета от дворянских обществ.
Это наглядно показывает, что родственные связи, конечно, ни в коем слу-
чае не следует игнорировать, о них всегда необходимо помнить, но априорно
установить их роль и значение по генеалогическим данным нельзя. В каждом
конкретном случае требуется специально разбираться в том, что именно за
ними стояло в том или ином семействе.
40
РГИА, ф. 1088, оп. 2, д. 465, л. 3.
41
РГАДА, ф. 1287, оп. 1, д. 5045, л. 131 об.
42
Там же, л. 136.
145