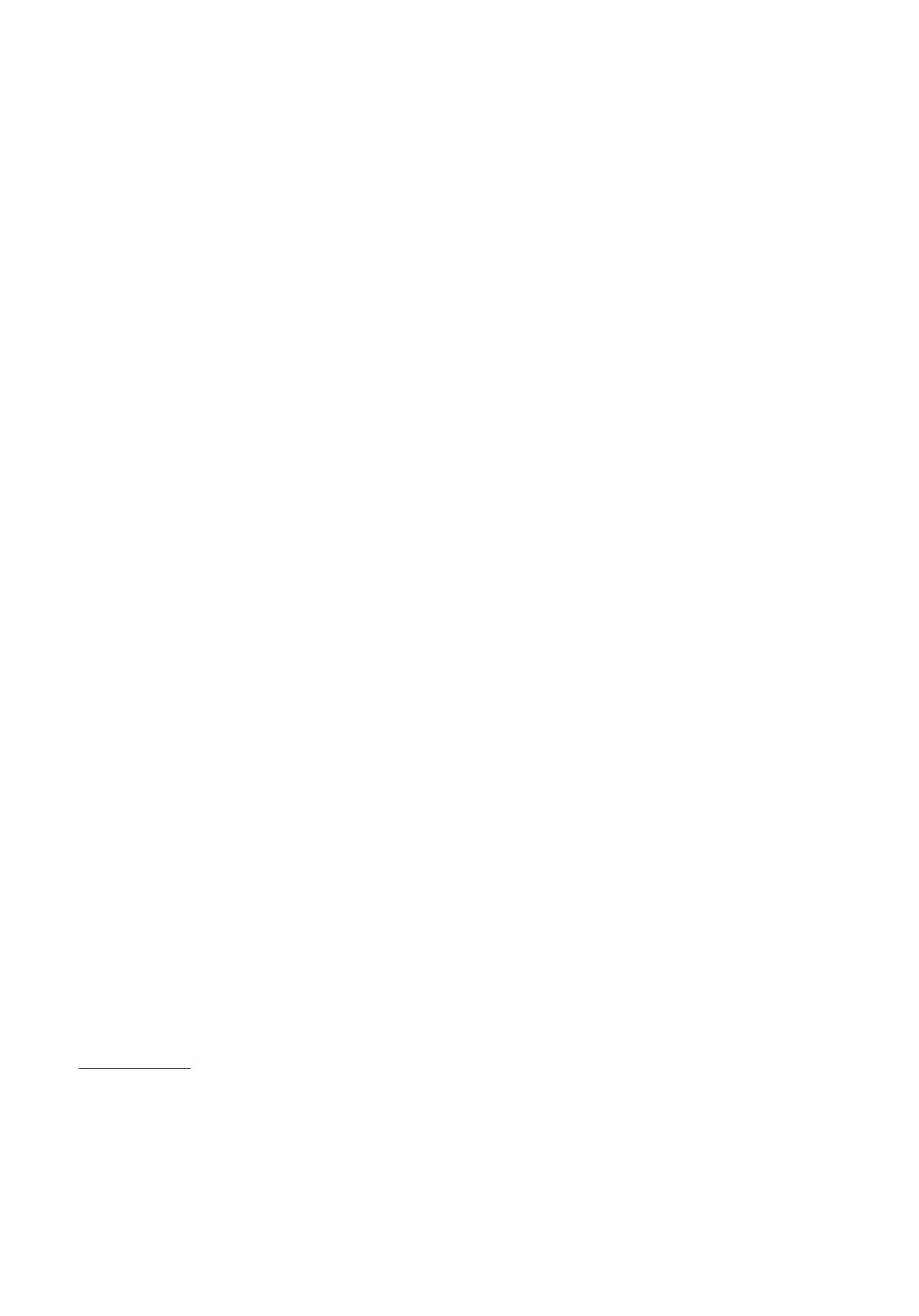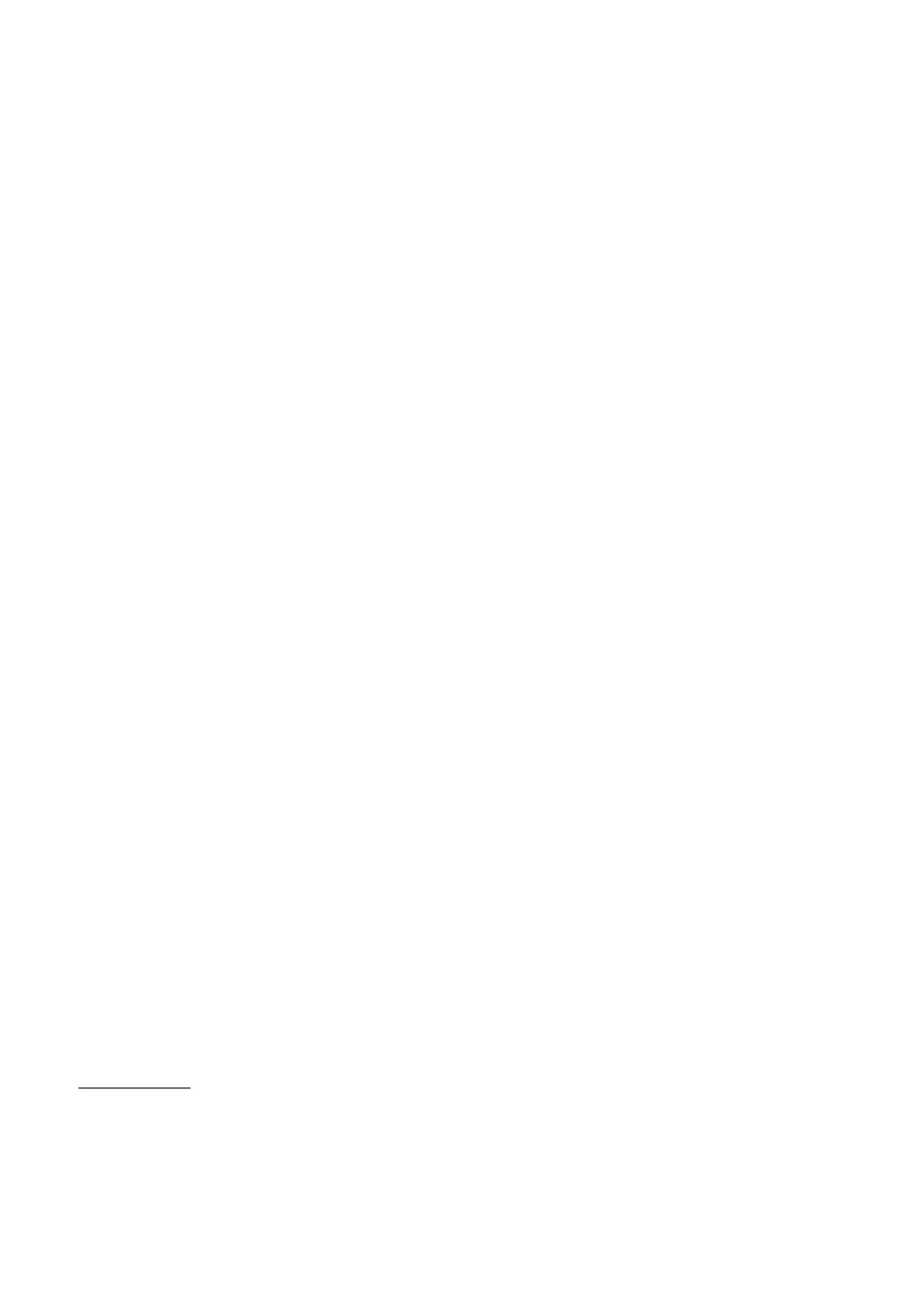Софья Саломатина: История финансов и банков
в современных дискуссиях о Российской империи
Sofya Salomatina (Lomonosov Moscow State University, Russia):
Contemporary Discussions on Finance and Banking of the Russian Empire
DOI: 10.31857/S086956872204015X, EDN: JAYCWZ
В двухтомнике «Россия. Самодержавие. Революция» опубликованы обшир-
ные подготовительные материалы для исторического труда, задуманного, но
так и не созданного А. В. Островским. Фактически это подробные конспекты:
выписки из источников и исследований, к которым иногда добавлены ком-
ментарии, позволяющие судить о рабочих гипотезах автора. Значительную их
часть составляют биографические сведения о государственных и общественных
деятелях конца XIX - н ачала XX в., их семейных и профессиональных связях.
Об окончательном замысле по этим текстам можно судить только приблизи-
тельно, но, судя по собранным данным, Островский искал новое объяснение
145
политической борьбы в Российской империи, которое учитывало бы сложную
систему межличностных отношений в широко понимаемой элите.
Конечно, анализируя публикацию незавершённой рукописи, имеет смысл
оценивать не столько проделанную Островским работу, сколько возможности
дальнейшего использования оставленных им набросков и наблюдений, в том
числе связанных с историей финансов и банков императорской России. Но для
этого в первую очередь необходимо понять, насколько непротиворечива автор-
ская концепция, какова её аргументация, на чём она основана и с помощью
каких методов формировалась.
Разобраться в этом помогает небольшой раздел «На повороте», посвящён-
ный событиям и процессам 1890-х - начала 1900-х гг. (I, с. 162-172). Как
утверждал в нём Островский, в 1890-е гг. сельское хозяйство Российской импе-
рии находилось в застое, тогда как промышленность переживала подъём. При
этом средства на её развитие поступали из-за рубежа. Исследователь упоминал
о перипетиях российских государственных заимствований в Европе: в 1880-е гг.
империя потеряла кредит у германских Ротшильдов, «перевела долги» во Фран-
цию, после чего развернулась таможенная война с Германией и начал оформ-
ляться русско-французский союз. Затем, ближе к концу 1890-х гг., произошли
«трения и разрыв» с французскими и английскими Ротшильдами. Фоном всех
этих процессов являлось недовольство Ротшильдов ситуацией с правами евре-
ев в России. С конца 1890-х гг. Петербург находился в кредитной блокаде, не
имея возможности взять новый заём. Однако к 1897 г. внешний долг страны
заметно вырос. Кроме того, мобилизации капиталов, по мнению Островского,
способствовали винная монополия и золотой стандарт. Полученные средства
шли на строительство Сибирской магистрали, поддержку поместного дворян-
ства и покрытие дефицита государственного бюджета.
Исследователь указывал на то, что промышленный подъём 1890-х гг. обес-
печивался в значительной степени за счёт иностранного капитала, доля ко-
торого обычно недооценивается, поскольку статистика не фиксировала род-
ственные связи, подставных лиц и зарубежных предпринимателей, принявших
российское подданство. Если же учесть эти факторы, то в 1890-е гг. империя
подошла к черте, за которой открывалась перспектива полного подчинения её
экономики влиянию иностранцев. Однако движение в данном направлении
сдерживали «конкуренция со стороны отечественного капитала» и самодержав-
ная власть, опиравшаяся на сильный государственный сектор.
Таким образом, по логике автора, по мере того, как росла зависимость
России от западных инвесторов, усиливалась заинтересованность европейских
финансистов в установлении здесь конституционной формы правления, кото-
рая позволила бы им контролировать правительственную политику. Их союз-
никами выступали отечественные предприниматели - инородцы (прежде всего
евреи), старообрядцы и другие оппозиционные силы. С воздействием извне
автор связывал экономический кризис конца 1890-х - начала 1900-х гг., сни-
жение золотого содержания рубля и дефицитный бюджет.
По-видимому, Островский пытался показать роль иностранного капитала
в политической жизни России. При этом он в значительной степени опирался
на расчёты В.И. Бовыкина43, составив на их основе таблицу «Иностранные
43
Бовыкин В.И. Формирование финансового капитала в России: конец XIX в. - 1908 г.
М., 1984. С. 157-180.
146
и отечественные капиталовложения в экономику России.
1893-1900 гг.»
(I, с. 166). Правда, происхождение многих цифр, приведённых Александром
Владимировичем не в таблице, а в тексте, установить не удалось, поэто-
му ссылаться на них рискованно. В работах Бовыкина, которые использовал
Островский, учтён предшествующий опыт количественной оценки вложений
иностранцев в российские ценные бумаги, а также капиталов иностранных
акционерных обществ, действовавших в России. В них подробно объяснены
источники используемых данных, методы расчёта и проверки показателей, ко-
торые в целом признаются сегодня не только в российской, но и в мировой
историографии44. Кроме того, Бовыкин на примере отдельных отраслей, фирм
и компаний подвёл итоги изучения истории иностранного предприниматель-
ства в России советскими и зарубежными исследователями 1960-1980-х гг.45
Бовыкин считал, что роль иностранного капитала в развитии России была
важной, но не решающей, оставаясь достаточно противоречивой. В то же вре-
мя, по его мнению, чем слабее становилась архаичная политическая система,
тем больше она нуждалась в финансовой поддержке извне. Однако инвесторы
одной «национальности» никогда не образовывали единой группы, сплочён-
ной общностью интересов. По сути, выводы Бовыкина46 противоположны вы-
водам Островского и вовсе не раскрывают политическую роль иностранцев.
Островский же просто берёт цифры Бовыкина и приписывает к ним свои
заключения, даже не поясняя, как он к ним пришёл. Никак не обосновывая
свою позицию новыми сведениями или расчётами, он фактически ограни-
чивается заявлением о том, что владение долговым обязательством или до-
лей акционерной собственности предполагает претензии на власть, а наличие
семейных, этнических и конфессиональных связей автоматически приводит
к коллективным политическим действиям. В дальнейшем историк собирался
«выявить связи между банками, промышленными, торговыми и транспортны-
ми компаниями и очертить контуры наиболее крупных группировок. Может
быть, взять Дмитриева-Мамонова47 и для начала с этой целью рассмотреть
верхушку предприятий, в сумме дающих более 50% всего акционерного капи-
тала» (I, с. 172).
Следует отметить, что Островский заметно искажает реалии изучаемой
эпохи. О российских долгах в его конспектах постоянно говорится не как
о ценных бумагах, находившихся за границей во владении многочисленных
держателей, зачастую довольно скромного достатка48, а как о государственных
44
Oosterlinck K. Hope springs eternal: French bondholders and the repudiation of Russian sovereign
debt. New Haven (Con.); L., 2016. P. 1-6; Ukhov A. Financial innovation and Russian government debt
before 1918 // Yale ICF Working Paper. 2003. № 03-20. P. 51.
45
С тех пор опыт изучения темы, конечно, значительно обогатился, но Островский обра-
щался только к двум монографиям: Бовыкин В.И. Формирование финансового капитала...; Бовы-
кин В.И. Россия накануне великих свершений…
46
Бовыкин В.И. Формирование финансового капитала... С. 180-183; Бовыкин В.И. Россия на-
кануне великих свершений… С. 57.
47
Видимо, имелись в виду справочники: Указатель действующих в Империи акционерных
предприятий. СПб., 1903; Указатель действующих в Империи акционерных предприятий и торго-
вых домов / Под ред. В.А. Дмитриева-Мамонова. В 2 т. СПб., 1905. О методике работы с ними см.:
Бовыкин В.И. Формирование финансового капитала... С. 170-180.
48
О мелких держателях российских ценных бумаг за рубежом см.: Oosterlinck K. Op. cit. P. 4-5;
Siegel J. For peace and money: French and British finance in the service of tsars and commissars. Oxford,
2014. P. 16-17.
147
заимствованиях, обязательства по которым сосредоточены в чьих-то одних ру-
ках. Отсюда возникает ложное представление, будто Россия должна Франции,
Германии, Великобритании, а не многочисленным рантье. Такой долг, по мне-
нию Островского, можно, например, «перевести» из Германии во Францию.
На самом же деле следовало бы сказать, что царское правительство попыталось
разместить новые выпуски российских ценных бумаг в основном на фран-
цузском рынке. Но немецкие кредиторы и инвесторы, разумеется, никуда не
делись, и доля германского рынка при размещении новых выпусков оставалась
заметной в начале 1890-х гг.49
Манипулируя цифрами, Островский, возможно, не всегда улавливал, что
именно за ними стояло. К примеру, Б.В. Ананьич, на которого он ссылается,
приводил в своей книге документ, выражавший негативное отношение Ми-
нистерства финансов Франции в 1897 г. к размещению на парижской бир-
же новых выпусков российских ценных бумаг на 2 млрд франков, поскольку
стоимость тех, что уже обращались там, приближалась тогда к 8 млрд. Эти
10 млрд франков соответствовали бы почти половине государственного дол-
га республики, достигавшего в 1897 г. 22 млрд50. Иными словами, указыва-
лось на то, что российские бумаги отвлекают потенциальных покупателей от
французских. Островский же описывает ситуацию так, будто «обслуживание
государственного долга Франции почти на 35% зависело от исправного и свое-
временного платежа России» (I, с. 165). Однако непонятно, как связаны между
собой два французских рантье, один из которых владел российской облига-
цией, а другой - французской, если первый из них получал купонный доход
от петербургского правительства, а второй - от парижского (в принципе это
могло быть и одно лицо).
Политическое влияние мелких рантье основано на их желании обеспечить
безопасность своих сбережений и инвестиций. Почувствовав малейшую угрозу,
они могли, поддавшись панике, начать массово продавать ценные бумаги, сни-
жая их курс. Российское правительство в целом справилось с задачей «не об-
рушить рынок» за рубежом, несмотря на все перипетии внутренней и внешней
политики самодержавия с конца 1890-х гг. до Первой мировой войны. Извест-
ный подкуп французской прессы ради благоприятного освещения ситуации
в России преследовал именно эту цель. Конечно, растущие долги, военные
поражения и беспорядки сокращали пространство для дипломатических ма-
нёвров, но империя оставалась надёжным заёмщиком, и в ней нуждались со-
юзники51. В рассуждениях о политической роли иностранного капитала эти
аспекты нужно как-то учитывать.
Не менее существенно искажались Островским функции банков и част-
ных банкиров. Он видел в них «главных кредиторов России». В его конспек-
тах Россия то «взяла первый заём у Ротшильдов», то «потеряла кредит у гер-
манских Ротшильдов» (I, с. 162-163). Но кредиторами являлись собственно
49
Подробнее см.: Ананьич Б.В., Лебедев С.К. Международные банковские консорциумы для
выпуска облигаций российских железнодорожных обществ до 1914 г. // Проблемы социально--
экономической и политической истории России XIX-XX веков. С. 434-460; Лебедев С.К. С.- Петер-
бургский Международный коммерческий банк во второй половине XIX века: европейские и русские
связи. М., 2003. С. 213-401.
50
Ананьич Б.В. Россия и международный капитал. 1897-1914. Очерки истории финансовых
отношений. Л., 1970. C. 29.
51
Oosterlinck K. Op. cit. P. 1-14; Siegel J. Op. cit. P. 1-11.
148
держатели облигаций (а владельцы акций выступали инвесторами). Банки же
были посредниками, «андеррайтерами», гарантировавшими размещение цен-
ных бумаг, проводившими операции с ними и получавшими за это разные
комиссионные доходы52. По сути, во всех случаях, когда в книге говорится
о «кредиторах России», речь идёт именно о посредничестве по выводу новых
облигаций на рынок. Для того, чтобы рантье захотели их приобретать, была
очень важна надёжность и высокая деловая репутация андеррайтеров, воз-
главлявших группу посредников, проводивших конкретную эмиссию ценных
бумаг. Её неудача (отсутствие спроса) или дефолт эмитента (правительства
либо компании) подрывали доверие к следующим выпускам. В XIX в. андер-
райтер при определённых условиях даже брал на себя ответственность за успех
эмиссии.
Ротшильды выступали андеррайтерами на рынке государственных займов,
т.е. их клиентами, чьи облигации они выводили на рынок, являлись прави-
тельства разных стран. Доля рынка, контролируемого Ротшильдами, была
очень большой, что позволяло им влиять на ситуацию. В 1815-1837 гг. вместе
с «Братьями Бэринг» они делили 50% лондонского рынка иностранных госу-
дарственных облигаций, а в 1839-1859 гг. - 40%53. В 1895-1914 гг. рыночная
доля Ротшильдов сократилась, как и их влияние, но и на лондонском, и на па-
рижском рынках они всё ещё входили в первую тройку андеррайтеров54. Многие
правительства по-прежнему пытались стать их клиентами. Однако, поскольку
андеррайтер такого уровня брал на себя один из самых больших финансовых
рисков, он был крайне избирателен в клиентах. Переговоры с ним шли сложно:
он мог их отложить и даже прервать, если ему не нравилось состояние рынка
или же у него возникали претензии к клиенту55. В то же время в последней
трети XIX в. окончательно оформилась техника размещения ценных бумаг на
рынке через большие группы банков (синдикаты), что позволяло распреде-
лить риск между участниками, поэтому в конце столетия каждый из них при
проведении эмиссии работал с ограниченным количеством облигаций56. Так
или иначе, России удавалось договариваться: не на одном рынке, так на дру-
гом, не в этом году, так в следующем, не через Ротшильдов, так через других
посредников.
Говоря о поддержке Ротшильдами борьбы за права российских евре-
ев, Островский почему-то пытается опереться на сочинения А.И. Солжени-
цына и Л. Полякова, а также эмигрантские мемуары общественного деятеля
Г.Б. Слиозберга и белого генерала Е.И. Балабина57, хотя их суждения в лучшем
52
По образному выражению исследовательской группы М. Фландро, это были привратники
у входа на рынок государственного долга (Flandreau М., Flores J., Gaillard N., Nieto-Parra S. The End
of Gatekeeping: Underwriters and the Quality of Sovereign Bond Markets, 1815-2007 // NBER Working
Paper. № 15128. 2009. July).
53
Flandreau M., Flores J.H. Bonds and Brands: Foundations of Sovereign Debt Markets, 1820-
1830 // The Journal of Economic History. Vol. 69. 2009. № 3. P. 663.
54
Flandreau М., Flores J., Gaillard N., Nieto-Parra S. Op. cit. P. 29.
55
Подробнее об этих перипетиях см.: Ананьич Б.В. Россия и международный капитал…; Лебе-
дев С.К. С.- Петербургский Международный коммерческий банк…; Siegel J. Op. cit.
56
Chapman S. The rise of merchant banking. L.; Boston, 1984. P. 82-103.
57
Солженицын А.И. Двести лет вместе (1795-1995). Ч. 1. Изд. 2. М., 2009. С. 289-290; По-
ляков Л. История антисемитизма: эпоха знаний. М.; Иерусалим, 1998. С. 279; Слиозберг Г.Б. Дела
минувших дней. Записки русского еврея. Т. 2. Париж, 1933. С. 7, 174; Балабин Е.И. Далёкое и близ-
кое, старое и новое. М., 2009. С. 254.
149
случае могут свидетельствовать о позднейшем восприятии роли Ротшильдов
в обществе.
Между тем существует научная литература, посвящённая тому, что думали
и делали Ротшильды, написанная на основе документов из их архивов, а также
материалов дипломатических и финансовых ведомств разных стран Европы58.
В этих исследованиях отмечается, что Ротшильды открыто выражали недоволь-
ство антисемитизмом российских властей, но их решения в конечном счёте
зависели от рынка и правительств тех стран, в которых они действовали. Ника-
ких уступок, связанных с расширением прав евреев в России, им не делалось.
В целом не стоит преувеличивать политическое влияние Ротшильдов в конце
XIX в., оно было ограниченным даже в период расцвета их банкирских домов
в 1830-1840-е гг., а с тех пор только уменьшалось, хотя их экспертные оценки,
опиравшиеся на длительный успешный опыт, по-прежнему имели большой
вес. С начала XX в. Ротшильды перестали работать с российскими облигация-
ми, окончательно отдав этот рынок французским коммерческим банкам. Кста-
ти, значительная часть иностранных заимствований Петербурга была сделана
уже после этого.
Конечно, высокий статус Ротшильдов влиял на их взаимоотношения с ев-
рейской диаспорой. Их дальние родственники, единоверцы и соплеменники,
как правило, занимали более скромное положение в обществе и нуждались
в покровительстве. Вести же дела Ротшильды предпочитали с равными себе,
что хорошо видно на примере многонациональной и многоконфессиональной
верхушки Лондонского Сити, где банковские синдикаты, возглавляемые Рот-
шильдами, не вписывались в узкое понятие еврейского капитала59. Тем более
не соответствовали они представлениям Островского об определяющем значе-
нии национальности и веры в бизнесе и в политике.
Также нет никаких оснований искать какую-либо политическую подоплёку
у таких разнородных явлений, как экономический кризис конца 1890-х - на-
чала 1900-х гг., снижение золотого содержание рубля или дефицит бюджета.
В итоге, если иностранный капитал и играл некую политическую роль в Рос-
сийской империи, то она так и осталась не раскрытой. Не было показано
в книге и то, как в той или иной конкретной обстановке семейные, этниче-
ские и конфессиональные связи встраивались в систему принятия решений.
Собранные для этого биографические данные в тексте словно бы «положили
рядом», чтобы потом решить, как сделать их частью аргументации. Впрочем,
не исключено, что увлекавшая автора идея вовсе не может быть обоснована
источниками без корректировки исходной гипотезы.
И всё же публиковать такие черновики стоило. При изучении элит Рос-
сийской империи ещё многое предстоит установить и продумать, поэтому даже
проверка ложных подходов и ошибочных суждений может оказаться полезной
для постановки задач и определения методов будущих исследований.
58
Gille B. Histoire de la Maison Rothschild. Vol. I. Des origines à 1848. Geneva, 1965; Vol. II.
1848-1870. Geneva, 1967; Girault R. Emprunts russes et investissements français en Russie, 1887-1914:
recherches sur l’investissement international. Paris, 1973; Stern F. Gold and iron: Bismarck, Bleichröder,
and the building of the German Empire. N.Y., 1979; Ананьич Б.В. Россия и международный капитал…;
Siegel J. Op. cit.; Фергюсон Н. Дом Ротшильдов. Пророки денег. 1798-1848. М., 2019; Фергюсон Н.
Дом Ротшильдов. Мировые банкиры. 1849-1999. М., 2019.
59
Chapman S. Op. cit. P. 39-69, 82-103.
150