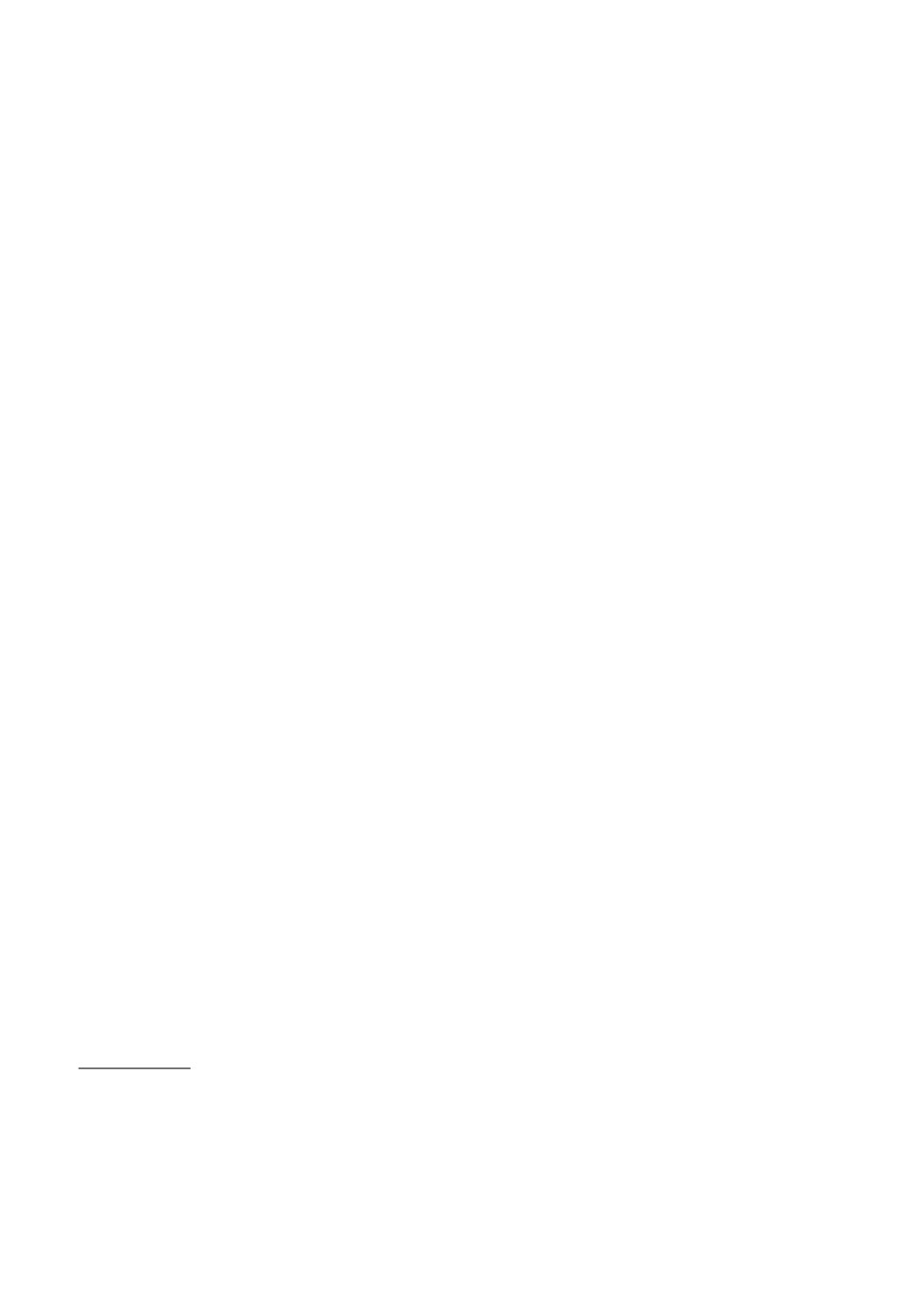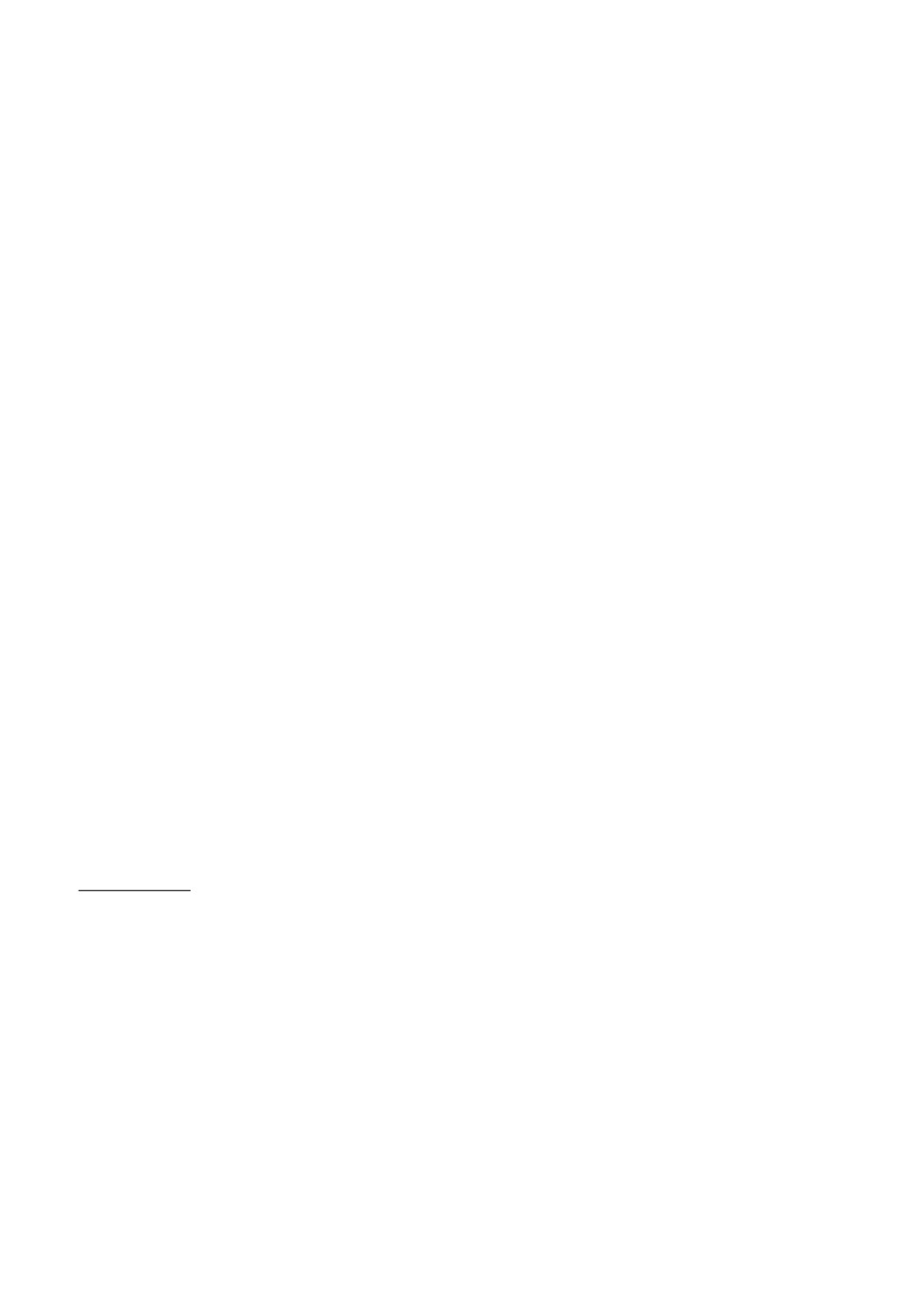Михаил Алмазов: Действия московской власти в 1905 г.
в интерпретации А.В. Островского
Mikhail Almazov (Lomonosov Moscow State University, Russia):
A.V. Ostrovskii on the actions of the Moscow authorities in 1905
DOI: 10.31857/S0869568722040161, EDN: JAYEVH
Работа покойного А.В. Островского стала фактически первой за послед-
ние 10 лет попыткой масштабного авторского осмысления природы россий-
ского революционного процесса и реформирования государственного строя
в начале XX в. Затронул исследователь и проблему потенциала и эффектив-
ности действий московских властей в борьбе с революционным и либерально--
оппозиционным движением. Обращение к данной теме представляется особен-
но важным при изучении причин Октябрьской всеобщей политической стачки
1905 г., как известно, начавшейся именно в Москве. Конечно, приходится
учитывать незавершённость данного труда учёного и предварительный харак-
тер освещения многих сюжетов книги. Однако уверенность историка в том,
что в 1905 г. оформился негласный союз между частью бюрократии и оппози-
ционными силами, заставляет внимательнее присмотреться к характеристике
им лиц, стоявших во главе московской администрации в период Октябрьской
стачки, и прежде всего генерал-губернатора П.П. Дурново, градоначальника
барона Г.П. Медема и начальника охранного отделения А.Г. Петерсона.
Говоря о Дурново, ставшем генерал-губернатором 15 июля 1905 г., Остров-
ский подробно описал его семейные и деловые связи, полагая, что они ока-
зали серьёзное влияние на его назначение и последующие действия. Осо-
бо отмечены при этом «декабристские связи П.П. Дурново». «Прежде всего
здесь следует назвать его дядю по отцу Николая Дмитриевича Дурново, ко-
торый входил в преддекабристскую организацию “Рыцарство”», - указывает
Островский (I, с. 672). Но почему-то забывает добавить, что 14 декабря 1825 г.
флигель-адъютант Н.Д. Дурново находился в ближайшем окружении Нико-
лая I и удостоился упоминания в царских записках об этом событии наряду
с кн. П.В. Голенищевым-Кутузовым, С.С. Стрекаловым и графами В.Ф. Ад-
лербергом и В.А. Перовским60. Гораздо интереснее историку показалось то, что
«дядя» (а на самом деле - дальний родственник) жены генерал-губернатора,
урождённой кн. М.В. Кочубей, «был женат на княжне Елене Сергеевне Вол-
конской - дочери знаменитого декабриста Сергея Григорьевича Волконско-
го и Марии Николаевны Раевской, отправившейся вместе с мужем в Сибирь
и воспетой Н.А. Некрасовым». И опять же ни слова не сказано о том, что сама
Мария Васильевна приходилась внучкой создателю МВД, а позднее - предсе-
дателю Государственного совета кн. В.П. Кочубею, который был фигурой во
всех отношениях несопоставимо более крупной. По ошибке тестем Петра Пав-
ловича в книге назван не имевший отношения к его жене Василий Аркадьевич
Кочубей. Кстати, среди прямых предков генерал-губернатора были генерал--
аншеф и екатерининский сенатор, губернский предводитель петербургского
дворянства, по материнской линии - знаменитые заводчики Демидовы… Од-
нако все они игнорируются, а читателю сообщается про ускользающее дальнее
родство с Муравьёвыми-Апостолами и проч. Впрочем, важнее всего то, что
60
Записки Николая I // Николай I. Муж. Отец. Император / Сост. Н.И. Азарова. М., 2000.
С. 57.
151
автор не пояснил, как те или иные родственные отношения и воспоминания
сказались на деятельности Петра Павловича в 1905 г. (I, с. 672).
Упомянув, что «П.П. Дурново был не только чиновником, но и предпри-
нимателем», историк обнаружил у него «тесные связи с семьёй Гинцбургов»,
из чего делался вывод: «Таким образом, летом 1905 г. управление Москвой
было передано в руки человека, который самым тесным образом сотрудничал
с еврейским капиталом и был близок к признанному лидеру еврейского на-
рода барону Г.О. Гинцбургу - человеку, который не только стоял за спиной
возникшего весной 1905 г. Союза борьбы за полноправие еврейского народа,
но и имел связи с революционным подпольем. Поэтому рассчитывать на твёр-
дость П.П. Дурново в борьбе с революционным движением не приходилось»
(I, с. 673). При этом биограф банкира Г.Б. Слиозберг, на которого ссылался
исследователь, писал исключительно о том, что Дурново посещал дом барона
«в числе многих других генералов», поскольку вместе с Гинцбургами (и иными
компаньонами, каковых было немало) состоял в числе учредителей и пайщи-
ков ряда банков и акционерных обществ61.
Вместе с тем в книге практически нет сведений о карьере Дурново, хотя
в 1866-1870 гг. он занимал пост харьковского, а в 1872-1878 гг. - московско-
го губернатора, т.е. обладал серьёзным административным опытом (включая
столкновения с городским головой Первопрестольной) и давно знал город,
которым руководил в 1905 г.62 Кроме того, с 1884 г. Дурново состоял глас-
ным, а с 1904 г. - председателем Петербургской городской думы, и следова-
тельно был близко знаком с особенностями местного самоуправления и его
деятелями.
Видимо, эти обстоятельства и побудили императора остановиться на его
кандидатуре. Чьим именно выдвиженцем он был, на основе имеющихся дан-
ных сказать сложно. С.Ю. Витте в мемуарах склонялся к мысли, что «Пе Пе
Дурново» был протеже председателя Государственного совета гр. Д.М. Соль-
ского63. Но, скорее всего, в Москву Петра Павловича направили не по иници-
ативе министра внутренних дел А.Г. Булыгина и его товарища Д.Ф. Трепова.
Островский вслед за В.Ф. Джунковским (в 1905 г. исправлявшим должность
губернатора) даже сообщал об их противодействии назначению Дурново, но
какими-либо документами это не подтверждается (I, с. 673).
По своим политическим воззрениям новый генерал-губернатор был скорее
конформистом. Так, Витте в различных фрагментах своих мемуаров усматри-
вал в его мировоззрении то «смесь либерализма и дворянского “моему нраву
не препятствуй”», то отсутствие «определённых взглядов»64. В то же время Пётр
Павлович мог действовать в охранительном духе: председательствуя в петер-
бургской думе, он в 1904 г. запретил либеральным гласным обсуждать при-
ветственный адрес министру внутренних дел кн. П.Д. Святополк-Мирскому,
заявив о несочувствии «новому курсу»65. Позднее, уже находясь в отставке,
61
Слиозберг Г.Б. Барон Г.О. Гинцбург. Его жизнь и деятельность. К столетию со дня его
рождения. Париж, 1933. С. 70.
62
Неслучайно при назначении Николай II поручил ему доставить «сведения о настоящем
положении московского генерал-губернаторства» (ЦГА Москвы, ф. 16, оп. 95, д. 553, л. 1).
63
Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания / Публ. Б.В. Ананьича, Р.Ш. Ганелина, С.В. Кули-
кова, С.К. Лебедева, И.В. Лукоянова. Т. 2. СПб., 2003. С. 200, 298.
64
Там же. С. 200, 298.
65
Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм… С. 38.
152
генерал-адъютант демонстрировал оппозиционные настроения66. Джунков-
ский и Витте, подробнее других писавшие о личности московского генерал--
губернатора, изображали его самовлюблённым бездельником, краснобаем
и мелочным самодуром, не способным к серьёзному делу67. Другие мемуаристы
(Д.Н. Любимов, Г.О. Раух, М.С. Тюлин) фактически подтверждали эти наблю-
дения68. Генерал-славянофил А.А. Киреев и вовсе обвинял его в трусости69.
Судя по делопроизводственной документации, генерал-губернатор крайне
вяло реагировал на поступавшие сведения о росте революционного движения.
Например, 25 сентября он никак не откликнулся на сообщение московско-
го охранного отделения о стрельбе при столкновении между рабочими и вой-
сками около дома градоначальника на Тверском бульваре70. Впрочем, времена-
ми у него просыпался интерес к происходящему. Так, в приложении к докладу
охранного отделения о задержанных после похорон ректора Московского уни-
верситета кн. С.Н. Трубецкого у некоторых из них им были подчёркнуты либо
место обучения, либо род занятий, либо возраст71.
Отмеченные Джунковским самодурство и мелочность «главного началь-
ника» Москвы ярко проявились в предложении, сделанном им градоначаль-
нику Медему 25 сентября: «не выезжать» из дома и взять на себя функции
«главнокомандующего», разложив «на большом столе» план города и приказав
чиновнику для особых поручений «наколоть» булавки на места расположения
войсковых и полицейских нарядов для отслеживания их передвижения (сведе-
ния об этом должны были доставлять «по телефону» московские приставы)72.
О техническом исполнении столь масштабной «операции» полицейским на-
чальством, обременённым множеством обязанностей, Дурново явно не заду-
мывался. Самым деструктивным же образчиком «охранительного творчества»
генерал-губернатора стало данное им градоначальнику разъяснение, согласно
которому обязательные постановления 1902 и 1905 гг., регулировавшие торгов-
лю оружием, распространялись лишь на жителей Москвы и Московской губ.,
но не на тех, кто делал покупки «по почтовой квитанции»73. Но и это едва ли
свидетельствовало о его нелояльности существовавшему строю.
В докладной записке, составленной для Николая II к началу октября
1905 г., генерал-губернатор подробно изложил свой взгляд на либерально--
оппозиционное и революционное движение в Москве. Не отрицая растущего
влияния либералов на протестные выступления, Пётр Павлович заверял царя,
что их представители стремятся лишь к удовлетворению личного тщеславия.
Со своей стороны, он добивался усиления собственной власти: передачи в его
ведение органов политического сыска, подчинения уездной полиции, действо-
66
Шипов Д.Н. Воспоминания и думы о пережитом. М., 2007. С. 442; Дёмин В.А. Верхняя па-
лата Российской империи. 1906-1907. М., 2006. С. 63.
67
Джунковский В.Ф. Воспоминания / Под ред. А.Л. Паниной. Т. 1. М., 1997. С. 66; Из архива
С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 2. С. 200, 298. См. также: Sanders J. The uprising of Moscow 1905.
N.Y., 1987. P. 579-582.
68
Любимов Д.Н. Русское смутное время. 1902-1906. По воспоминаниям, личным заметкам
и документам. М., 2018. С. 256; ОР РГБ, ф. 307, к. 1, д. 4, л. 4; ГА РФ, ф. Р-6249, оп. 1, д. 1, л. 46.
69
Киреев А.А. Дневник. 1905-1910 / Публ. К.А. Соловьёва. М., 2010. С. 90.
70
Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года. Ч. 1. М., 1955. С. 60-61.
71
ЦГА Москвы, ф. 16, оп. 95, д. 248, л. 65-66.
72
«Дежурные» дневники московского градоначальства. 25 сентября 1905 г. - 10 января
1906 г. // Материалы по истории революции 1905-1907 гг. М., 1967. С. 30.
73
ЦГА Москвы, ф. 16, оп. 95, д. 264, л. 2.
153
вавшей в пригородах, столичному начальству, увеличения полицейских шта-
тов74. 4 октября, представляясь монарху, он испрашивал разрешения на об-
суждение этих мер с Треповым, а 12 октября предложил Булыгину уравнять
в правах московского и санкт-петербургского генерал-губернаторов (это озна-
чало бы предоставление главе администрации дополнительных полномочий по
поддержанию «порядка»: ставило бы под его контроль все гражданские учреж-
дения, позволяло издавать любые обязательные постановления и вызывать по
собственному усмотрению войска и т.д.). Очевидно, что данные инициативы
явно не соответствовали планам оппозиции. Но 18 октября Трепов признал их
несвоевременными после издания Манифеста 17 октября75. Тем не менее Дур-
ново вновь попытался расширить свои полномочия в ноябре 1905 г.76 Вместе
с тем ещё 29 сентября с подачи Медема он обратился к командующему вой-
сками Московского военного округа Н.Н. Малахову с просьбой усилить гар-
низон Москвы несколькими расквартированными за её пределами частями77.
До Октябрьской стачки, пока не возникало необходимости применять
силу, генерал-губернатор демонстрировал достаточно жёсткую позицию по от-
ношению к протестам общественности. Сентябрьский земско-городской съезд
Дурново, по согласованию с Треповым, разрешил провести лишь как частное
собрание и при обязательном присутствии своего управляющего канцелярией
А.А. Воронина78. 25 сентября генерал-губернатор призывал казаков не стес-
няться применять оружие при подавлении беспорядков79. Правда, по мере обо-
стрения ситуации Дурново пасовал: 15 октября он без возражений переслал
Трепову петицию делегации московских фабрикантов, требовавших предостав-
ления широких политических прав для успокоения бастовавших рабочих80.
Назначенного 16 июля градоначальником барона Медема Джунковский
именовал ставленником Дурново (I, с. 673-674)81. В 1879-1892 гг. барон воз-
главлял жандармскую полицию Царскосельской и Петергофской железнодо-
рожных линий, в 1892-1893 гг. командовал Московским, а в 1893-1903 гг. -
Санкт-Петербургским жандармскими дивизионами, после чего в 1903-1905 гг.
занимал пост помощника начальника Отдельного корпуса жандармов. Бегло
упомянув о его службе, Островский справедливо указал на полное отсутствие
у Медема административного опыта (I, с. 674). Однако решающее значение
играли всё же его личностные и деловые качества. Джунковский и Витте виде-
ли в нём заурядного жандармского строевого генерала (по мнению Джунков-
74
Там же, д. 553, л. 1-3. Вскоре после своего назначения Дурново также просил Булыгина
увеличить средства, выделявшиеся «на непредвидимые расходы по генерал-губернаторскому управ-
лению». Однако в условиях финансового кризиса, вызванного русско-японской войной, император
распорядился выплачивать Петру Павловичу ту же сумму, что и его предшественнику А.А. Козло-
ву - 12 тыс. руб. (РГИА, ф. 934, оп. 2, д. 142, л. 6-6 об.).
75
ЦГА Москвы, ф. 16, оп. 233, д. 43, л. 81-82, 84.
76
Там же, оп. 95, д. 261, л. 147-148; Половцов А.А. Дневник. 1893-1909 / Публ. О.Ю. Голеч-
ковой. СПб., 2014. С. 504.
77
ЦГА Москвы, ф. 16, оп. 95, д. 261, л. 12; Всероссийская политическая стачка… Ч. 1.
С. 84-85.
78
Либеральное движение в России. 1902-1905. М., 2001. С. 390; ЦГА Москвы, ф. 16, оп. 95,
д. 186, л. 2, 3.
79
«Дежурные» дневники… С. 30.
80
Всероссийская политическая стачка… Ч. 1. С. 477; ЦГА Москвы, ф. 16, оп. 95, д. 217, л. 35.
См. также: Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм… С. 129-130.
81
Джунковский В.Ф. Воспоминания. Т. 1. С. 65.
154
ского, не особенно понимавшего суть происходившего)82. Дежурный генерал
штаба Московского военного округа Тюлин обличал градоначальника в трусо-
сти, развращённости и глупости83.
Вместе с тем делопроизводственная документация свидетельствует, что ба-
рон отличался не только некомпетентностью в административных делах, но
и формальным отношением к своим обязанностям. 20 сентября, ознакомив-
шись с текстом экономических требований рабочих типографии Товарище-
ства И.Д. Сытина, Медем ограничился тем, что приказал охранному отделению
«принять предупредительные меры»84. Неопределённость распоряжения спо-
собствовала началу забастовки работников московских типографий, являвшей-
ся прологом Октябрьской всеобщей стачки85. 2 октября на сообщении пристава
2-го участка Тверской части А.А. Юрьева о революционной деятельности одно-
го из членов Союза типолитографских рабочих - машиниста Н.И. Чистова -
появилась резолюция градоначальника: «Иметь это сообщение в виду. Пора
приступить к действиям»86. Никаких конкретных указаний вновь не последо-
вало. Между тем в тот же день представители пяти профсоюзов (типографов,
рабочих механического производства, столяров, табачников и железнодорож-
ников) постановили призвать трудящихся Москвы выбирать депутатов для ко-
ординации дальнейшей стачечной борьбы, а Союз типолитографских рабочих
выпустил воззвание, убеждавшее городской пролетариат в необходимости вы-
движения политических требований87.
Островский не исключал, что подобным поведением барон выражал под-
держку замыслов Витте по преобразованию страны. К числу «компрометирую-
щих фактов» историк отнёс даже поздравительную телеграмму жены Медема -
певицы М.А. Славиной - супруге председателя Комитета министров Матильде
Ивановне по случаю пожалования Сергею Юльевичу графского титула. Подо-
зрительным показалось исследователю и сообщение московским градоначаль-
ником Трепову излишне успокоительных сведений о ситуации в городе нака-
нуне Октябрьской стачки, а также представление доклада о железнодорожной
забастовке 8 октября, т.е. через два дня после её начала (II, с. 118, 125, 177).
Поздравления певицы вряд ли могут как-то объяснить действия её мужа, даже
если допустить, что она рассчитывала тем самым обеспечить ему благосклон-
ность вновь набиравшего силу сановника. А вот Трепова Медем действитель-
но дезинформировал, однако, скорее всего, не из политических соображений,
а исключительно из стремления избежать ответственности перед начальством
за столь неблагополучное положение на вверенной ему территории. Впослед-
ствии, донося 21 октября о событиях в Москве после публикации манифеста
«Об усовершенствовании государственного порядка», градоначальник точно
так же не станет информировать Петербург о фактическом бездействии поли-
ции во время столкновений «черносотенных» манифестантов и левых радика-
лов88. О железнодорожной забастовке Медем, согласно «дежурным» дневникам
82
Там же; Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 2. С. 399. См. также: Sanders J. Op. cit.
P. 584.
83
ОР РГБ, ф. 307, к. 1, д. 4, л. 5.
84
Всероссийская политическая стачка… Ч. 1. С. 49-50.
85
Там же. С. 60-62; Первая революция в России. Взгляд через столетие. С. 289-292.
86
Всероссийская политическая стачка… Ч. 1. С. 403.
87
Там же. С. 403-406.
88
Там же. С. 468.
155
градоначальства, узнал только 7 октября, данные же охранного отделения по-
ступили уже на следующий день, и соответственно донесение в Департамент
полиции было составлено незамедлительно89.
Как и генерал-губернатор, в ряде случаев Медем действовал довольно ре-
шительно. Например, 10 октября в телеграмме заведующему политической ча-
стью Департамента полиции П.И. Рачковскому он поставил вопрос о введении
в Москве военного положения90. Однако зачастую его шаги лишь озадачивали
современников: вступление московского градоначальника 6 октября в ряды
«Русской монархической партии» В.А. Грингмута воспринималось как курьёз
даже в консервативной среде91.
Хуже всех, по мнению Островского, проявил себя осенью 1905 г. Петер-
сон, получивший 22 сентября должность начальника Московского охранного
отделения. Учёный ошибочно считал его родственником видного либерального
оппозиционера В.Д. Набокова (что убедительно опровергли публикаторы кни-
ги) и убеждённым конституционалистом (II, с. 116-117). К сожалению, ис-
следователь вслед за Р.Ш. Ганелиным некритично воспринял слова бывшего
сотрудника московской охранки Л.П. Меньщикова, приписавшего Петерсону
записку, подготовленную к 14 февраля 1905 г. одним из его предшественников
на посту руководителя политического сыска Первопрестольной В.В. Ратко92.
Джунковский и А.А. Рейнбот (московский градоначальник в 1906-1907 гг.)
критиковали Петерсона за нераспорядительность и неосведомлённость о про-
исходившем в городе93. Между тем это был ученик С.В. Зубатова, удостоивший-
ся от него лестной аттестации и несколько лет служивший в охранных отде-
лениях Москвы (исправляющий должность чиновника для особых поручений
в 1900-1902 гг.), Санкт-Петербурга (помощник начальника в 1902-1903 гг.)
и Варшавы (исправляющий должность начальника в 1903-1905 гг.). В авгу-
сте 1905 г. его командировали в распоряжение Медема, видимо, для усиления
сыска94. И тут офицер, принявший дела в самый напряжённый момент, похо-
же, растерялся. К тому же именно осенью 1905 г. Петерсон, всегда болезнен-
но ощущавший недостаток материальных средств95, приобрёл имение, после
чего оказался должен многим лицам (в том числе агенту варшавской охранки
М.Е. Бакаю) и лихорадочно изыскивал способы расплатиться с кредиторами,
забросив службу, в чём его впоследствии обвинили в Департаменте полиции96.
89
Там же. С. 414; «Дежурные» дневники… С. 39.
90
Всероссийская политическая стачка… Ч. 1. С. 422.
91
Дневник Л.А. Тихомирова. 1905-1907 гг. / Сост. А.В. Репников, Б.С. Котов. М., 2015.
С. 124, 126.
92
В этом документе, далёком от радикальных конституционных требований, признавалась
готовность значительных общественных групп к борьбе с правительством и предлагалось привлечь
часть «умеренных элементов общества» к «законодательной деятельности» (не уточняя условий,
кроме имущественного ценза), а также намечался ряд социальных реформ и преобразований в ор-
ганизации сыска и судебной системы империи (Записка начальника Московского охранного отде-
ления В.В. Ратко / Публ. Л.В. Ульяновой // Власть и общество в Первой российской революции
1905-1907 гг. Документальные свидетельства / Сост. А.П. Ненароков, П.Ю. Савельев, А.А. Черно-
баев. М., 2017. С. 25-29).
93
Джунковский В.Ф. Воспоминания. Т. 1. С. 114; РГИА, ф. 1393, оп. 1, д. 14, л. 4.
94
ГА РФ, ф. 63, оп. 53, д. 201, л. 1, 14, 44, 48, 49.
95
Так, он неизменно жаловался на слишком мелкие суммы прогонных денег (Там же, л. 22а,
36, 61).
96
Там же, ф. 110, оп. 6, д. 3516, л. 13, 19 об.
156
Таким образом, можно согласиться с Островским в том, что руководители
московской администрации осенью 1905 г. далеко не соответствовали зани-
маемым должностям, однако о полном параличе власти в городе (I, с. 674)
говорить всё же не приходится. Также нет оснований усматривать в их назна-
чении чей-то тайный умысел дезорганизовать местное управление. Более того,
изначально их кандидатуры не могли считаться неподходящими. Сами же чи-
новники отнюдь не вели какой-то двойной игры и даже пытались по мере сил
исправить ситуацию.
Нельзя забывать и об объективных обстоятельствах, сложившихся в Мо-
скве в 1905 г. Крайняя малочисленность городской и фабрично-заводской по-
лиции, жандармов и сотрудников охранного отделения97 создавала колоссаль-
ные трудности при поддержании порядка в городе. Быстро же увеличить штаты
действовавших подразделений и структур было практически невозможно ввиду
ведомственных противоречий, «битвы за денежные ресурсы» и враждебности
оппозиционной Московской городской думы, оплачивавшей 37,5% полицей-
ских расходов98. Каждое ведомство всячески избегало даже потенциального
вмешательства в свои дела. Московская жандармская железнодорожная по-
лиция при поддержке Трепова и генерал-губернатора А.А. Козлова тщетно
добивалась того, чтобы её сотрудникам разрешили присутствовать на собра-
ниях рабочих-железнодорожников, однако в Министерстве путей сообщения
её усилия упорно саботировали99. Силы гарнизона, в 1905 г. всё чаще привле-
кавшиеся к исполнению полицейских обязанностей, были серьёзно ослаблены
массовой отправкой солдат на Дальний Восток, демобилизацией после завер-
шения русско-японской войны и признанием полковыми комиссиями многих
новобранцев негодными к службе100. При этом отсутствие централизованного
руководства войсками, направленными в распоряжение администрации, поро-
ждало трудности при взаимодействии полиции и армейских частей (слишком
позднее или раннее прибытие подразделений, неосведомлённость их коман-
диров о топографии Москвы, стремление местного начальства удержать воин-
ские контингенты и т.д.). Необходимость пребывания в нарядах бессменно по
несколько дней, часто неудовлетворительные условия содержания (в том числе
из-за скудных полицейских ресурсов) приводили как к усталости и недоволь-
ству солдат, так и к обоснованным претензиям к властям города со стороны
командования военного округа101. А поскольку эти проблемы были характерны
для всей империи, решать их, опираясь на нужды Первопрестольной, обычно
не удавалось102.
97
ЦГА Москвы, ф. 46, оп. 14, д. 61, л. 49 об.-50, 57 об.-58; Высший подъём революции
1905-1907 гг. Вооружённые восстания. Ноябрь-декабрь 1905 года. Ч. 1. М., 1955. С. 614, 742; Де-
кабрьское восстание 1905 г. глазами сотрудников московской полиции / Публ. И.В. Говорова //
Новейшая история России. 2012. № 2. С. 183; Гурьев В.И. Московская полиция. 1881-1917 гг.
Изд. 2. СПб., 2017. С. 53-54, 111-112.
98
ГА РФ, ф. 63, оп. 25, д. 2, т. 2, л. 1, 8, 39; Гурьев В.И. Московская полиция…С. 102, 105-107.
99
ЦГА Москвы, ф. 16, оп. 95, д. 212, л. 1, 6-7, 8, 10-10 об.
100 РГВИА, ф. 1, оп. 2, д. 217, л. 3 об.; ф. 1606, оп. 2, д. 1113, л. 27, 29 об., 31; Из истории
Московского вооружённого восстания. Документы и материалы. М., 1930. С. 46-47.
101 РГВИА, ф. 1606, оп. 2, д. 1113, л. 13-15; д. 440, л. 173; д. 1118, л. 764; ГА РФ, ф. 63, оп. 25,
д. 773, т. 9, л. 128-129; Дневник Л.А. Тихомирова… С. 128.
102 ЦГА Москвы, ф. 16, оп. 95, д. 261, л. 12-12 об.; Всероссийская политическая стачка… Ч. 1.
С. 430, 679.
157
Наконец, отношение императора и руководства МВД (особенно Трепова)
к либеральному движению, ведущее положение в котором занимали представи-
тели именитых дворянских родов, в условиях военных поражений и финансо-
вого кризиса до июльского земского-городского съезда, призвавшего общество
к борьбе с правительством, оставалось достаточно осторожным. Островский
ошибочно полагал, будто Козлов допустил земский съезд 22-24 мая вопреки
воле императора, выраженной в телеграмме Трепова 23 мая (I, с. 632). 24 мая
Николай II передал решение на усмотрение генерал-губернатора, указав толь-
ко: «Действуйте по совести и на основании действующего закона»103. Конеч-
но, Островский видел объективные трудности, с которыми сталкивалась мо-
сковская власть. Так, анализируя переписку Медема и Трепова, он обнаружил
фактическое равенство бюджетов охранного отделения и партии социалистов-
революционеров (II, с. 94-95). Однако рассмотреть влияние этого фактора на
действия администрации он не успел или не счёл необходимым.
103 ГА РФ, ф. 1463, оп. 2, д. 156, л. 32.
158