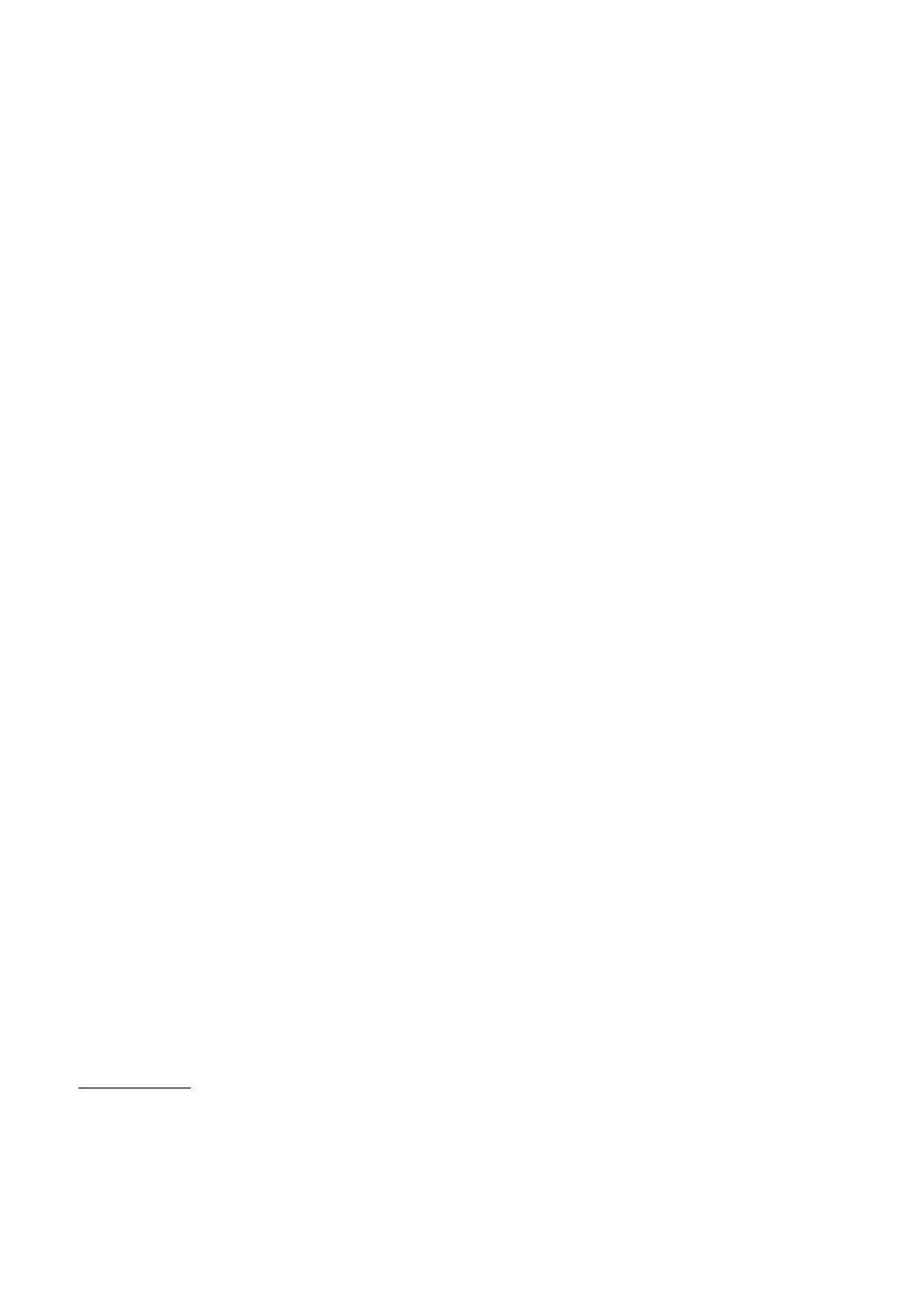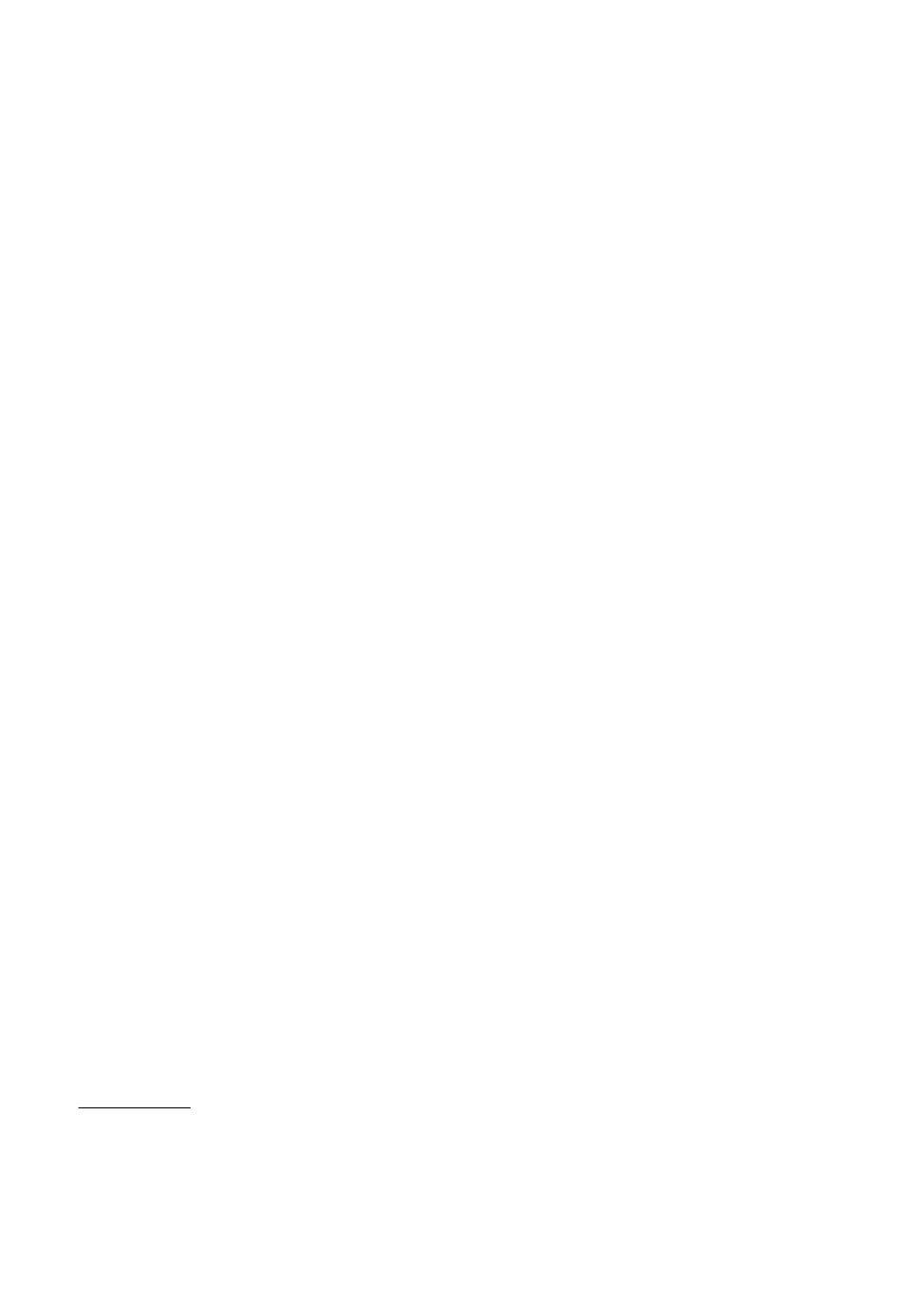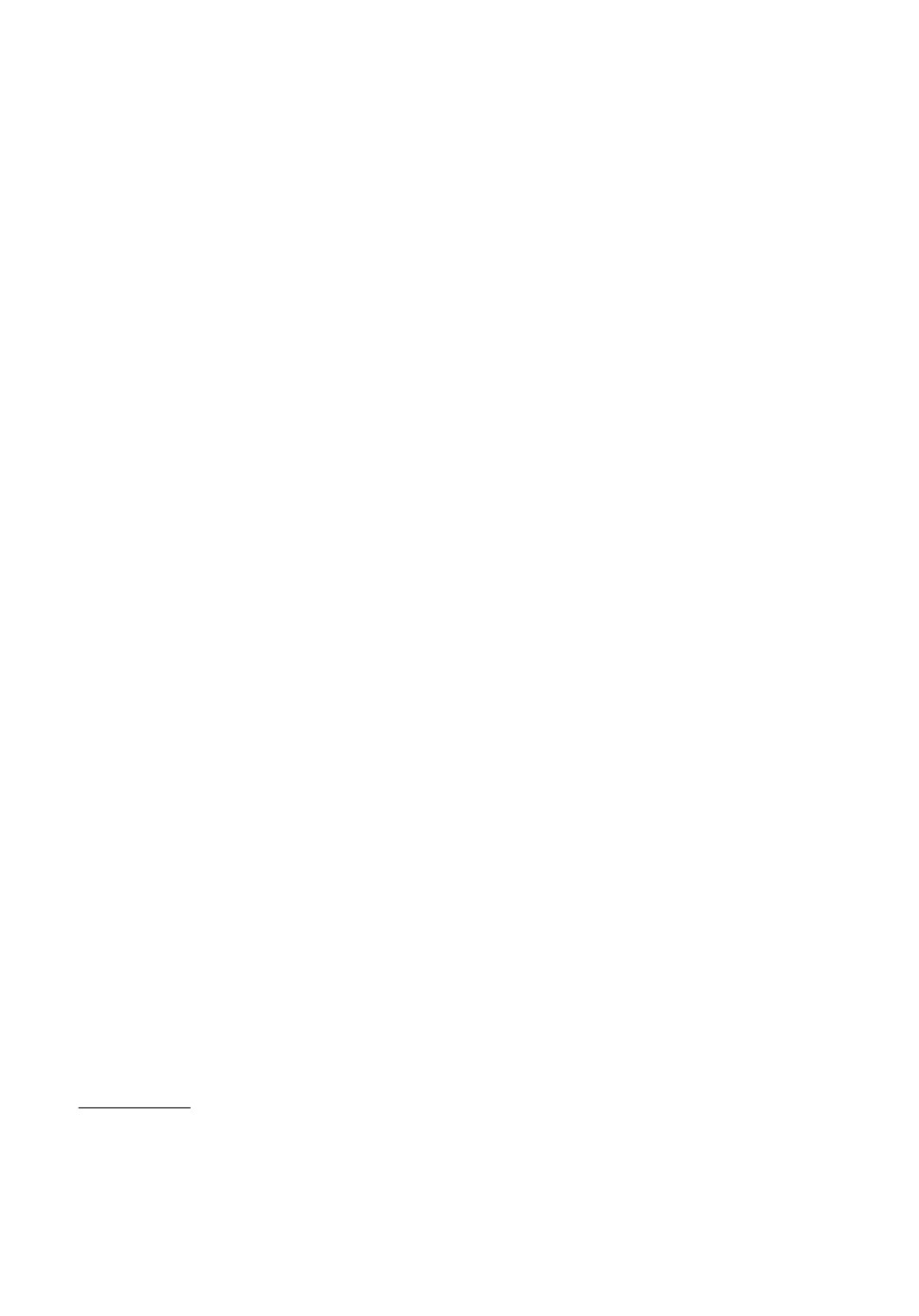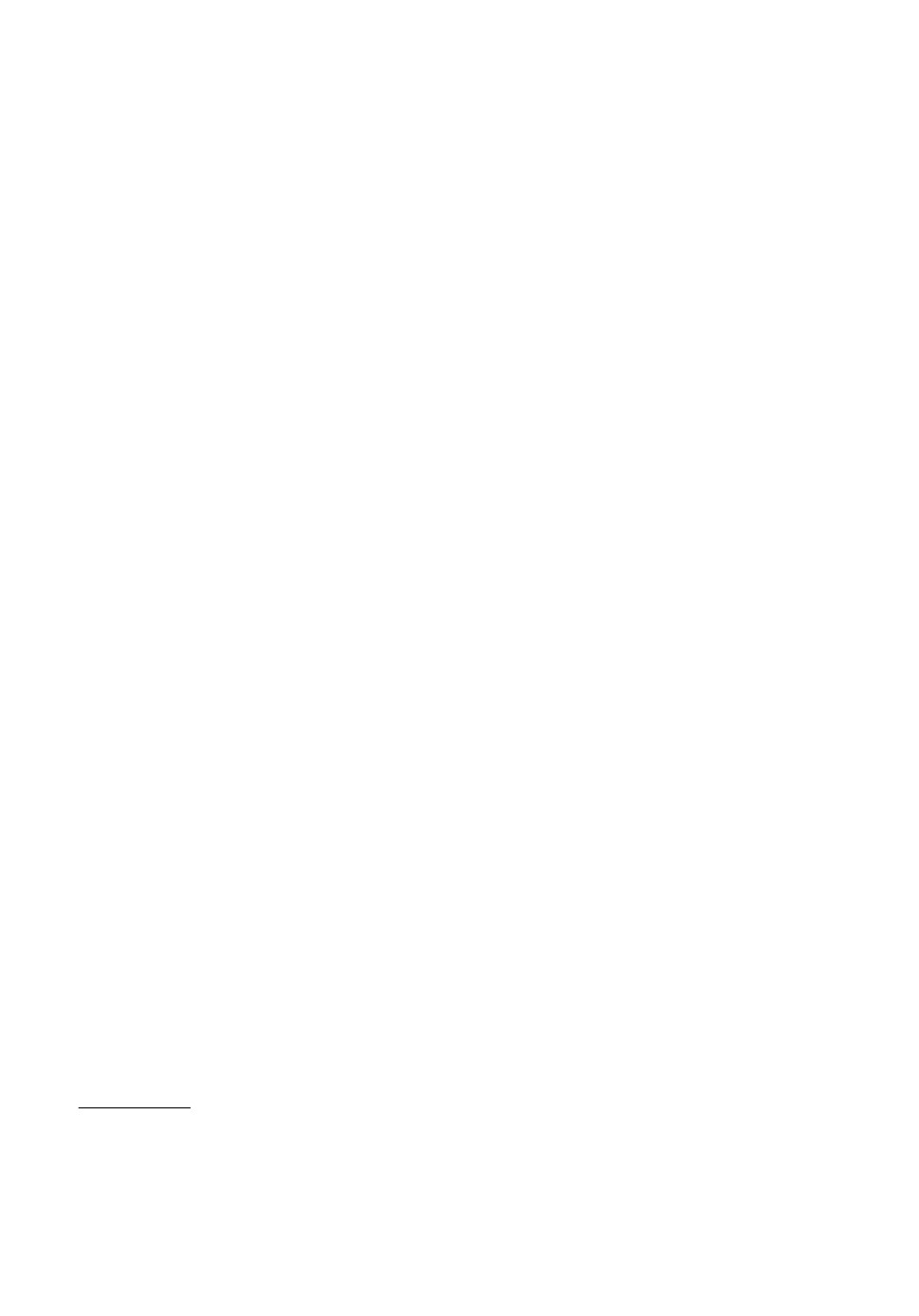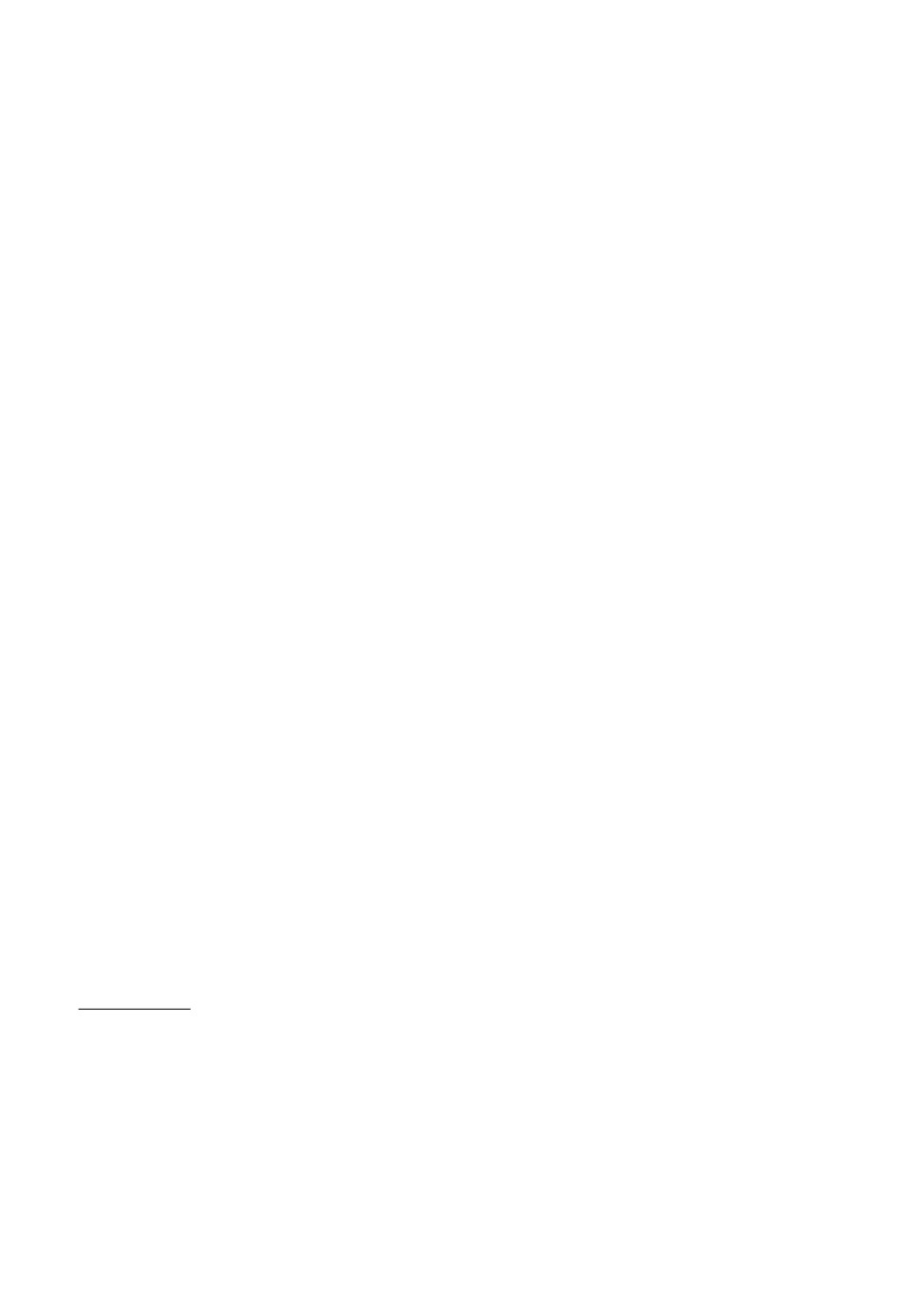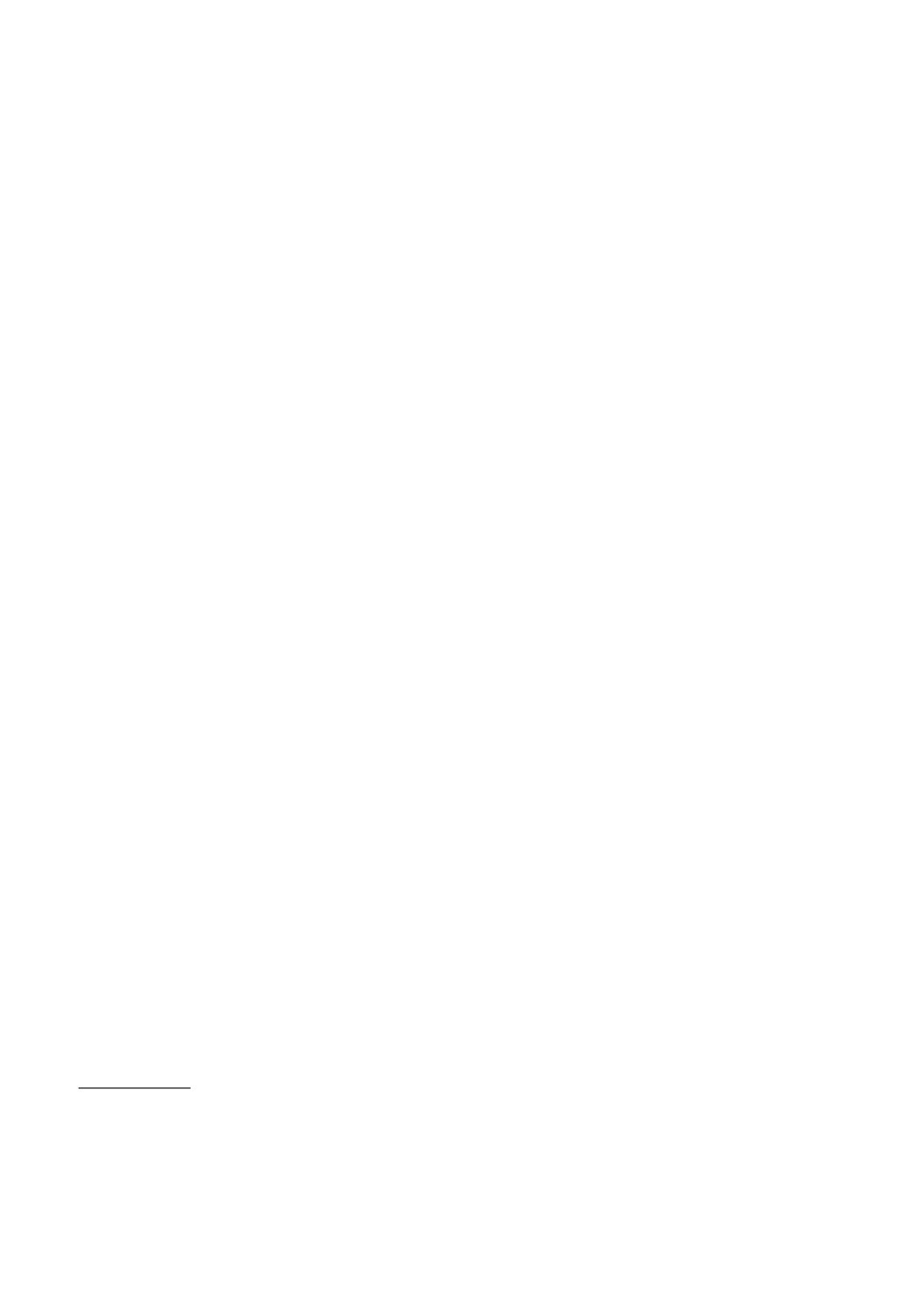Рождённый в годы нэпа.
Первый пятилетний план: жизнь и судьба
Михаил Фельдман
Born during the NEP years. The first five-year plan: life and destiny
Mikhail Feldman
(Ural Institute of Management - branch of the Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration, Yekaterinburg, Russia)
DOI: 10.31857/S0869568722040197, EDN: JBFZJI
Переход к нэпу ознаменовал новый этап отношений власти и научной ин-
теллигенции. Он позволил экономистам активно включиться в работу по вос-
становлению народного хозяйства страны. По мнению историка экономики
Н.М. Ясного, в 1920-х гг., особенно в первой половине десятилетия, идеологи-
ческий контроль над экономической наукой был относительно мягким1. Пря-
мые связи с Госпланом позволили учёным не только опираться на богатейшую
статистику, но и использовать комментарии специалистов отделов ведомства.
Решая проблемы, связанные с проектом индустриализации, они по ряду на-
правлений далеко опередили западную экономическую мысль. Их вклад оказа-
лось возможно оценить по достоинству только спустя три-четыре десятилетия,
в период кризиса кейнсианской и институциональной экономической полити-
ки. Более того, среди тогдашних разработок есть и актуальные для современ-
ности: механизмы равновесия как предмет экономической науки и механизмы
развития как предмет социально-экономической генетики; вопрос факторов
и институциональных основ экономического развития; природа экономиче-
ских институтов, причины их возникновения и распада, механизм отбора2.
Утверждённый в мае 1929 г. V съездом Советов, первый пятилетний план
представлял собой уникальное явление. Три его тома удачно сочетали отрас-
левую составляющую модернизации страны, проблемы социального характера,
различные аспекты регионального развития. Они явились крупным шагом на
пути усовершенствования и конкретизации методологии планирования. С точ-
ки зрения мировой экономической науки наиболее новаторским оказался ре-
гиональный подход. В 1926-1929 гг. Госплан уделял большое внимание разра-
ботке районных и межрайонных проблем пятилетки в рамках экономического
районирования. С этой целью проводились конференции по комплексному
учёту ресурсов и определению конкретных задач в рамках отраслей и крупных
экономических районов3. Наметилась специализация краёв и областей с учё-
том наилучшего использования их богатств и «подтягивания» отстающих реги-
онов; были определены перспективы межрайонного сотрудничества; разрабо-
таны прогнозы развития таких крупных районов, как Урал (Уральская область)
и Сибирь (Сибирский край).
© 2022 г. М.А. Фельдман
1
Ясный Н.М. Советские экономисты 1920-х гг. Долг памяти. М., 2012. С. 717.
2
Ольсевич Ю.Я. Введение // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. Т. 4. Век
глобальных трансформаций. М., 2004. С. 13-15.
3
История социалистической экономики СССР. Т. 3. М., 1977. С. 18.
172
В период первой пятилетки страна вступала с «оптимальным вариантом»
плана. Даже с учётом многократных поправок он представлял собой относи-
тельно реалистичный документ, обозначивший основные направления эко-
номического развития страны и инструменты их реализации. Он предполагал
«участие различных классов в решении задач индустриализации», равенство
всех систем кооперации, понимание индивидуального крестьянского хозяйства
как «сохраняющего для настоящего пятилетия своё значение главного произ-
водителя сельскохозяйственных продуктов». Таким образом, он включал всё
то, что недвусмысленно говорило о стремлении, с одной стороны, сохранить
многоукладную экономику, а с другой - совершить рывок в промышленности,
особенно в металлургии и машиностроении, осуществить крупномасштабное
строительство новых и реконструкцию старых предприятий.
Прямая вина И.В. Сталина и его окружения заключалась в бездумном раз-
базаривании многомиллиардных средств и гибели миллионов людей - столь
высокой оказалась цена отказа от нэпа. Индустриальный проект из инстру-
мента государственной политики превратился в самоцель. Задача «в кратчай-
ший исторический срок догнать, а затем и превзойти уровень индустриального
развития передовых капиталистических стран» решалась во многом на основе
количественных показателей. Напротив, социальная политика трансформиро-
валась из основной составляющей «социалистического» курса во второстепен-
ную, девальвировав само его значение.
В 1933 г. свет увидело официальное издание «Итоги выполнения Первого
пятилетнего плана развития народного хозяйства Союза ССР». Оно должно
было обосновать сталинский тезис о том, что высокий удельный вес государ-
ственного сектора в промышленности, а также колхозно-совхозного сектора
в сельском хозяйстве следует рассматривать как показатель степени развития
«социалистического уклада». Отмечалось значительное перевыполнение пяти-
летки по всем показателям в первые годы. Это означало, что относительно
высокие темпы роста объяснялись размахом промышленного строительства,
включая сооружение ряда промышленных гигантов, не предусмотренных пла-
ном. Куда более сложной оказалась задача освоения заводского и фабричного
оборудования: даже по официальным данным план по валовой продукции про-
мышленности оказался выполнен всего на 93,7%4.
На фоне мирового экономического кризиса оказалось легко на основе
выборочных количественных показателей характеризовать сдвиги в народном
хозяйстве как «триумфальные». Заявление о том, что СССР догнал развитые
страны капитализма по удельному весу промышленности в национальном до-
ходе, а также по удельному весу производства средств производства, призвано
было доказать «превосходство социалистического строя над капиталистиче-
ским». В «Итогах» редко приводились сведения, опиравшиеся на международ-
ную статистику. Так, например, сообщалось, что «при свёртывании внешней
торговли капиталистических стран, удельный вес СССР в мировой торговле
возрос, и СССР передвинулся с 17-го места в 1928 г. на 11-е в 1932 г.»5.
Следует отметить: в советский период истории характеристики итогов пя-
тилетки на долгие десятилетия определялись сталинскими формулировками из
4
Итоги выполнения Первого пятилетнего плана развития народного хозяйства Союза ССР.
М., 1933. С. 14, 15, 22.
5
Там же. С. 11, 15.
173
доклада генсека на объединённом пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) (7-12 января
1933 г.). Так, в духе официальных пропагандистских установок оказалась вы-
держана статья, посвящённая созданию и эволюции первого пятилетнего пла-
на. Упор в ней делался на съезды плановых работников СССР. «Отправной»
и «оптимальный» варианты плана, подготовленные в августе 1928 г. работ-
никами Госплана, клеймились как оппортунистические, поскольку «разраба-
тывались при участии буржуазных экономистов и техников, которые в своих
проектировках и экспертизах пытались преуменьшить ресурсы и темпы ин-
дустриализации». В силу этого варианты, отталкивавшиеся от «технических
возможностей», якобы «страдали органическим пороком - минимализмом».
В вину Госплану вменялась непростительная ошибка: «Ни в одном варианте…
не была поставлена задача сокращения доли частного капитала»6.
В похожем духе писал спустя десятилетия ведущий советский исследова-
тель индустриализации В.С. Лельчук. При этом он, правда, отмечал, что со-
здание «основ индустриализации» сочеталось с «сужением сферы действия
экономических рычагов управления», «низкой культурой труда, слабой про-
изводственной дисциплиной»7, т.е. с теми масштабными явлениями, которые
генсек оставил за рамками своего доклада в 1933 г. В целом же сокрытие до-
стоверной информации в условиях жёсткого идеологического и полицейско-
го контроля становилось питательной средой для возникновения и упрочения
сталинской мифологии.
Переосмысление догм началось лишь в конце 1980-х гг., однако на под-
линно научный уровень вышло уже в постсоветскую эпоху. Так, Н. Верт обра-
тил внимание на методику манипулирования количественными показателями.
Подводя итоги первой пятилетки, Сталин оперировал цифрами первоначально-
го варианта плана, принятого V съездом Советов в апреле-мае 1929 г. и вскоре
отвергнутого за «сознательно заниженные показатели», а не принятого под его
давлением варианта 1930 г.8 Следует заметить, что «вождь» только повторил
уловку В.М. Молотова. Годом ранее, на XVII Всесоюзной партийной конфе-
ренции (февраль 1932 г.) глава правительства рапортовал о выполнении плана,
отталкиваясь от его «оптимального варианта», умалчивая о процессе безудерж-
ного увеличения капиталовложений в промышленность, составившего в 1930 г.
сверхплановые 57, а в 1931 г. - 80%9.
Следует отдать должное британскому историку Р.У. Дэвису, сумевшему на
основе широкого круга источников обратиться к непредвзятому изучению не
только итогов социально-экономического развития СССР, но и осмысления
результатов пятилетки советским руководством. Он не без иронии писал о ян-
варском Пленуме ЦК ВКП(б), что «первый пункт повестки дня пленума… был
смело озаглавлен “итоги Первой Пятилетки и народно-хозяйственный план на
1933 год - первый год второй пятилетки”». «Смелость» заключалась в том, что
итоги 1932 г., а с ним и всей пятилетки, подводились уже через неделю после
окончания календарного года, тогда как технические возможности тщатель-
ного подсчёта требовали иных, существенно бóльших сроков. В пользу этого
утверждения говорит и то, что все три доклада об итогах пятилетки (Сталина,
6
Гладков И.А. К истории первого пятилетнего народнохозяйственного плана // Плановое
хозяйство. 1935. № 4. С. 112, 115, 122.
7
Лельчук В.С. Индустриализация СССР: история, опыт, проблемы. М., 1984. С. 171, 173.
8
Верт Н. История Советского государства, 1900-1991. М., 1992. С. 200.
9
ХVII конференция ВКП(б). Стенографический отчёт. М., 1932. С. 127.
174
Молотова и В.В. Куйбышева, а также речь Г.К. Орджоникидзе) появились в пе-
чати лишь с незначительными изменениями по сравнению с машинописными
стенограммами, сохранившимися в архивах10. Всё это позволяет утверждать,
что подготовленные заранее доклады были связаны с анализом статистических
показателей лишь формально.
Дэвис очертил хронологию событий: 3 декабря 1932 г. Политбюро, подведя
итоги года (!), определило размеры будущих капиталовложений. На основе это-
го решения 5 января 1933 г. Совнарком принял секретный декрет «О государ-
ственном бюджете и экономическом плане на 1933 год». Секретность распре-
деления капиталовложений прочно вошла в практику управления, определяя,
например, не только соотношение объявленных (1 450 млн руб.) и реальных
(4 178 млн руб.) расходов на оборону в 1933 г.11, но и общую закрытость данных
о подлинной финансовой политике государства.
Сталинский лозунг об «успешном и досрочном завершении пятилетки за
четыре года и три месяца» определил направленность и тональность высту-
плений на пленуме. Даже члены Политбюро, отвечавшие за реальные секто-
ра экономики и в силу этого глубже осознававшие положение дел, оказались
«скованными одной цепью» идеологизированных выводов и суждений. Не об-
суждались весьма спорные утверждения генсека о «рождении за период 1928-
1932 гг. всех новейших отраслей промышленности», о «решении зерновой про-
блемы» и т.д. Вообще дискуссии по социально-экономическим проблемам на
пленумах 1928-1929 гг. казались далёким прошлым.
Повышенная эмоциональность сталинского выступления затрудняла объ-
ективный разбор реализации плана. Как следствие, «восторженная резолюция
Пленума ЦК одобрила доклад о первом пятилетнем плане и директивы по пла-
ну 1933 г.»12. Однако, по обоснованному утверждению О.В. Хлевнюка, «первая
пятилетка по всем ключевым параметрам не была выполнена вообще. Провоз-
глашённые цифры - стопроцентный рост индустриальной продукции между
1928 и 1932 гг. - были ложью. Реальные показатели были примерно вдвое
меньше… Производительность труда в крупной промышленности в 1932 г. даже
снизилась по сравнению с 1928 г.»13. Массовая пропаганда, воспроизводившая
сталинские тезисы о «заводах-гигантах, не имеющих равных в мире», «правах
и свободах советских людей» и т.п., в условиях голода и тотального дефицита
имела только частичный успех. Итоги пятилетки оказались столь далеки от
запланированных по инициативе главы партии, что Сталин имел все основа-
ния беспокоиться за свою судьбу. Фактически промолчавший все одиннадцать
заседаний XVII партконференции, не желая вступать в дискуссию о причинах
очевидного кризиса в экономике14, генсек стремился не допустить сопоставле-
ния плановых и достигнутых показателей и в январе 1933 г.
Однако завеса мифологии постоянно «разрывалась» выступлениями о ка-
честве продукции и состоянии хозрасчётных отношений. Речь не только
о позиции директорского корпуса, продемонстрированной ещё в 1931 г. на
10
Davies R.W. Crisis and progress in the Soviet economy, 1931-1933. Basingstoke; L., 1996. Р. 317.
11
Ibid. Р. 319
12
Ibid. Р. 326.
13
Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010. С. 178, 179, 206.
14
Фельдман М.А. Трудная попытка осмысления (новый взгляд на события ХVII конференции
Всесоюзной Коммунистической партии (б)) // Гуманитарные науки в Сибири. Т. 27. 2020. № 1.
С. 83.
175
I Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности15.
Выступление 31 января 1932 г. на XVII конференции члена Политбюро ЦК
Я.Э. Рудзутака содержало в себе «информационную бомбу». Низкое качество
значительной части продукции заводов не являлось для делегатов тайной. Но
указать конкретную цифру - до четверти произведённого - стало большой сме-
лостью16. Стоимость выпущенной в 1931 г. промышленной продукции Орджо-
никидзе оценил в 11,8 млрд руб. Получалось, что «на ветер» выбрасывалось до
3 млрд. Фактически Рудзутак дал политике радикального форсирования темпов
экономического роста жёстко негативную оценку. О степени сталинского не-
довольства говорит и то, что через четыре дня после этого выступления Рудзу-
така перевели из членов в кандидаты в члены Политбюро.
Тем не менее катастрофическое положение в экономике к августу 1932 г.
признали все члены Политбюро17. Однако антикризисные меры, предлагавши-
еся Сталиным и руководителями наркоматов, серьёзно разнились. Например,
нарком финансов Г.Ф. Гринько призывал дать приоритет качественным пока-
зателям. Это вызвало негативную реакцию Сталина, заявившего, что «пятилет-
няя программа считается у нас минимальной. У нас будут ещё ежегодные кон-
трольные цифры, которые будут расширять пятилетний план из года в год»18.
Оказавшись если не у «последней черты», то в ожидании критических вы-
ступлений, Сталин готовился к корректировке курса. Но для этого требовался
ряд условий: сохранение и усиление негативных оценок недавних соратни-
ков - «правых» (признание правоты бывшего главы СНК СССР А.И. Рыкова
и его сторонников означало бы для генсека политическое самоубийство); от-
сутствие даже незначительной критики проводимой политики; запрет на огла-
шение информации о реальных переменах в экономике; продолжение восхва-
ления генсека как «мудрого вождя и продолжателя дела Ленина».
Доклад Сталина, прозвучавший на пленуме 7 января 1933 г., газета «Прав-
да» опубликовала только спустя три дня. В его тексте можно выделить, по край-
ней мере, четыре группы утверждений. Первая касалась подведения итогов пя-
тилетки в промышленности. Чеканный рефрен «у нас не было - теперь есть»19
оказал завораживающее воздействие на участников пленума, неоднократно
цитировался членами ЦК, стал основой пропагандистских мероприятий. Ре-
альность же оказалась совсем иной. Например, авиационная промышленность
России в 1916 г. выпустила 1 287 самолетов и 639 моторов20. По производству
чёрных металлов и угля Россия немногим уступала Франции. Утверждение
Сталина, что «Россия до 1917 г. по производству нефтяных продуктов и угля
стояла на последнем месте», не выдерживало никакой критики с учётом того,
что на рубеже XIX-XX вв. страна добывала нефти больше всех в мире, уступая
только США по производству керосина21.
15
Первая Всесоюзная конференция работников социалистической промышленности: 30 ян-
варя - 5 февраля 1931 г. Стенографический отчёт. М., 1931. С. 23-24, 31-34.
16
ХVII конференция ВКП(б)… С. 73.
17
Хлевнюк О.В. Хозяин… С. 206, 217-218.
18
ХVII конференция ВКП(б)… С. 223.
19
Сталин И.В. Итоги первой пятилетки: доклад 7 января 1933 г. на Объединённом Пленуме
ЦК и ЦКК ВКП(б) 7-12 января 1933 г. // Сталин И.В. Полн. собр. соч. Т. 13. М., 1951. С. 64.
20
Мухин М.Ю. Авиапромышленность СССР в 1921-1941 гг. М., 2006. С. 99.
21
Дьяконова И.А. Нефть и уголь в энергетике царской России в международных сопоставле-
ниях. М., 1999. С. 130.
176
Уже на XVI съезде Сталин ввёл штамп «капитализм нам оставил почти пол-
ное отсутствие собственного машиностроения». «Конкретизируя» эту мысль,
его подчинённым приходилось прибегать к подтасовкам. Так, председатель
ВСНХ Куйбышев заявил: «До войны машиностроительная промышленность по
сравнимым ценам (приведённым к ценам 1926/27 г.) дала приблизительно на
307 млн руб. продукции»22. На деле же в 1913 г. в машиностроении и металло-
обработке России стоимость произведённой продукции равнялась 820 млн руб.
(в 1928/29 г. - 703 млн)23. Спустя год, в отчётном докладе на XVII съезде пар-
тии Сталин отметил: в 1913 г. на долю машиностроения приходилось 11% ва-
ловой продукции промышленности России24. Общий вывод этой части доклада
заключался в глобальном утверждении: за годы пятилетки удалось «перевести
нашу страну с её отсталой, подчас средневековой техникой - на рельсы но-
вой, современной техники»25. Но, помимо вышеприведённых тезисов, генсек
не привёл каких-либо доказательств.
Вторая группа затрагивала итоги пятилетки в сфере сельского хозяйства.
Главный довод в защиту обоснованности коллективизации заключался в уве-
личении объёмов заготовок товарного зерна с «500-600 миллионов пудов
товарного хлеба, заготовлявшегося в период преобладания индивидуального
крестьянского хозяйства, до 1 200-1 400 миллионов пудов ежегодно» после кол-
лективизации26. Практически весь состав участников пленума оказался «повя-
зан» участием в насильственной коллективизации. Но известна была и циф-
ра потерь животноводства за первые месяцы коллективизации, озвученная
в 1930 г. тогдашним председателем СНК РСФСР С.И. Сырцовым: «Перегибы
и ошибки в ходе коллективизации обернулись только в животноводстве по-
терями на сумму в 3 млрд руб.»27. Для понимания масштаба экономическо-
го и социального бедствия следует вспомнить, что по решению ноябрьского
(1929) пленума капитальные вложения в промышленность и электрификацию
на 1929/30 г. увеличивались на 43%: с 2,8 млрд руб. по «оптимальному» вари-
анту плана до 4 млрд28. Забой крестьянами значительной части лошадей привёл
к тому, что создание колхозов проходило без соответствующей материальной
базы. В 1928-1932 гг. совокупная мощность тракторов выросла с 0,27 млн ло-
шадиных сил до 2,1 млн. Но даже с учётом этого совокупная тягловая сила
в 1932 г. составила 21-22 млн сил против 28 млн в 1928 г.29
Сталинский вариант модернизации деревни проходил по лекалам Граж-
данской войны: фактически это была продразвёрстка. В условиях самого бла-
гоприятного в климатическом отношении 1930 г. в деревнях зачастую выгре-
22
ХVI съезд ВКП(б). 26 июня - 13 июля 1930 г. Стенографический отчёт. Т. 2. М., 1935.
С. 859.
23
Динамика российской и советской промышленности в связи с развитием народного хо-
зяйства за сорок лет (1887-1926 гг.). Т. 1. Свод статистических данных по фабрично-заводской
промышленности с 1887 по 1926 год. Ч. 3. Промышленность 1912, 1913, 1915, 1920 и 1925/26 гг.
М.; Л., 1930. С. 10.
24
ХVII съезд ВКП(б). 26 января - 10 февраля 1934 г. М., 1934. С. 17.
25
Сталин И.В. Указ. соч. С. 62.
26
Там же. С. 69.
27
ХVI съезд ВКП(б)… Т. 1. М., 1935. С. 400-403.
28
Как ломали нэп. Стенограммы пленумов ЦК и ЦКК ВКП(б). 1928-1929 гг. / Отв. ред.
В.П. Данилов. Т. 5. Пленум ЦК ВКП(б) 10-17 ноября 1929. М., 2000. С. 547.
29
Кондрашин В.В. Хлебозаготовительная политика в годы первой пятилетки и её результаты
(1929-1933 гг.). М., 2014. С. 84.
177
бались и продовольственные, и семенные фонды. При этом потери зерна при
уборке урожая в колхозах составляли примерно 22% от валового сбора. В итоге
в условиях масштабного голода из государственных фондов пришлось выде-
лить ссуды в размере 75,4 млн пудов30. Самым тяжёлым проявлением коллек-
тивизации стал голод, от последствий которого погибли 5,6 млн человек, в том
числе 2,5 млн - на Украине31.
Сталин хорошо знал, что объём валовой продукции сельского хозяйства
за пятилетку не вырос, а сократился на 6-7%. Между тем предусматривался
значительный рост: с 2 990 млн до 5 300 млн руб. по отправному варианту и до
6 400 млн руб. - по оптимальному32. При сохранении нэповской модели кре-
стьянство могло за счёт развития кооперации, сельскохозяйственного машино-
строения и т.п. нарастить товарную продукцию на 2,4-3,5 млрд руб.
Нигде, как в этом сегменте доклада, мифологическая завеса не выставля-
лась так масштабно! Не случайно, понимая всю натянутость своих выводов,
11 января Сталин выступил с ещё одним (незапланированным и не указанным
в повестке) докладом - «О работе в деревне»33 (опубликован в «Правде» 17 ян-
варя). Признав, что в 1932 г. «хлебозаготовки прошли у нас с бóльшими труд-
ностями, чем в предыдущем году», он дал развёрнутое объяснение произошед-
шему. Виноватыми оказались работники колхозов и совхозов, не увидевшие
«отрицательных сторон» разрешения колхозной торговли. Легализация таковой
означала и легализацию рыночной цены на зерно, а значит, появление у кре-
стьян выбора. Задача сельских коммунистов, по мнению Сталина, заключалась
в том, что «с первых же дней уборки, ещё в июле месяце 1932 года, они должны
были всемерно усилить и подгонять хлебозаготовки». Как видно, насилие как
основной метод коллективизации в прошлое вовсе не уходило. Больше того,
его подкрепляли административные меры: в постановлении СНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 6 мая 1932 г. «О плане хлебозаготовок из урожая 1932 г. и развёр-
тывании колхозной торговли хлебом» прямо говорилось, что «колхозную тор-
говлю хлебом можно открыть лишь после того, как будет выполнен целиком
и полностью план хлебозаготовок и будут собраны семена».
Сталин указал на «засорённость» колхозов «бывшими» из числа «кулаков»,
«белых» солдат и офицеров, чиновников, служащих и т.д. Более того, даже
само объединение крестьян в колхозы пугало его потенциальной возможно-
стью воздействия на жителей деревни нежелательной информации и агитации.
Тем самым робкий шаг назад от потрясений коллективизации оказывался лишь
краткой передышкой перед новыми шагами вперёд по дороге насилия. Участ-
никам же пленума предложили явно мифологический тезис о «превращении
СССР в страну самого крупного сельского хозяйства в мире»34.
Третья группа утверждений должна была объяснить практику «бешеных тем-
пов», всех трудностей и тягот, выпавших на долю населения в годы пятилетки,
а также причины невыполнения плановых заданий. Основные причины Сталин
связал с внешним фактором - «отказом соседних стран подписать с нами пакты
о ненападении и осложнениями на Дальнем Востоке». Следствием этого стало
30
Там же. С. 48-49, 81.
31
Есиков С.А. Российская деревня в годы нэпа. К вопросу об альтернативности сталинской
коллективизации (по материалам Центрального Черноземья). М., 2010. С. 294-295.
32
Как ломали нэп… Т. 5. С. 273.
33
Сталин И.В. Указ. соч. С. 78-84.
34
Там же. С. 69.
178
«переключение ряда заводов в целях усиления обороны на производство совре-
менных орудий обороны»35. Сталинский почерк - снятие с себя ответственности
за чудовищные ошибки и преступления, возложение её на местные кадры и ка-
питалистическое окружение - не менялся с весны 1930 г., времени балансирова-
ния на грани новой Гражданской войны в деревне. Но нашёлся и принципиаль-
но новый момент - неоднократное подчёркивание безальтернативности курсу
начала 1930-х гг.36 Никакого аналитического сравнения вариантов пятилетнего
плана генсек не делал. Его усилия сосредоточились на написании картины ужа-
сов, ожидавшей СССР в случае отказа от «бешеных темпов».
Четвёртая группа затрагивала изменение направленности экономической
политики. Комплекс внутренних и внешнеполитических причин (хаос хозяй-
ственных связей, финансовый кризис, рост внешней задолженности и др.) не
позволял далее «подхлёстывать и подгонять страну». По существу, перед нами
отказ от курса пятилетки, его тихое отрицание (в ряде пунктов - даже осужде-
ние)37. В годы второй пятилетки на первый план выходило освоение техники
старых или обновлённых заводов и фабрик, требовавшее повышения квали-
фикации рабочих и инженерно-технического персонала38. Но примечательна
оговорка генсека: «Особенно в первые два-три года второй пятилетки». Это
означало, что на стабилизацию положения (в том числе за счёт отступления от
приоритета насильственных мер) отводились 1933-1935 гг.
Специалисты (работники экономических наркоматов, представители ди-
ректорского корпуса) не услышали от руководителя партии ни слова о хоз-
расчёте - стержне курса «мини-реформ». Пропагандистские клише постоянно
напоминали: в специальном разделе речи Сталина на совещании хозяйствен-
ников 23 июня 1931 г. говорилось, что «благодаря бесхозяйственному веде-
нию дела, принципы хозрасчёта оказались совершенно подорванными в целом
ряде наших предприятий и хозяйственных организаций. Это факт, что… давно
уже перестали считать, калькулировать, составлять обоснованные балансы до-
ходов и расходов»39. Однако подлинное отношение Сталин выразил в письме
Л.М. Кагановичу от 6 августа 1931 г.: «Буржуазный подход к вопросу о рента-
бельности - расклевать»40. В системе координат «социалистической экономи-
ки» хозрасчёт имел право на существование в сфере права, но его подлинная
жизнь начиналась за пределами легальной экономики. Не случайно началом
1930-х г. датируется начало слияния командной экономики с теневой41.
Не прозвучало и оценки внешних хозяйственных связей, даже с учётом
«практически полной зависимости советской индустриализации от зарубежных
технологий»42. Это, впрочем, неудивительно: мифологические конструкции
складываются не только из слов, но и из фигур умолчания. Таким образом, ана-
лиз доклада 7 января 1933 г. показывает, что готовность Сталина к переменам
35
Там же. С. 65.
36
Там же. С. 66.
37
Хлевнюк О.В. Хозяин… С. 177.
38
Сталин И.В. Указ. соч. С. 67.
39
Там же. С. 28-29.
40
Сталин и Каганович. Переписка. 1931-1936 гг. М., 2001. С. 37.
41
Мерль Ш. Советская экономика: современные оценки // Экономическая история. Ежегод-
ник. М., 2017. С. 314.
42
Шпотов Б.М. Американский бизнес и Советский Союз в 1920-1930-е годы. Лабиринты
экономического сотрудничества. М., 2012. С. 15.
179
носила условный и временный характер. Прагматизм в кризисных ситуациях
постоянно натыкался на идеологические догмы. Несовпадение двух противо-
положных по смыслу курсов (рационально-технократического и волюнтарист-
ского) должно было решаться за счёт подавления реальных или потенциальных
недовольных.
Важная черта реальности тех лет - автоматическое превращение сталин-
ских формулировок в положения партийных доктрин. Показательно, что вы-
ступавший на следующий день (8 января) Молотов начал с сакраментальной
фразы: «Докладом товарища Сталина исчерпывается вопрос об итогах Первой
пятилетки»43. Будто в подтверждение номер «Правды» за 12 января, в котором
опубликована речь главы правительства, сопровождался страницей тщательно
подобранных выступлений трудящихся под общим заголовком: «Новой волной
энтузиазма, инициативы и трудового подъёма встретили массы доклад вождя
партии тов. Сталина!».
Сам же доклад Молотова «О задачах первого года второй пятилетки» фак-
тически только уточнял отдельные положения сталинского выступления, вос-
производя даже структуру речи генсека. Относительным отличием можно счи-
тать неконкретные фразы о масштабе брака, низкой степени загрузки станков,
значительном количестве установленного, но не работающего оборудования.
Общий вывод доклада оказался выдержан в русле поворота экономического
курса, согласованного руководством ВКП(б) ещё в конце 1932 г.44 Главной
задачей промышленности объявлялось повышение производительности труда;
упор должен был делаться не на количественные показатели, а на качество
продукции. Однако указание на пути достижения поставленных целей копиро-
вало язык постановлений ЦК и СНК времён «бешеных темпов»: «Надо только
развернуть большевистскую борьбу за улучшение организации труда и укрепле-
ние дисциплины»! Фактически без внимания остались проблемы материально--
бытового положения трудящихся. Между тем реальная заработная плата заня-
тых в промышленности за годы пятилетки снизилась с 50 до 30%, провалились
все социальные программы45.
Об итогах пятилетки читатель газет «Правда» и «Известия» мог узнать не-
много. Пленум в публикациях за 8-12 января представлен только доклада-
ми Сталина и Молотова! Недосказанность превратилась в важную составля-
ющую информационной среды советской жизни. Так, не нашлось места для
изложения короткого выступления 8 января заместителя председателя Госпла-
на Г.И. Ломова, которое содержало единственный критический фрагмент: «Ряд
шахт, которые мы считаем пущенными, на самом деле дают всего процентов
20-60 их проектной мощности, и почти ни одна из крупных пущенных шахт
в Донбассе и Кузбассе не даёт добычи, близкой к проектной мощности»46.
21 января газета опубликовала статью Ломова, представлявшую собой пане-
гирик развитию топливной промышленности с небольшим вкраплением аб-
страктных замечаний47. Однако даже это не избавило автора от сталинского
43
Молотов В.М. О задачах первого года Второй пятилетки // Правда. 1933. 12 января.
44
Хлевнюк О.В. Хозяин… С. 217-218.
45
Davies R.W. Op. cit. P. 479.
46
Индустриализация Советского Союза. Новые документы. Новые факты. Новые подходы /
Сост. С.С. Хромов. Ч. 2. М., 1999. С. 119.
47
Ломов Г.И. Итоги выполнения топливной пятилетки // Правда. 1933. 21 января.
180
гнева: вскоре его освободили от работы в Госплане, а в феврале 1934 г. вывели
из состава ЦК.
Выступление наркома лёгкой промышленности И.Е. Любимова (10 января)
тоже оказалось вне печати за фразу: «В Америке, например, при производстве
обуви в 4,5 раза больше, чем у нас, натурального кожевенного подошвенного
сырья употребляется всего лишь в полтора раза больше, чем у нас»48. Впрочем,
оратор сохранил пост до 1937 г.
Уже после закрытия пленума, 13 января, в «Правде» появился доклад Куй-
бышева «Итоги борьбы за техническую реконструкцию народного хозяйства».
Выдержанный в оптимистическом духе, он содержал заявления о создании
современного машиностроения, первом месте в мире по соотношению элек-
тростали и стали, завершении технической реконструкции в нефтяной про-
мышленности. Однако внимательный читатель обратил бы внимание, что лишь
в одной отрасли (нефтяная) завершилась техническая реконструкция. Соору-
жение заводов-гигантов либо не закончилось, либо на них только начиналось
освоение производственных мощностей. Производство электростали в разы
отставало от показателей США и Германии49. Ответ на вопрос, в какой же
степени выполнены задания пятилетнего плана по технической реконструкции
в народном хозяйстве?, руководитель ВСНХ не озвучил. Но в принципе в этом
уже не было необходимости: 13 января «Правда» опубликовала резолюцию
пленума по докладам Сталина, Молотова и Куйбышева, принятую 10 января.
В жизнь прочно входила традиция партийных форумов без публичного обсуж-
дения, с единогласным одобрением заранее подготовленных резолюций.
Несколько иная тональность выступления Орджоникидзе привела к тому,
что его речь напечатали только 22 января. Фразу «мы немного разучились
считать деньги» можно было бы рассматривать как пример лёгкой критики
экономического курса. Однако она прозвучала как продолжение весьма жёст-
ких замечаний оратора о забвении хозрасчёта на XVII конференции 30 января
1932 г. Утверждение, что «на протяжении последних лет хозрасчёт у нас почти
полностью пропал»50, означало, что представитель высшего руководства, бо-
лее других внёсший в реализацию плана, признал: многочисленные решения
и постановления о внедрении хозрасчёта не дали результатов. Даже довольно
ограниченная самостоятельность производителей не вписывалась в командно--
административную систему. Спустя ровно год после этого выступления, как
отмечает Дэвис, получивший доступ к тексту до сих пор не рассекреченной
(не опубликованной целиком) стенограммы пленума, Орджоникидзе говорил
о пренебрежении хозяйственников к вопросам стоимости продукции как ха-
рактерной черте индустриализации51.
Написанные словно под копирку речи Н.И. Бухарина, Рыкова и М.П. Том-
ского, опубликованные 14-16 января, говорили только об одном: «Альтерна-
тивного курса не существует». Три недавних члена Политбюро дружно крити-
ковали уже безымянных «правых» и превозносили Сталина. Попытки Бухарина
выделить отличия «социалистической» и капиталистической индустриализации
вызывали лишь улыбку абстрактностью рассуждений о «принципиально иных
48
Индустриализация Советского Союза… Ч. 2. С. 126.
49
Куйбышев В.В. Итоги борьбы за техническую реконструкцию народного хозяйства // Прав-
да. 1933. 13 января.
50
ХVII конференция ВКП(б)… С. 19.
51
Davies R.W. Op. cit. P. 326.
181
технологиях», «принципиально иных мощностях» и т.д. Пожалуй, главным
в речи оказалось другое - допустимость применения «суровой расправы» нал
оппозицией (группа И.Н. Смирнова)52. Демонстрация максимальной предан-
ности «генеральной линии» доказывала: путь отступления от принципов не
имеет преград и ведёт к превращению политика в марионетку.
Завершило работу пленума выступление Рудзутака. Представитель старой
большевистской гвардии провозгласил начало «общепартийной чистки». Её
предназначение очевидно: пленум на основе сталинского доклада констатиро-
вал триумфальное завершение пятилетки. Чистка предназначалась для усом-
нившихся в верности выводов и оценок.
Рассматриваемый пленум занимает особое место в ряду партийных фору-
мов. По важности выводов, вошедших на десятилетия в учебники (например,
тезиса о «построении экономического фундамента социализма»). По масштабу
обмана общества: гибель миллионов от голода, ссылка и разорение наиболее
умелых крестьян, обнищание населения страны, катастрофа в животноводстве,
экономический хаос в строительстве и промышленности подавались как рево-
люционная победа «социалистических отношений». По степени скрытности:
выступления на пленуме либо не были опубликованы, либо подверглись со-
знательному искажению.
Существует и иная сторона событий января 1933 г. К этому времени Ста-
лину пришлось признать ошибочность экономического курса 1929-1931 гг.,
переложив вину за его трагическое осуществление на местных работников, со-
противление и саботаж «классовых врагов», внешнеполитический фактор. Но
это запоздавшее, оплаченное огромными материальными потерями и человече-
скими жертвами признание носило временный характер. Курс «мини-реформ»
(товарно-денежные отношения, система стимулирования заработной платы,
«квазирынок» для труда, легализация рыночной торговли)53 грозил Сталину
и его группировке потерей господства в партии, обществе и государстве. Даже
при сохранении командно-административной системы нарушалось мифологи-
ческое пространство «чистого» социализма: рушилась вся система догматиче-
ских аргументов о вреде рынка, товарно-денежных отношений, экономической
самостоятельности производителей. Тем не менее по выступлениям Ломова,
Любимова и Орджоникидзе видно, что ответственные за отрасли экономики
не желали принимать пропагандистские тезисы за реальность. Никакая масси-
рованная пропаганда «триумфа» не могла вытравить в сознании хозяйственни-
ков и региональных руководителей ощущения её несоответствия реальности,
наоборот, порождала определённую внутреннюю невосприимчивость к мифо-
логемам54. Участники пленума, отвечавшие за конкретные проекты, понима-
ли, что переход к умеренному курсу является косвенным признанием провала
политики «большого скачка». Но большинство рассматривали это только как
тактическую неудачу.
В то же время появление оппозиционных групп среди партийных работни-
ков свидетельствовало о растущем недовольстве Сталиным55. Его политика нача-
52
Выступление Н.И. Бухарина по докладу И.В. Сталина «Итоги первой пятилетки и народ-
нохозяйственный план 1933 г.» // Правда. 1933. 14 января.
53
Davies R.W. Op. cit. P. ХV.
54
Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия». Распределение и рынок в снабжении
населения в годы индустриализации. 1927-1941. М., 2008. С. 403.
55
Такер Р. Сталин - диктатор. У власти. 1928-1941. М., 2013. С. 257-261.
182
ла вызывать непонимание прежде всего директорского корпуса, зажатого в ти-
ски невыполнимых требований с одной стороны и пассивного сопротивления
подчинённых - с другой56. Это проявилось уже на I Всесоюзной конференции
работников социалистической промышленности (1931), а ХVII партконферен-
ция (1932) показала, что подобные настроения проникли и в ряды партактива.
Январский (1933) пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) лишь подтвердил тенденцию.
Генсек ответил политическим манёвром
- очередной общепартийной
«чисткой»57. Начавшись как кампания летом 1929 г., она приобрела, используя
терминологию эпохи, «перманентный» характер и контролировалась отделами
ЦК и подчинёнными ему структурами. «Чистка» форматировала государствен-
ные структуры и трудовые коллективы под экстремальные, мобилизационные
и внеэкономические цели сталинского руководства58, превратившись в средство
изгнания из партии инакомыслящих. Она внесла немалый вклад в становле-
ние мифологического пространства тоталитарного государства, способного дей-
ствовать только насильственными административными мерами. Однако широ-
комасштабное использование «чисток», понижение в должности за малейшую
критику и заполнение информационного пространства мифологемами не оста-
новили роста недовольства. Ответом управленческого корпуса стало голосова-
ние 9 февраля 1934 г. на ХVII съезде партии при выборе кандидатов в состав
ЦК. Число делегатов, выступивших против Сталина, составило от 123 до 300
(достоверный факт - уничтожение 166 бюллетеней59). Определённая часть сто-
ронников индустриального проекта не желала мириться с происходящим.
Итоги пятилетки освещались в экономических изданиях СССР своеобраз-
но. Почти все статьи в номерах журнала «Проблемы экономики» за первое
полугодие 1933 г. посвящены 50-летию смерти Маркса. Лишь передовая ста-
тья в № 2 - «Ленинский кооперативный план в действии» - провозглаша-
ла торжество марксистско-ленинских идей в деревне60. В то же время журнал
опубликовал обширную статью о закономерном «загнивании техники» при
капитализме и неизбежном «вытеснении квалифицированного труда неквали-
фицированным»61. Относительно близкими к действительности оказались пу-
бликации в журнале «Плановое хозяйство». Так, начало статьи Г. Князькова
«Капитальное строительство в тяжёлой промышленности в Первой пятилетке»
выдержано в духе официальной пропаганды: «Итоги Первой пятилетки цели-
ком оправдывают и окупают затраченные страной усилия. Задания… в тяжёлой
промышленности резко перевыполнены в 4 года и три месяца». Однако при-
ведённые статистические сведения говорили совсем об ином. План по вводу
мощностей выполнен на 58,5% (мой пересчёт этих цифр: план - 21,3 млрд руб.,
факт - 11,2 млрд - даёт иной результат: 52,6%). Это обернулось тем, что объ-
ём незавершённого строительства на 1 января 1933 г. составил 8 млрд руб.62
56
Верт Н. История Советского государства… С. 204.
57
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1986). Т. 6.
1933-1937. М., 1985. С. 32, 42-45.
58
Красильников С.А. «Генеральная чистка» госаппарата 1929-1932 годов как проявление кри-
зиса легитимности партийного государства // ЭКО. 2020. № 8. С. 171, 188.
59
Такер Р. Сталин - диктатор… С. 320.
60
Ленинский кооперативный план в действии // Проблемы экономики. 1933. № 2. С. 3-20.
61
Грановский Е. О противоречиях развития техники при капитализме // Проблемы экономи-
ки. 1933. № 1. С. 98-141.
62
Князьков Г. Капитальное строительство в тяжёлой промышленности в Первой пятилетке //
Плановое хозяйство. 1933. № 1. С. 50-61.
183
Данные косвенно ставили под сомнение утверждение о «резком перевыпол-
нении» плана. Сталинские мифологические конструкции явно не совпадали
с реальностью, и статистика нередко «подводила» пропаганду.
Казалось бы, не принёс изменений и 1934 г. В экономических журналах из
номера в номер комментировались высказывания Сталина и его сподвижников
по Политбюро, дополненные парадными отчётами о достижениях промышлен-
ности. В «научный» оборот вводились необоснованные утверждения о «превос-
ходстве советского машиностроения над американским» по ряду технических
показателей; о достижении «огромных успехов в механизации производствен-
ных процессов» (правда, сопровождаемые время от времени сообщениями о вы-
соком уровне ручного труда в «отдельно взятых» отраслях машиностроения63).
В статье «К анализу качественных показателей народного хозяйства СССР» зву-
чали лозунги о «росте производительности труда в промышленности за годы
первой пятилетки на 41%, о снижении себестоимости в машиностроении за
первую пятилетку на 30% при росте производительности труда на 64%, а зара-
ботной платы рабочих - на 53,8%»64. Трудно было найти утверждения, более
несовпадающие с реальностью, но идеологический диктат уже набрал обороты.
Тем не менее процесс «мини-реформ» требовал хотя бы некоторого науч-
ного осмысления. Статья В. Грановского и Г. Невольского «Организация труда
в тяжёлой промышленности» стала прорывом из теоретического болота начала
1930-х гг. Авторы отметили, что «охват технически обоснованными нормами
составляет по машиностроению не более 30-35%; по каменноугольной про-
мышленности - 25-30%; по металлургии и химической промышленности -
только 15-20%». Заявления о «значительном росте производительности труда»
дезавуировались чётким выводом: «Нынешний уровень планирования показа-
телей по производительности труда совершенно не соответствует их значению».
Углубляя свою мысль, авторы подчеркнули: «До сих пор мы, по существу, не
имеем на предприятиях единой системы технико-экономических обоснований
плановых расчётов по труду, несмотря на указания ХVII партийной конфе-
ренции и директивы НКТП и ВЦСПС о том, что в основу всех пересчётов по
производительности труда и рабочей силе были положены нормы времён на
единицу продукции»65.
В статье В.И. Межлаука, ставшего после ХVII съезда заместителем предсе-
дателя СНК и главой Госплана, звучали критические оценки состояния «соци-
алистического планирования», завуалированные указанием на «события про-
шлого» - период первой пятилетки. «Мы не имеем разработанного баланса
развития народного хозяйства», - отмечал автор. Кроме того, «недостаточное
внимание уделялось планированию технического прогресса, проблемам осво-
ения техники, ускорению перехода от планирования отдельных технических
показателей к составлению единого технического плана развития народного
хозяйства». Указывалось и на слабое использование «таких важнейших рычагов
нашей экономики, как деньги, кредит и хозрасчёт»66.
63
Сухаревский Б. Завершение технической реконструкции и вопросы механизации промыш-
ленности // Плановое хозяйство. 1934. № 1. С. 70-72.
64
Турецкий Ш. К анализу качественных показателей народного хозяйства СССР // Плановое
хозяйство. 1934. № 7. С. 101-102.
65
Грановский В., Невольский Г. Организация труда в тяжёлой промышленности // Плановое
хозяйство. 1934. № 10. С. 116-117.
66
Межлаук В.И. К реорганизации Госплана // Плановое хозяйство. 1935. № 4. С. 3-6.
184
Репрессии начали сказываться на качестве статей в экономических журна-
лах уже с весны 1929 г. - времени поражения рационально мыслящей части
руководства партии. Более того, ускорилось отставание советской экономиче-
ской науки, поскольку в конце 1920-х гг. перестали выходить многие журналы,
в том числе близкие к «Плановому хозяйству» по содержанию и коллективу
авторов, - «Экономическое обозрение» и «Экономический бюллетень» Конъ-
юнктурного института67. Однако наука, загнанная в тиски марксистских догм,
при малейшем послаблении вырывалась наружу, опрокидывая лживые пропа-
гандистские конструкции.
Материалы январского (1933) пленума, анализ публикаций в прессе и эко-
номических журналах показывают: руководству СССР пришлось признать па-
губность курса «бешеных темпов». Осмысление затруднялось мифологическим
пространством с его лозунгами «создания фундамента социалистической эко-
номики» и «выполнения заданий Первой пятилетки за четыре года и три ме-
сяца», а также жестокими наказаниями за малейшие критические замечания.
Однако жизнь доказала правоту авторов госплановского варианта пятилетнего
плана. Фактическое признание этого позвучало из уст его главных критиков.
В феврале 1932 г. Молотов связал выполнение первого пятилетнего плана с его
«оптимальным вариантом», Сталин оперировал его цифрами в январе 1933 г.
«Вариант Рыкова» всплывал вновь и вновь, доказывая свою реалистичность
и жизнеспособность.
Принципы первого пятилетнего плана, его инструментарий получили про-
должение в плане второй пятилетки, за исключением… права многоукладной
экономики на существование. Однако нормативный запрет рыночных отноше-
ний привёл лишь к тому, что между предприятиями начали складываться не-
формальные отношения. Они воплощались в неплановых и даже нелегальных
обменах и соглашениях, снимая остроту государственного контроля и жёсткость
централизованного планирования. Одним из таких постоянно действовавших
механизмов коррекции неэффективного бюрократического распределения ре-
сурсов выступали «товарообменные операции» - внеплановые продажи, а чаще
всего обмены продукцией между предприятиями. Данные проверки, проведённой
Наркоматом рабоче-крестьянской инспекции в начале 1932 г., показали и то, что
«огромное количество готовой продукции утекает по непредусмотренным пла-
нами и договорами каналам, питая частный рынок»68. При этом работники нар-
коматов защищали тех хозяйственных руководителей, которые могли любыми
путями выполнять постоянно меняющиеся планы. Годы первой пятилетки стали
временем слияния командной экономики с теневой, и задача сохранения ви-
димости централизованного управления системой допускала поведение, в сущ-
ности, противоречившее ей69. Выяснилось, что командная экономика не может
существовать без рынка, даже крайне искажённого. Он помогал ей выжить, ком-
пенсируя дефицит товаров и перераспределяя товарные ресурсы70. Вынужденное
осмысление реальности заставило советское руководство, наряду с репрессив-
ными мерами, сделать ставку на более рациональные методы управления.
67
Белых А.А. История российских экономико-математических исследований: первые сто лет.
М., 2011. С. 115.
68
Davies R.W. Op. cit. P. 147-148.
69
Мерль Ш. Советская экономика: современные оценки. С. 314.
70
Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия»… С. 13.
185