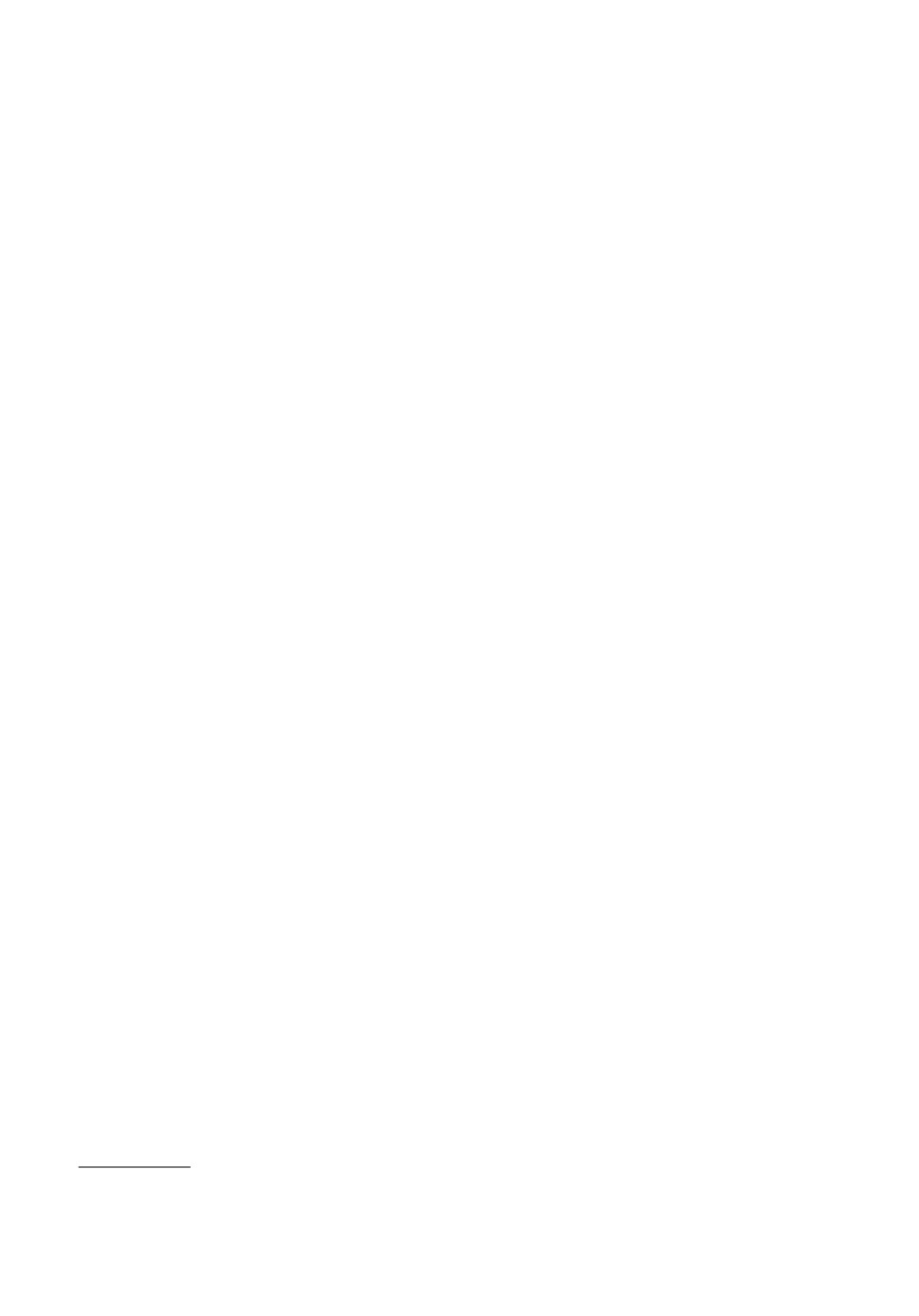Диалог о книге
В.Н. Круглов.
Организация территории России в 1917-2007 гг.:
идеи, практика, результаты.
Некоторые темы, казалось бы, дающие широкий простор для научных изы-
сканий, тем не менее, оказываются на периферии исследовательского интереса,
будучи, видимо, либо заслонены проблемами и сюжетами более злободневными
и дискуссионными, либо представляясь скучными и второстепенными. К тако-
вым, как ни парадоксально, относится тема административно-территориального
деления России. Нельзя сказать, что она вовсе обойдена вниманием - исто-
риография её достаточно обширна. Более того, дискуссии о пространственном
устройстве страны, его основах и формах, предложения о его локальной или
глобальной ревизии регулярно появляются в общественно-политической по-
вестке, вызывают споры. На первый взгляд, актуальность темы налицо. Тем не
менее исследования, посвящённые ей, появляются нечасто.
Вышедшая в 2020 г. монография кандидата исторических наук, старшего на-
учного сотрудника Института российской истории РАН В.Н. Круглова «Органи-
зация территории России в 1917-2007 гг.: идеи, практика, результаты»1 освеща-
ет насыщенный событиями, противоречивый и увлекательный отрезок истории
данной темы, раскрывая контекст, в котором принимались (или не принимались)
судьбоносные решения. При этом прослеживается регулярное административно--
территориальное устройство, национально-государственное строительство, эко-
номическое районирование, показаны как бюрократические подходы, так и раз-
работки научного сообщества и, конечно, политические идеи, продвигавшиеся
как «сверху», из центра, так и «снизу», с периферии. Автор стремился уделить
внимание каждому региону России, выявить закономерности преобразований,
влияние объективных исторических процессов и личностного фактора, оценить
степень реалистичности тех или иных подходов, идей, устремлений.
В обсуждении приняли участие доктора исторических наук Д.А. Аманжоло-
ва и А.Б. Коновалов, доктор географических наук С.А. Тархов, кандидаты исто-
рических наук К.А. Болдовский и Н.Ю. Пивоваров, а также А.А. Музафаров.
Материал подготовил И.К. Богомолов
Дина Аманжолова: Ретроспективный анализ сложной проблематики
Dina Amanzholova (Institute of Russian History, Russian Academy
of Sciences, Moscow): A retrospective analysis of а complex problem
DOI: 10.31857/S086956872206005X, EDN: MLPEBR
Круг проблем, которые связаны с организацией территории России, весьма
широк. В.Н. Круглов посвятил своё исследование ключевым из них - выра-
1
Круглов В.Н. Организация территории России в 1917-2007 гг.: идеи, практика, результаты.
М.; СПб.: Институт российской истории РАН; Центр гуманитарных инициатив, 2020. 480 с.
59
ботке и трансформации идей по поводу административно-территориального
устройства страны, их практическому воплощению и результатам последнего,
которые имели большое значение для решения важнейших задач управления,
социально-экономического развития и др.
Впечатляет выбор хронологии. Автор проанализировал перипетии структу-
рирования пространства РСФСР и РФ за 90 лет в рамках крупных историче-
ских периодов. Несмотря на радикальный отказ от прежней системы управле-
ния и организации общества в 1917 и 1991 гг., властям приходилось учитывать
исторически сложившуюся социальную и культурную сложность России. В этом
отношении представляется вполне оправданной хронологическая структура ис-
следования. Первая часть охватывает 1917-1987 гг., когда эксперименты ранне-
советского периода и переход к политической прагматике в середине 1930-х гг.
сменились стабилизацией сложившегося административно-территориального
деления (АТД). Вторая посвящена 1987-2007 гг. - времени поиска новых спо-
собов и типов регионального устройства и обеспечения целостности страны
в связи с распадом СССР и политической самоидентификацией Российской
Федерации.
Для осмысления сущности и результатов столь масштабных трансформа-
ций исследователю приходится обращаться не только к программам и действи-
ям центральной власти, но и к их отражению в обществе. Эта задача решена
посредством выявления позиций региональных руководителей, которым при-
ходилось на деле цементировать системную целостность и устойчивость управ-
ления2, и научного сообщества, в их развитии и взаимном влиянии. Тем более
что, как считает автор, «до сих пор не вполне осознана преемственность под-
ходов к решению проблемы вчера и сегодня» (с. 9).
В содержательном плане основное внимание уделено событиям и дискус-
сиям об организации территории России во второй половине минувшего и на-
чале XXI столетий. Это представляется правомерным, несмотря на преоблада-
ющий в изучении советской истории интерес к довоенному периоду, а также
в связи с данным обстоятельством. С одной стороны, именно в 1917-1930-х гг.
происходили наиболее интенсивные трансформации административно--
территориального устройства, до сих пор играющие роль в истории России. Их
анализ продолжается, а дискуссии вокруг проектов, управленческих практик
и их воплощения в конкретных социально-экономических и этнокультурных
локусах отнюдь не завершены. Автор отмечает это в историографическом об-
зоре и по ходу освещения основных реформ в организации территории стра-
ны в данный период. С другой стороны, очевидный хронологический перекос
требовал исправления, что представляется одним из самых ценных результатов
исследования.
Впрочем, каждый из этапов организации и реорганизации территории
СССР и РФ, как можно заключить на основе представленного анализа, отразил
комплексный характер задач, решавшихся властью и обществом. Обеспечить
целостность, устойчивость и управляемость огромной страны можно было,
лишь добившись баланса централизаторских и регионалистских/автономист-
ских/обособляющих тенденций, учёта как исторически сложившейся и форми-
ровавшейся в ходе экономической модернизации специализации, так и столь
2
См.: Хлевнюк О.В. Система центр-регионы в 1930-1950-е годы. Предпосылки политизации
«номенклатуры» // Cahiers du Мonde Russe. Т. 44. 2003. № 2-3. С. 253-268.
60
же необходимой хозяйственной интеграции, компромисса между представле-
ниями политического центра и носителей власти в национальных образовани-
ях о способах, функциональном наполнении, гражданских и этносоциальных
ориентирах государственного строительства.
Советские автономии, по мнению автора, в условиях революции и Граж-
данской войны большевики создавали под давлением националов, нарастивших
свои амбиции и инструментарий. Это были тактические союзы, хотя «терри-
ториальные конфигурации автономий определялись в центре» (с. 68), к тому
же интересы экономики диктовали отличные от принципов самоопределения
условия. Справедливо отмечена политическая и управленческая неопытность
большевиков (с. 79), правда, то же самое в ещё большей степени относится к их
визави - национальным лидерам. Выбор между территориально-хозяйственным
и этнополитическим вариантами развития государства был сделан в пользу вто-
рого (с. 94-96), но содержание монографии скорее свидетельствует о перма-
нентном и весьма противоречивом соединении двух начал.
Действительно, дебаты вокруг границ регионов, республик и автономий,
распределения ресурсов, полномочий, предметов ведения велись на протяжении
всего периода, рассмотренного в работе. В 1920-1930-х гг. самыми активны-
ми оппонентами центра выступали национальные лидеры. При этом довольно
часто отстаивание интересов целого не означало тотального отрицания предло-
жений с мест. К тому же автономии сильно различались по уровню этнической
консолидации и экономическому потенциалу, а их лидеры - по политическому
опыту, авторитету и связям с представителями высшей бюрократии, по способ-
ностям объединить местную элиту в своём видении места субъекта Федерации
в государственном политическом пространстве. Поэтому им практически не
удавались попытки консолидироваться для отстаивания своих позиций перед
центром. Об этом ярко свидетельствует известная история частного совеща-
ния националов в 1926 г., как и приведённые в монографии более ранние
примеры нациестроительства Украины, Белоруссии, Средней Азии, Казахстана
и др. (с. 98-110). Да и в центре лица, по должности обязанные разбираться
в проблеме (М.И. Калинин, А.С. Енукидзе, С.Д. Асфендиаров и др.), тоже не
без труда вырабатывали единое мнение. Как следствие, даже после принятия
Конституции РСФСР, которая закрепила гегемонию центра в решении терри-
ториальных вопросов (с. 118), пресечь участие лидеров автономий в решении
вопросов государственного строительства оказалось невозможно.
В контексте приведённых в книге примеров важно иметь в виду, что дис-
куссии между центром и «националами» побуждали все уровни власти к более
детальному осмыслению принципов государственного устройства и статус-
ных позиций субъектов федерации. К советскому проекту административного
устройства вполне применим вывод А.В. Ремнёва, относящийся к Российской
империи: «География власти означает ещё и сложный процесс адаптации рос-
сийской бюрократии к региональным условиям, создание собственной управ-
ленческой среды, на которую влияли как общие имперские установки и методы
властвования, так и специфические условия региона»3. Опыт административно--
территориальных трансформаций и оптимизации взаимоотношений между их
акторами в обстановке ускоренной модернизации экономики и социально--
3
Ремнёв А.В. Россия Дальнего Востока. Имперская география власти XIX - начала XX веков.
Омск, 2004. С. 20.
61
культурного прогресса негомогенного общества демонстрирует важные приме-
ры не только противостояния центра и этноэлит, но и их взаимной адаптации
для обеспечения устойчивости всего государства и работоспособности системы
управления.
Неустранимой реальностью при этом оставалась этнокультурная слож-
ность общества. Она не позволяла проводить политику национального равен-
ства лишь административными мерами, а также серьёзно осложняла осущест-
вление предполагавшегося партийной доктриной курса на межэтническую
интеграцию. Всеохватные преобразования неизбежно порождали в этой сфере
разнообразные коллизии в отношениях между центром, союзными и авто-
номными субъектами, урегулирование которых предполагало учёт специфи-
ки столь неоднородного общества (например, присутствие его представителей
в составе руководства страны и складывание этнических элит)4. Признание
государственности тех или иных народов должно было канализировать при-
тягательную силу заявившей о себе в начале ХХ в. доктрины национализма.
Однако на деле это лишь подстёгивало стремление этноэлит к расширению
доступа к власти и ресурсам, «настройке» официальных культурных инсти-
тутов под свои нужды. В этом отношении мы наблюдаем двоякий результат.
С одной стороны, именно советский способ институционализации субъек-
тов федерации стал решающим в формировании модерных наций на евразий-
ском пространстве. С другой, когда в конце ХХ в. дали о себе знать схожие
проблемы, мифы автономизма и суверенизации обнаружили свою живучесть,
а их реализация возродила амбиции и борьбу элит. Круглов вполне ясно
и аргументированно отразил в своей работе эти коллизии. Правда, вряд ли
уместно подтверждать вывод об усложнении внутреннего административно--
территориального ландшафта страны и пробуждении на этой основе «край-
не опасного противника - чувства национальной солидарности» примерами
Польши, Венгрии и Германии (с. 120).
Впрочем, чуть ранее он предлагает не преувеличивать опасность пополз-
новений национальных деятелей, поскольку в конечном счёте исход борь-
бы был предопределён в пользу центра (с. 114). В самом деле, руководители
национально-государственных единиц не воспринимали свою активность как
непримиримое противостояние. Они ограничивались декларациями о верно-
сти принципам самоопределения и легитимными средствами воздействия на
Москву в пользу расширения собственных полномочий, перераспределения
бюджета и дополнительных ассигнований. Это должно было укрепить их авто-
ритет как подлинных защитников национальных интересов в глазах местных
сообществ. В том или ином виде на каждом из этапов территориальных ре-
организаций страны негласный компромисс «централизаторов» и регионалов,
в том числе национальных, достигался и поддерживался обеими сторонами,
что подтверждает и автор (с. 139). Увы, это не согласуется с его алармистским
выводом о возможности «геополитической катастрофы» по сценарию СССР
(с. 432) на том основании, что Россия сохранила созданную в советский период
административно-территориальную структуру.
Региональные партийно-хозяйственные кадры действительно «не были
бессловесными проводниками воли Москвы» (с. 169), и этот вывод подтверж-
4
Подробнее см.: Аманжолова Д.А., Дроздов К.С., Красовицкая Т.Ю., Тихонов В.В. Советский
национальный проект в 1920-1940-е годы: идеология и практика. М., 2021.
62
дён на примере послевоенных реорганизаций территории РСФСР. Их анализ
сопрягается с выводом О.В. Хлевнюка о существенном укреплении позиций
ведомственных и региональных руководителей, а также с тем фактом, что во
второй половине 1950-х гг. полномочия республик в сфере экономики суще-
ственно расширились благодаря решениям центра, а их представители при-
влекались в центральные органы власти5. Но это не исключало применения
решительных мер со стороны Москвы, когда требовалось контролировать воз-
никавшие на местах инициативы, могущие угрожать социально-политической
стабильности и устойчивости управления. Автор классифицирует такие меры
как разрешительные, ограничительные и ситуативные - в зависимости от кон-
кретных ситуаций в разных регионах страны (с. 185-206).
Весьма полезным представляется анализ проблем экономического райо-
нирования в 1960-х гг., когда общественная ситуация достаточно стабилизиро-
валась, национально-государственное строительство перестало быть первосте-
пенной задачей, а учёные в рамках отводимой им властью свободы действий
получили больше возможностей для участия в рационализации экономической
системы управления. По-прежнему создать сбалансированные экономические
комплексы не удалось ни в одном регионе России, выступавшем объектом
хозяйственной деятельности, тогда как другие союзные республики оказались
вполне самостоятельными субъектами (с. 232-234).
К тому времени вполне выявилось объективное разнообразие внутренней
организации и самоорганизации страны в её административно-территориальном
формате как фундаментальная характеристика сложноорганизованной систе-
мы. Возникает вопрос: насколько управленческий класс признал этот факт?
Представляется, что в достаточной степени. Видимо, этим обстоятельством
объясняется осторожное отношение власти к предложениям экспертов об из-
менении статуса отдельных автономных или союзных республик в 1970-х гг.,
призывы центра и руководителей самих республик всесторонне учитывать «всё
разнообразие условий развития нашего общества», не допуская искусственной
интеграции или тем более слияния наций, что закрепила Конституция СССР
1977 г. (с. 239-246).
По-прежнему в дополнительном изучении нуждается «внесистемный ак-
тивизм», связанный с попытками создать некие национально-политические
структуры для лишённых «своих» республик немцев и крымских татар и изме-
нить внутренние границы северокавказских автономий (с. 251-259). Это тем
более важно, что именно неполнота объективной информации порождает но-
вые мифы и символические репрезентации национальных «образцов» борьбы
за землю и политическую самостоятельность. Примером служит популярная
в Казахстане версия о героическом единоличном противостоянии Н.С. Хру-
щёву первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Ж. Шаяхметова в связи
с освоением целины. Никак не подтверждено утверждение М.К. Козыбаева,
что в 1980-х гг. Москва пыталась навязать идею экономического присоеди-
нения к России Карашаганакского нефтегазового конденсатного месторожде-
ния и образовать укрупнённый экономический район из Гурьевской (ныне
Атырауской), Уральской и Оренбургской областей с центром в Оренбурге, что
5
Хлевнюк О.В. Система центр-регионы… С. 265; Дроздов К.С., Аманжолова Д.А., Трепавлов В.В.
Этнические элиты в союзных республиках СССР // Этнические элиты в национальной политике
России. М.; СПб., 2017. С. 309-310.
63
объяснялось якобы пренебрежительным отношением к нуждам и чаяниям ка-
захского народа6.
Исследователь указывает на противоречия «национальной» политики в эти
годы. С одной стороны, оказались востребованы новые подходы к управлению
сложившимся устройством страны, на что повлияли рост национального само-
сознания и активное участие творческой интеллигенции союзных республик
в его формировании и социокультурной манифестации, изменения социальной
структуры титульных этносов СССР. С другой, инициативы аналитиков бло-
кировались в условиях доминирования устаревших идеологем, а конфликтный
потенциал нового качества этнической идентификации игнорировался. Такая
политическая инерция обусловила драматические последствия для судеб стра-
ны и её народов. Рациональную реконструкцию советской федерации в конце
1980-х - начале 1990-х гг. осуществить не удалось, инициированные властью
дискуссии на сей счёт обнажили разнонаправленные тенденции в регионах
СССР. Ослабление авторитета центра вкупе с новым культурным обликом на-
родов и социальных групп советского общества в его модерных характери-
стиках7 породило смешение центробежных и центростремительных инициатив
(с. 267-303).
В монографии существенное место отведено анализу проблем реорга-
низации территории РФ и особенностям складывания её современного
административно-политического ландшафта. Столь важная трансформа-
ция связана с неизбежными (хотя и не всегда осознаваемыми) переживани-
ем и преодолением травмы распада казавшегося незыблемым государства.
«Присвоение» и обустройство политического пространства обновлённой Рос-
сии оказалось, судя по описанным дискуссиям и событиям 1990-х - начала
2000-х гг., достаточно сложным и болезненным. Укрупнение регионов в целях
бюрократического контроля стало наиболее серьёзной попыткой корректи-
ровки внутренней конфигурации федеративного государства за почти 50 лет8.
Данный процесс, как подробно рассмотрено в монографии, отличался высо-
кой степенью активности новых политических структур, прежде всего партий
и региональных элит, а также апробацией референдумов как инструмента фор-
мирования гражданского общества и канализации его настроений. По мнению
автора, фактическое прекращение административно-территориальных преоб-
разований новейшего времени в 2007 г. связано с экономическим кризисом
и политической конъюнктурой электорального цикла. В то же время, видимо,
стоит иметь в виду и более глубокие основания, определявшиеся изменением
роли и статуса региональных, в том числе этнополитических элит, социально--
экономическим потенциалом самих регионов, значимостью испытанных спо-
собов межрегионального взаимодействия и сложившейся системы взаимо-
отношений руководителей центра и субъектов Федерации. В этом контексте
сохранение принципиальных оснований структурирования государства, сло-
6
Козыбаев М.К. Декабрь 1986 года: факты и размышления. Алматы, 1997. С. 35.
7
См.: Дробижева Л.М. Этничность в общественно-политических процессах СССР последних
двух десятилетий // Этнический и религиозный факторы в формировании и эволюции российско-
го государства. М., 2012. С. 332-379.
8
Сходную по границам идею разделения России на округа по окончании Гражданской вой-
ны планировал А.В. Колчак. См.: «Сам народ тёмен и легко поддаётся агитации». Записка атамана
А.И. Дутова о внутриполитической ситуации в Башкирии и на северо-западе Казахстана / Публ.
Д.А. Аманжоловой // Источник. Документы русской истории. 2001. № 3. С. 46-51.
64
жившихся в советское время, вовсе не означает предрешённую гуáительность
наличного формата.
Внушительный труд В.Н. Круглова содержит оáъёмную ретроспективу
важнейших соáытий в истории территориального устройства России, которые
непросто анализировать из-за сложной взаимосвязи проáлем управления, эко-
номики, национальной политики, взаимодействия власти и науки, вертикаль-
но и горизонтально организованных страт правящей элиты. Именно поэтому
данное исследование представляет существенный научный интерес, восполняя
ряд лакун и стимулируя новые повороты в изучении такой взаимосвязи и каж-
дого из отдельных направлений, включённых в его контекст.
65