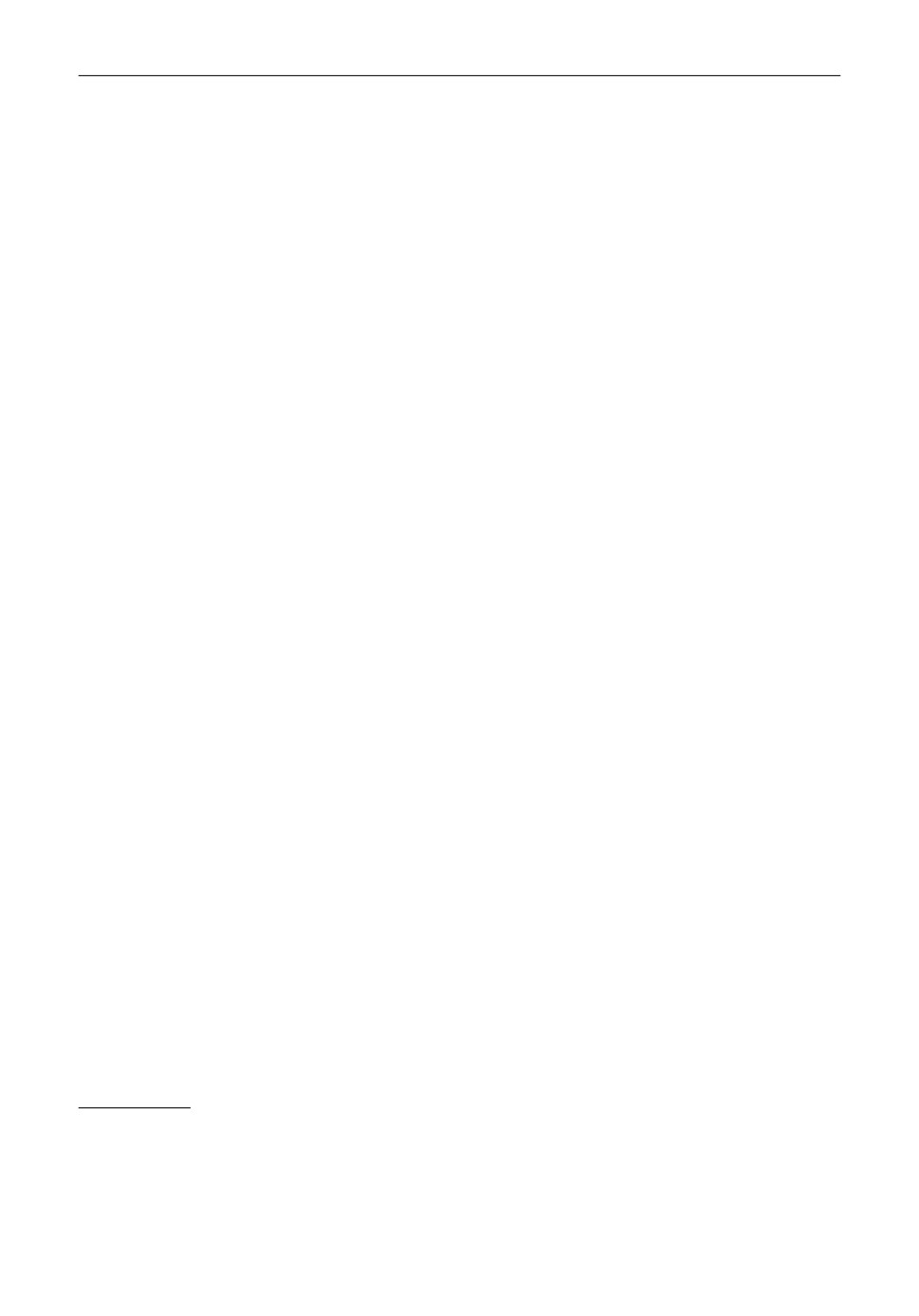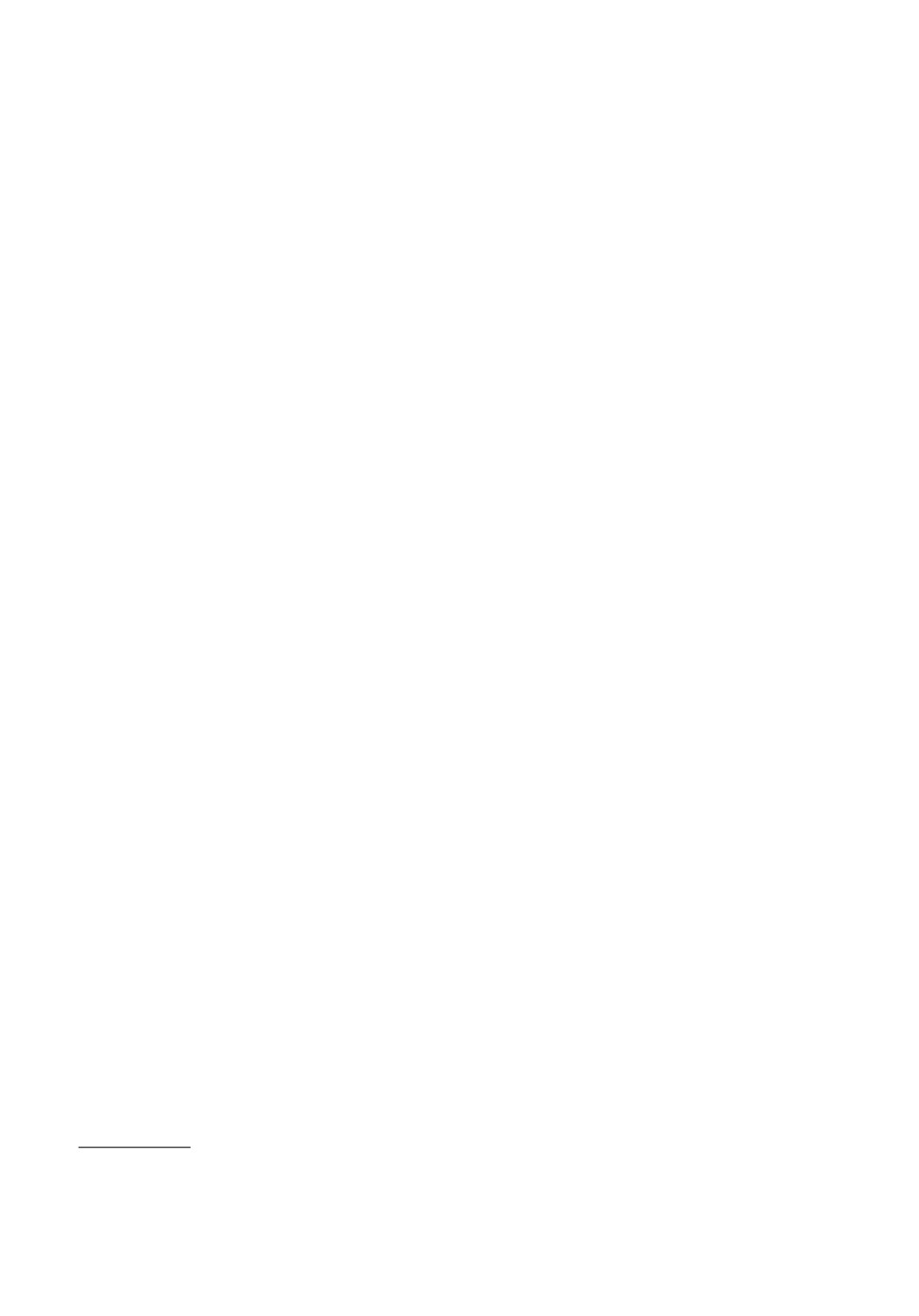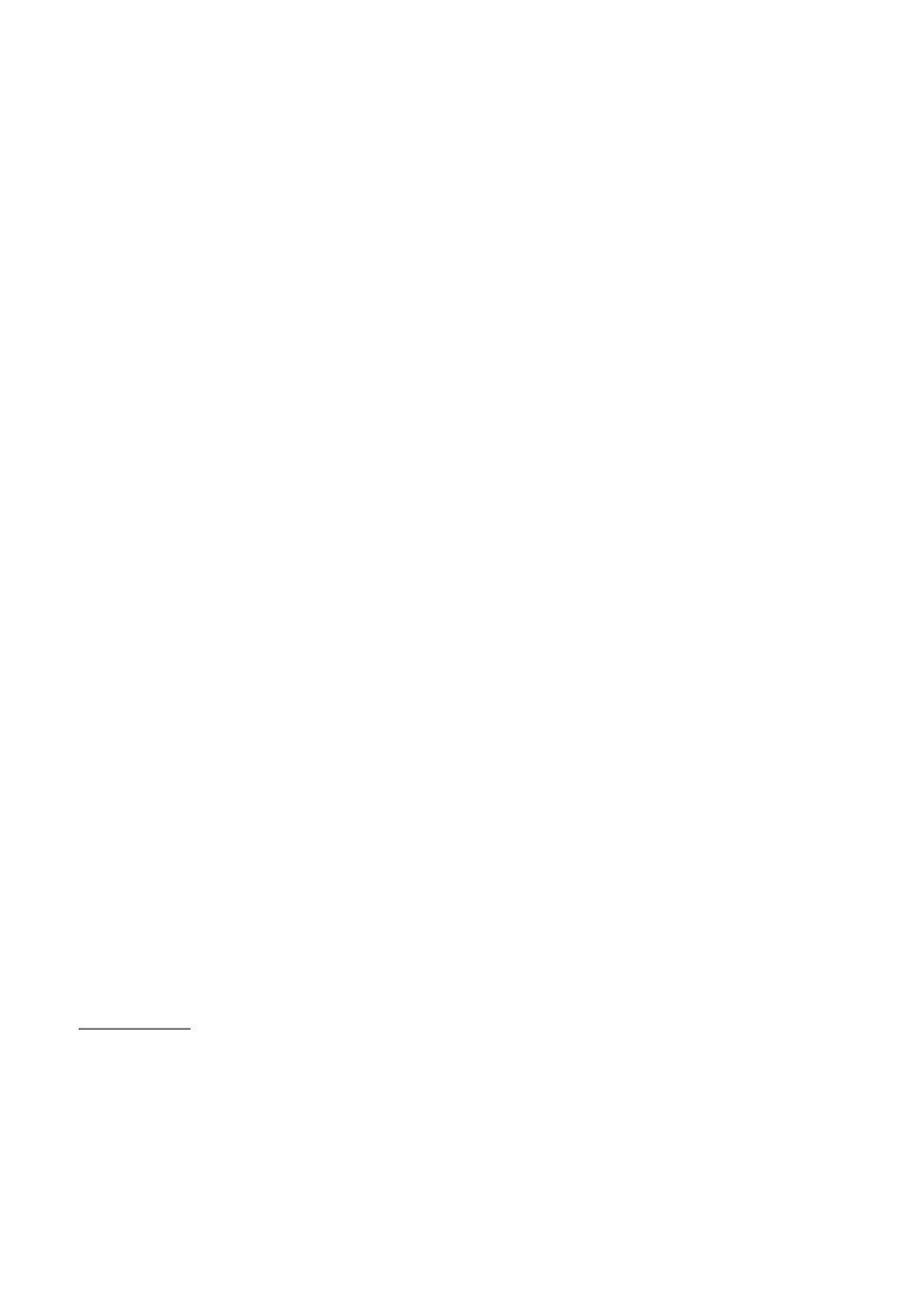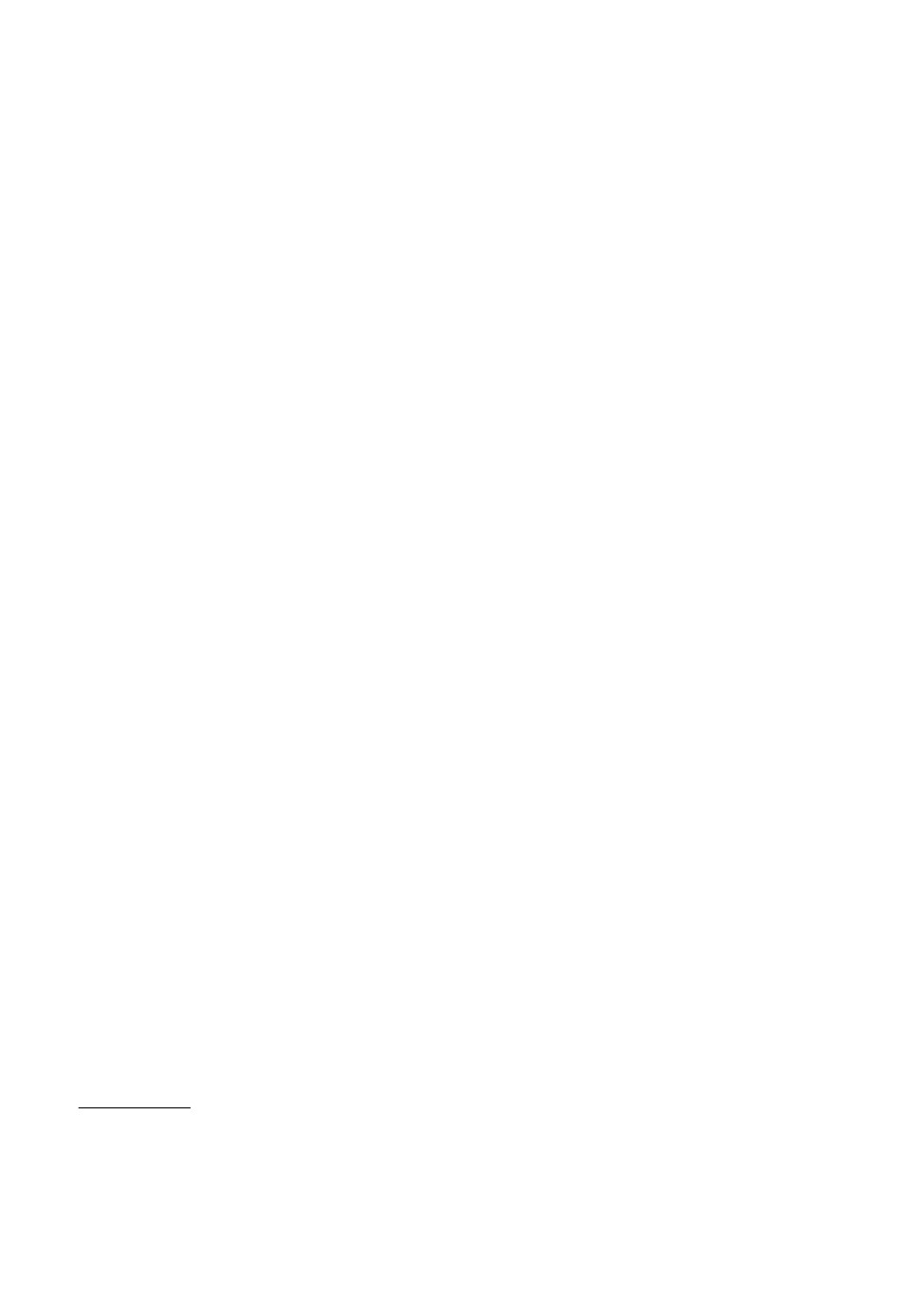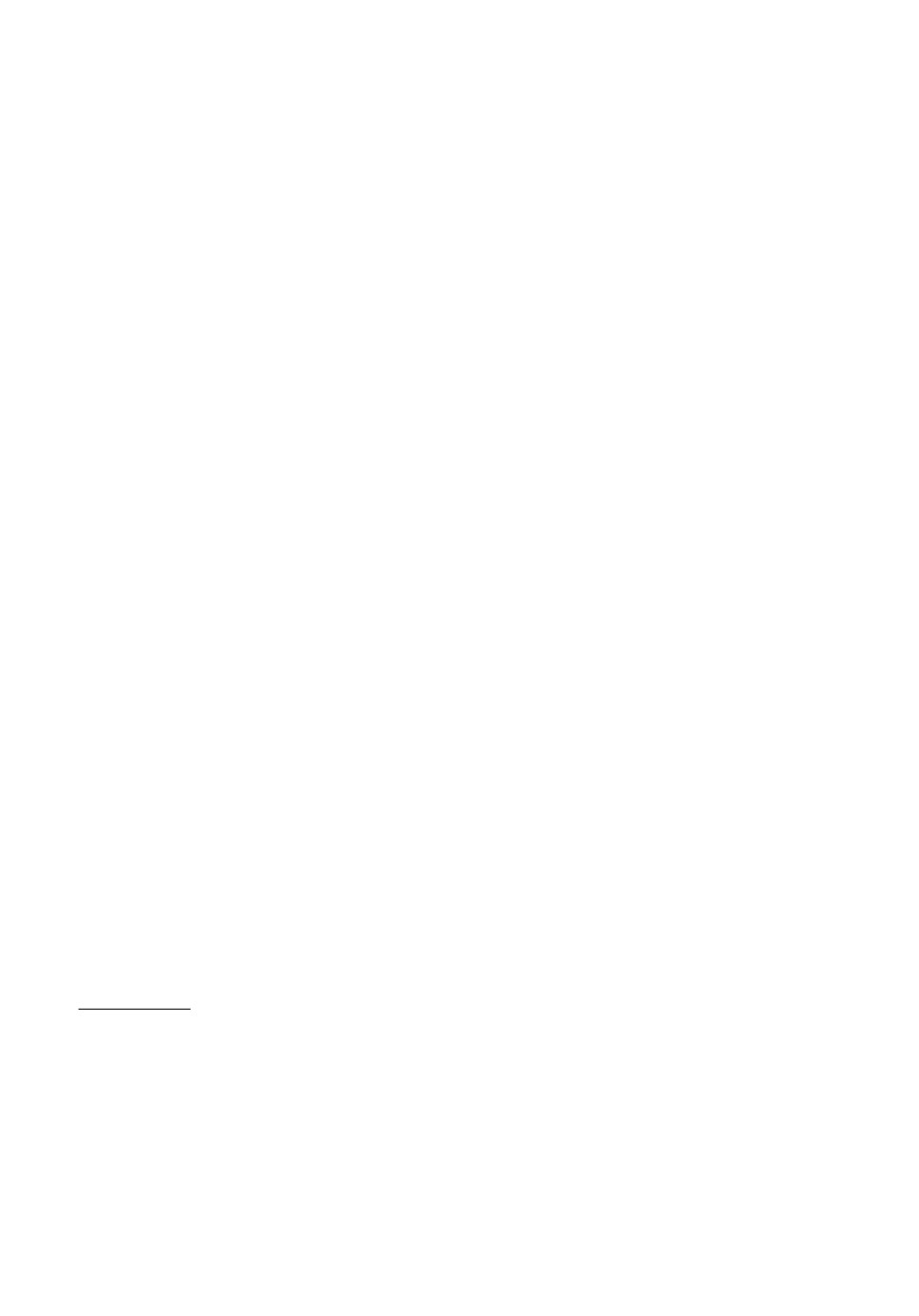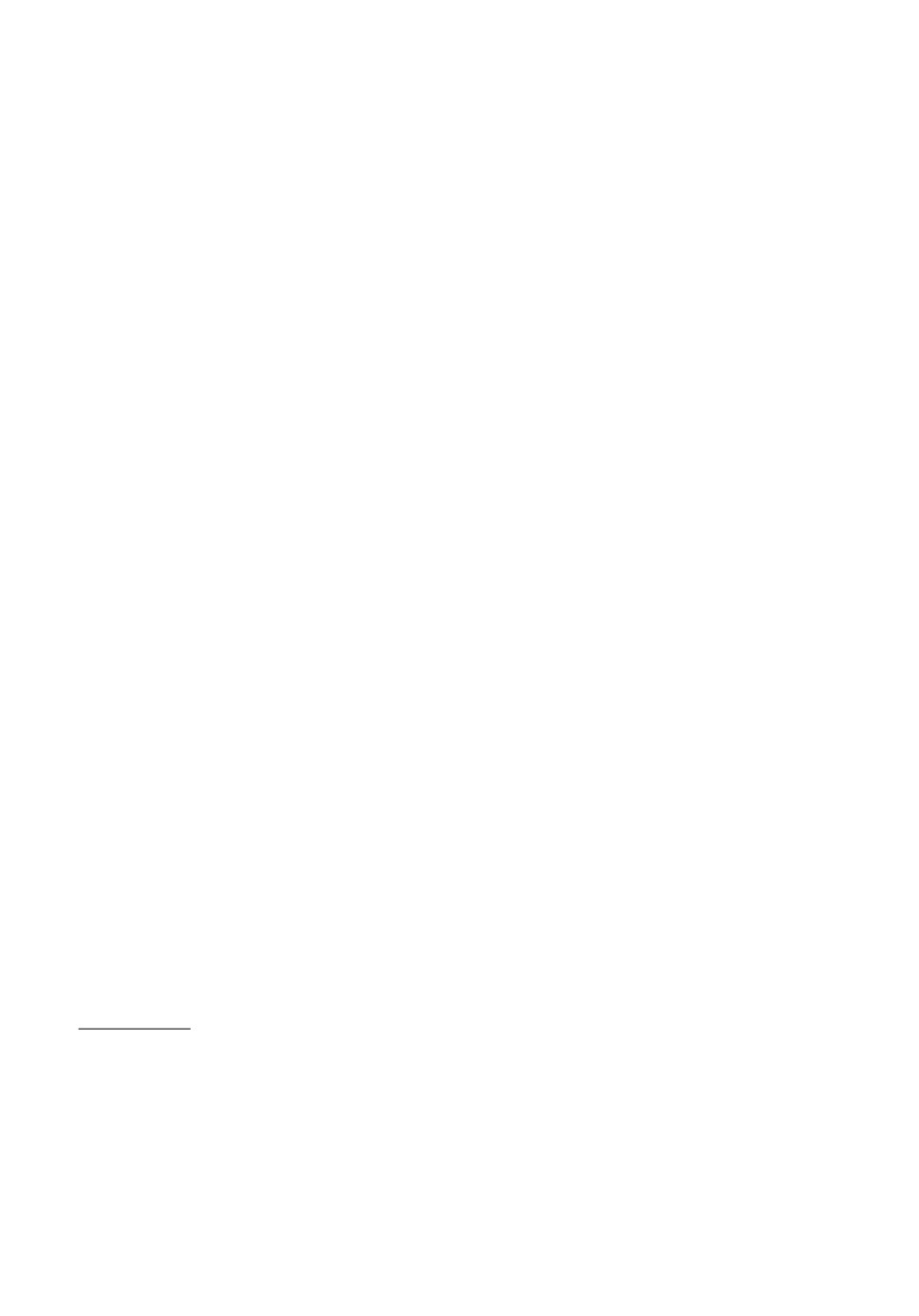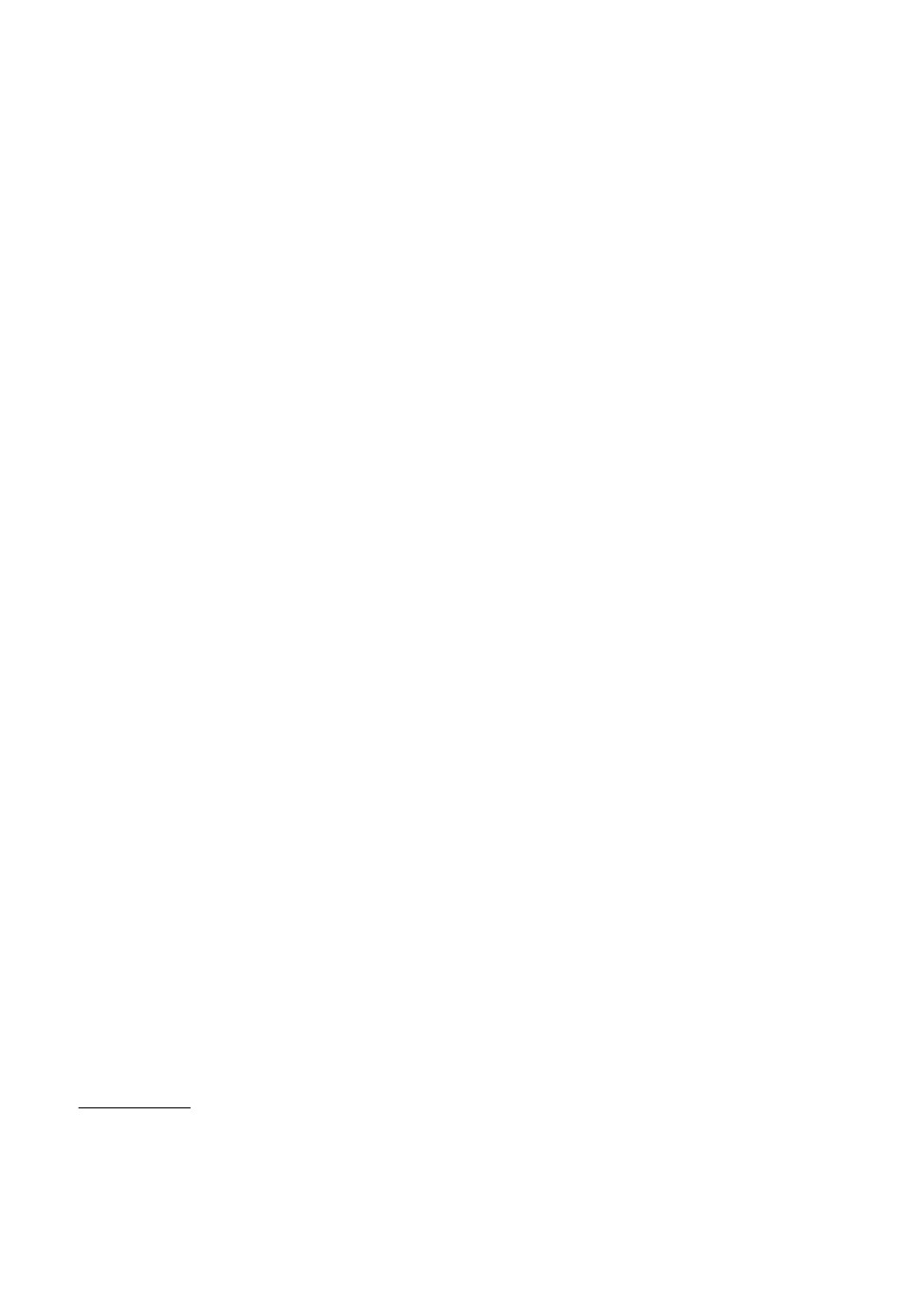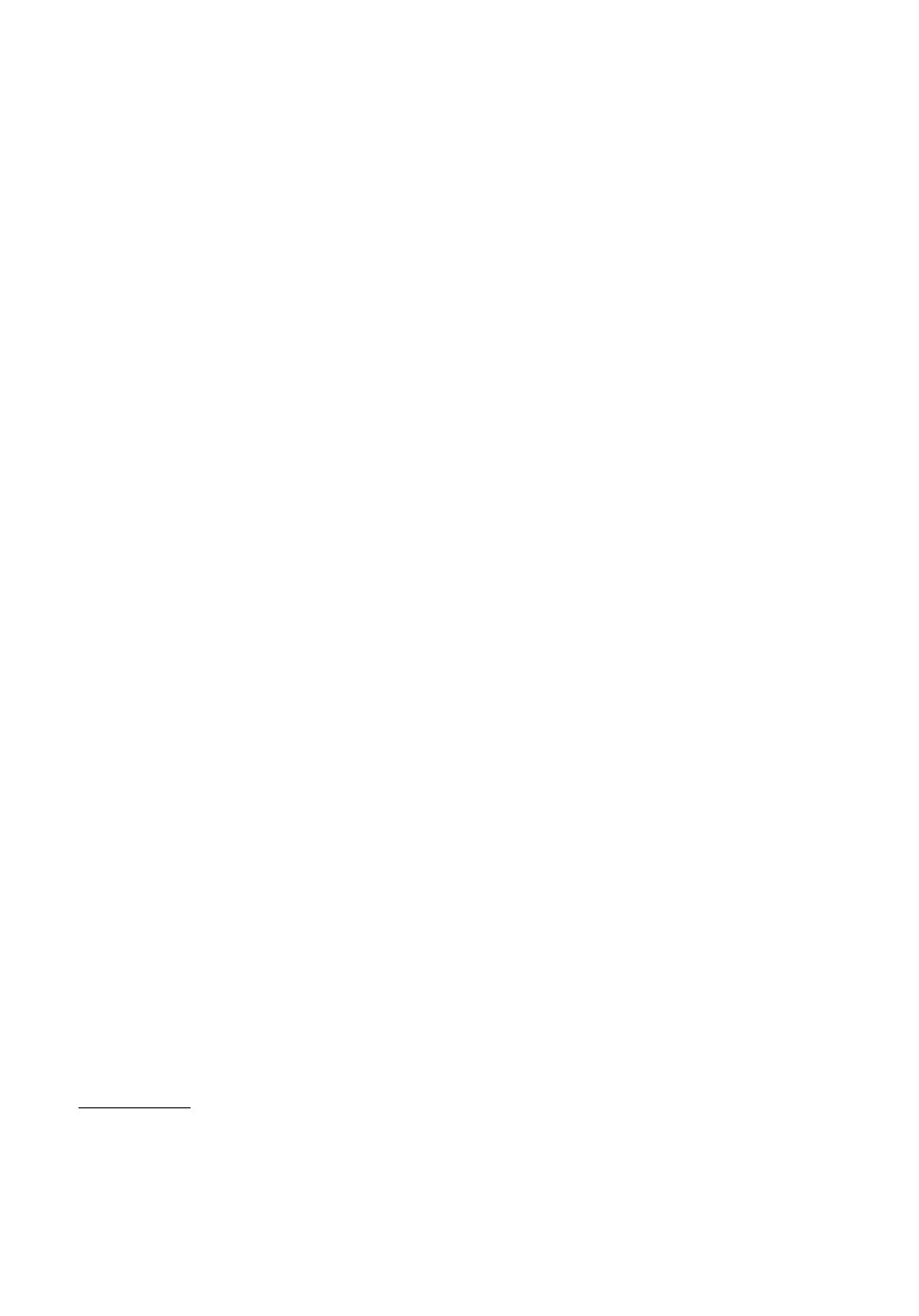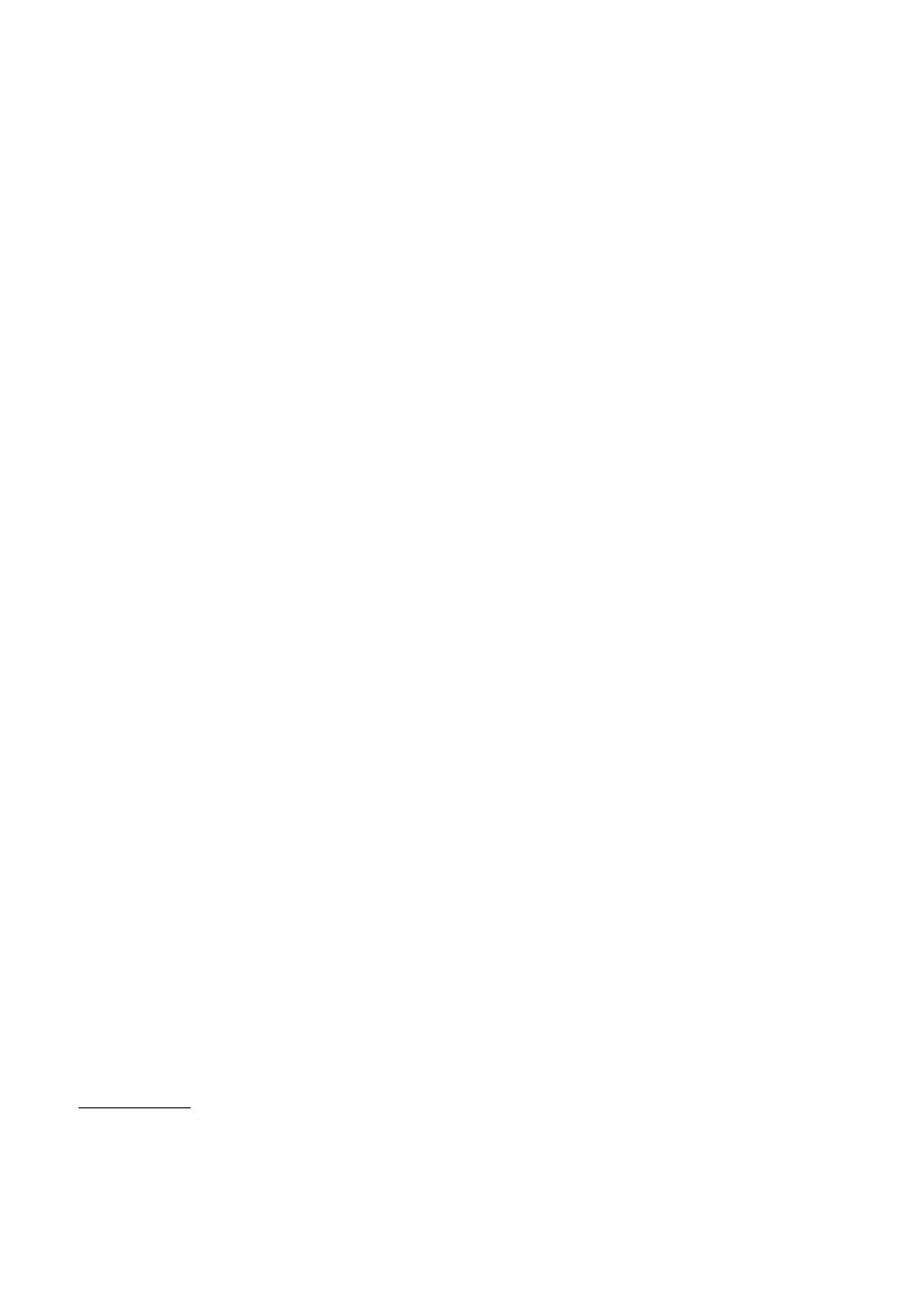Соборное уложение
и социально-политическая эволюция России
во второй половине XVII в.
Владимир Аракчеев
Council Code and the socio-political evolution of Russia
in the second half of the 17th century
Vladimir Arakcheev
(Russian State Archive of Ancient Acts, Moscow)
DOI: 10.31857/S2949124X23010029, EDN: PNPYEB
Сорокалетний период истории России от Соборного уложения до
утверждения у власти «партии» Петра I всегда рассматривался как пере-
ходный к переломным петровским реформам, и особую роль в этой транс-
формации сыграли существенные изменения правовых норм и социальной
политики государства. В современной исторической науке считается, что
начало перехода Русского государства и права в новое состояние ознаме-
новалось изданием Уложения 1649 г., но непротиворечивого понимания
сути этого процесса нет. А. Г. Маньков полагал, что «кодекс 1649 г. отразил
начальный этап перехода от сословно-представительной монархии к абсо-
лютизму»1. В этой характеристике поражает непродуманность причинно--
следственных связей между хорошо известными фактами: если последние
Земские соборы состоялись в 1653 и 1667 гг., то когда же закончился заяв-
ленный «начальный этап перехода от сословно-представительной монархии
к абсолютизму», и последовал ли за ним основной? Вряд ли может быть
принята и полярная по отношению к концепции Манькова точка зрения
Б.Н. Миронова, который считает Россию XVII в. «народной монархией»,
детали перехода от которой к монархии «патерналистской» исследователем
не конкретизированы ни по существу, ни хронологически2. Отсутствие та-
кой конкретизации как в первом, так и во втором случае не позволяет про-
извести верификацию суждений историков и даёт основание считать эти
высказывания лишёнными научной строгости.
Нет в историографии единства и в понимании влияния Соборного
уложения на социальную динамику: В.М. Панеях полагал, что изменения,
вносимые в систему права принятием кодекса, состояли в «ужесточении
крепостнических порядков», «обособлении самодержца от его подданных»
и «отказе от реформ», ведшем «к консервации социальной жизни»3. Н.М. Ро-
гожин, напротив, рассматривал Соборное уложение в контексте процесса
«зарождения институтов абсолютизма»; само его издание он расценивал как
© 2023 г. В.А. Аракчеев
1
Соборное уложение 1649 года. Текст. Комментарии / Отв. ред. А.Г. Маньков. Л., 1987. С. 6.
2
Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну. Т. 2. СПб., 2018. С. 359-393.
3
Панеях В.М. Русь в XV-XVII вв. Становление и эволюция власти русских царей //
Власть и реформы: от самодержавной к советской России / Отв. ред. Б.В. Ананьич. СПб., 1996.
С. 108-110.
26
показатель «неуклонного развития»4. «Реформой суда и управления» считает
принятие Соборного уложения И.Л. Андреев5.
В социально-экономической политике России 1660-1680-х гг. отчётливо
просматриваются несколько направлений, находившихся в тесной связи друг
с другом. Общий демографический рост в стране во второй трети XVII в. не
приводил к пропорциональному увеличению находившихся в руках государ-
ства ресурсов, поскольку одновременно расширялась прослойка «беломестцев»
и ощутимо возрастал неисчисляемый слой гулящих людей. Для повышения
удельного веса тяглых людей в структуре населения сёл и городов организо-
вали сыск беглых крестьян и посадское строение 1649-1660-х гг. Улучшить
собираемость косвенных налогов должны были новые таможенные уставы
и регламентация торговли; интенсификация взимания косвенных и прямых
налогов диктовалась возраставшими оборонными потребностями государства.
Все вышеописанные практические меры после их реализации оказывали мощ-
ное влияние на перемены в социальной стратификации общества, изменявшие
саму модель классообразования. Достижение этих целей увязывалось с реорга-
низацией системы правовых норм, выразившейся в появлении «Новоуказных
статей», существенно изменивших правовую основу Соборного уложения.
Исследование законодательной деятельности правительства и администра-
тивных практик в реализации указанных направлений деятельности позволит
сформулировать верифицируемые суждения о сущности «переходного харак-
тера» исследуемой эпохи, констатация которого стала общим местом в исто-
риографии. Место Уложения в эволюции социальных институтов может быть
определено только в результате исследования: где в бóльшей степени пролегал
разрыв, и где прослеживается континуитет в системе государственного стро-
ительства и права - между правом 1620-1640-х гг. и Уложением или между
Уложением и правом второй половины XVII в.
Судебно-правовая система России второй половины XVI - первой полови-
ны XVII в. содержит признаки судебной монархии6. Однако активное соучастие
выборных земских людей в судебно-следственных процедурах и других формах
земской инициативы во второй половине XVI - первой половине XVII в.7 не
помогло предотвратить гражданскую войну и восстания середины XVII в. Эти
практики оказались непригодны для утверждения социального мира в обще-
стве, раздираемом противоречиями: между столицей и провинцией, «сильными
4
Рогожин Н.М. Государственное управление в России XV-XVII вв. // Российская импе-
рия: от истоков до начала XIX века. Очерки социально-политической и экономической исто-
рии. М., 2011. С. 394-399; Рогожин Н.М. Российская власть: пути централизации XV-XVII вв. //
Российское государство от истоков до XIX века: территория и власть / Отв. ред. Ю.А. Петров.
М., 2012. С. 141-142.
5
Андреев И.Л. «Век новшеств» // Реформы в России с древнейших времён до конца XX в.:
в 4 т. Т. 1. М., 2016. С. 272.
6
Во Франции и других европейских странах в XII - первой половине XVI в. доминиро-
вало представление об осуществлении традиционного правосудия как сущности власти монар-
ха, что даёт возможность определить французский абсолютизм как судебную монархию (Цибуль-
ко Г.Ф. Политико-правовая концепция королевской власти во Франции XII-XIII вв. // Судебник
Ивана III: становление самодержавного государства на Руси. СПб., 2004. С. 393-395; Малов В.Н.
Ж.-Б. Кольбер: абсолютистская бюрократия и французское общество. М., 1991. С. 10-13).
7
Аракчеев В.А. Власть и «земля»: правительственная политика в отношении тяглых сословий
в России второй половины XVI - начала XVII в. М., 2014. С. 245-281, 397-408; Аракчеев В.А.
Земская инициатива и фискальное принуждение // Российская история. 2012. № 5. С. 22-34.
27
людьми» в лице верхушки Государева двора, дьячества, гостей и церковных
иерархов с одной стороны и массой служилых и посадских людей - с другой.
Поэтому в Соборном уложении основным способом разрешения спорных
дел стали судебные процедуры, осуществляемые органами власти. Названия че-
тырёх глав кодекса содержат термин «суд» (X, XI, XII, XX); ещё три главы (XV,
XXI, XXII) также посвящены суду; судебные процедуры занимают ключевое
место в разрешении конфликтов в большинстве других глав. Центральным зве-
ном судебной системы России были приказы, как административно-судебные
и финансовые учреждения, окончательно сформировавшиеся к началу XVII в.,
в которые поступали дела, не решённые на местах8. Два судных приказа - Вла-
димирский и Московский - вели дела, относящиеся к искам лишь служилых
людей по отечеству, в том числе, чинов Государева двора. Основная же масса
судных дел шла через другие ведомства, а иски тяглого населения рассматри-
вались главным образом в четвертях. Руководители приказов, бояре и дьяки,
именовались «приказными судьями», а «суд» приказных дельцов был основ-
ным способом административного разбирательства по самым разным аспектам
гражданского, налогового, торгового права.
Низовым звеном судебно-административной системы выступали институ-
ты местного управления - воеводы и губные старосты. Помимо администра-
тивных функций (приёма «изветов» о заговорах, оформления проезжих грамот
за рубеж, заверения кабальных записей) на воеводе наряду с губными староста-
ми и «приказными людьми» лежали обязанности главного судьи на территории
уезда. Согласно статьям 1, 5 и 6 главы X Уложения воеводы осмыслялись за-
конодателем как судьи, а их главной обязанностью был «правый» суд: «своим
вымыслом в судных делех по дружбе и по недружбе ничего не прибавляти, ни
убавляти, и ни в чем друг другу не дружити, а недругу не мстити». В случае
обвинения правого и оправдания виноватого на судье взималась сумма иска
в тройном размере. На воеводах лежали обязанности по организации сыска
в городе, расспросу вольных людей и отдаче их в крестьянство. При наличии
в уездном городе воеводы и губного старосты последний обладал приоритетом
в расследовании «разбойных и убийственных, и татиных» дел; при отсутствии
губных старост их полномочия передавались воеводам и приказным людям9.
Губные старосты выбирались местными всесословными сообществами в со-
ставе «детей боярских, и посадских, и всяких чинов жилецких и уездных сош-
ных людей». В соответствии со статьёй 4 главы XXI губные старосты должны
были избираться из числа уездных дворян, отставленных от службы по ранению
и возрасту, либо из тех, за которых служили дети и племянники10. В случае
отсутствия в составе уездного служилого города дворян губной староста мог
избираться из детей боярских, и только в тех городах, где не было служилой
корпорации, губные дела передавались в руки воевод и приказных людей. Глав-
ной функцией губного старосты было ведение дел о разбоях, татьбе и убийствах
и преследование преступников совместно с выборными губными целовальни-
ками. Однако в качестве выборно-приказной власти губные старосты ведали
также сыском беглых, сбором податей, межеванием земель, оформлением кабал
и кабальных книг. Дублируя функции воевод и пересекаясь с ними своими пол-
8
Лисейцев Д.В. Приказная система Московского государства в эпоху Смуты. М.; Тула, 2009.
С. 578-579.
9
Соборное уложение 1649 года… С. 31-118.
10
Там же. С. 118-119.
28
номочиями, губные старосты практически играли роль контрольной инстанции
за деятельностью воевод со стороны уездного дворянства.
В дальнейшем в Новоуказных статьях 1669 г. было повторено категориче-
ское предписание ведать разбойные дела губным старостам без передачи дел
воеводам. В целом же они представляли собой успешную попытку системати-
зации уголовного права, в результате которой произошло дальнейшее усиле-
ние роли государства в следствии. Вместе с Судными статьями от 11 ноября
1685 г. Новоуказные статьи заложили фундамент правовой системы абсолю-
тизма в России11. Нормы большинства глав применялись в суде по делам зна-
чительной части свободного населения, однако в целом судопроизводство по
Соборному уложению осуществлялось с опорой на принципы сословной под-
судности. Правовые различия между сословиями не исчерпывались деталями
их обязанностей: в то время как страты служилых, посадских людей и духо-
венства рассматривались в качестве субъектов судебного разбирательства, две
социальных страты - холопы и крестьяне - выступали как его объекты.
По мере развития во второй половине XVII в. кодифицированного ранее
в Уложении законодательства судебные способы разрешения конфликтов вы-
теснялись административными практиками, что показывает эволюция законо-
дательства о посадах. На определение правового положения посадских людей
по Уложению значительное влияние оказали текущие политические события
осени 1648 г., когда на Земском соборе были определены принципиальные ос-
новы посадского «строения». Это позволило 19 ноября 1648 г. учредить Приказ
сыскных дел, судьи которого посредством рассылки указов по городам осуще-
ствили первый шаг к реализации реформы, отрабатывая её существенные детали
на практике. И в дальнейшем, как обоснованно предположил П.П. Смирнов,
в процессе работы над текстом Уложения были приняты не менее трёх указов
и приговоров, относящихся к сыску и строению Москвы и других посадов12.
Глава XIX Уложения является воплощением противоречий русского общества
середины XVII в. и не менее противоречивой правительственной политики.
Исследователи от В.И. Сергеевича до А.Г. Манькова зачастую сосредо-
точивали внимание именно на крепостнической сути правительственных по-
становлений о посадах13. Комментатор XIX главы Б.Н. Миронов также сделал
акцент на реакционной закрепостительной программе правительства в от-
ношении посадов, доказывая это утверждение ещё и тем, что русский город
в XVIII в. оказался в состоянии упадка, выразившегося в падении удельного
веса городского населения14. Однако Россия XVI-XVII вв. была не единствен-
ной страной в Европе, где стагнировал старый город и снижалась численность
его населения: «регресс капиталистического развития» был отмечен М. Вебе-
ром и Ф. Броделем в Испании, где существовали сложившиеся ещё в Средние
века крупные города, включённые в сети международной торговли15. Очевид-
11
Памятники русского права (далее - ПРП). Вып. 7. М., 1963. С. 396; Маньков А.Г. Законо-
дательство и право России второй половины XVII в. СПб., 1998. С. 178-202.
12
Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII в. Т. 2. М.; Л., 1948.
С. 284.
13
Маньков А.Г. Уложение 1649 года. Кодекс феодального права России. Л., 1980. С. 205.
14
Соборное уложение 1649 года… С. 294-295.
15
Вебер М. История хозяйства. Город. М., 2001. С. 319; Бродель Ф. Структуры повседневности:
возможное и невозможное. М., 1986. С. 552-553; История Европы. Т. 4. Европа Нового времени
XVII-XVIII вв. М., 1994. С. 106.
29
но, что значимость постановлений Уложения о городах должна быть оценена,
во-первых, в соизмерении их с практикой посадского строения 1648-1652 гг.,
и, во-вторых, в сравнении с ближайшими по времени принятия правитель-
ственными актами, не выходящими за пределы второй половины XVII в.
Посадские люди в соответствии с нормами главы XIX обрели монополь-
ное право владения дворами и торгово-промысловыми заведениями на посаде,
не подлежавшими отчуждению беломестцам даже за долги. Легшие в основу
городской политики 1649-1689 гг. положения оказались не новы: принцип
принадлежности к посадскому тяглу старались воплотить в жизнь в ходе пре-
дыдущих посадских строений, однако в полной мере его можно было реализо-
вать лишь в сочетании с другим принципом - посадской близости. Принцип
принадлежности к посадскому тяглу по торгам и промыслам воплотился в ста-
тьях 1 и 5, предписывавших включить в состав посадского населения горо-
дов всё торгово-промышленное население слободок и запретить всем, кроме
тяглых людей, держать за собой лавки, погреба и варницы. Это установление
дополняло предписание отобрать у светских и духовных владельцев вотчины,
лежавшие чересполосно с посадами, и приписать их к посадской земле, за-
претив впредь «строить» на ней слободы. Именно одновременная реализация
принципов принадлежности людей к посадскому тяглу и конфискации слобод-
ской земли, лежащей близ посадов, позволила довести посадскую реформу до
логического завершения.
Ключевое значение статей 13 и 18 Уложения заключалось в полном упразд-
нении закладничества, выразившемся в требовании сыскивать и свозить на
старые места посадских тяглецов. В случае, если их предыдущий статус был
обусловлен кабалами или записями о заёмных долгах, то все долговые обя-
зательства аннулировались. Применявшиеся в 1620-1640-х гг. постановления
о телесном наказании и тюремном заключении беглых посадских людей в мо-
дифицированном виде вошли в состав царского указа от 13 ноября 1648 г.
и упомянутую выше статью 13 Соборного уложения, предписывавшие потен-
циальным закладчикам «чинить жестокое наказанье, бити их кнутом по торгом
и ссылати их в Сибирь на житье на Лену»16.
Однако норма статьи 13 о свозе бывших посадских людей на старые ме-
ста не носила безусловного характера, так как в статьях 19 и 20 законодатель
предложил существенно иное, альтернативное решение: в случае, если беглые
посадские люди оказывались в другом городе или уезде, то перевозить их сле-
довало на посад ближайшего города. Это объясняется желанием правительства
сохранить тяглоспособность наличных торгово-промышленных хозяйств, на-
верняка утративших бы её в случае принудительного перевода.
Важнейшим направлением правительственной политики в отношении
тяглых сословий стало посадское строение 1649-1660-х гг., вызванное стреми-
тельным ростом белых слобод на посадах и вокруг них. В результате «строения»
1649-1652 гг. численность тяглых дворов в стране выросла более чем на 10 тыс.
(30%). Только московский посад получил 1 410 дворов белослободчиков, по-
скольку именно в столице располагались крупнейшие слободы наиболее зна-
чимых монастырей и светских землевладельцев, включая боярина И.Н. Рома-
16
Законодательные акты Русского государства второй половины XVI - первой половины
XVII в. Тексты. Л., 1986. № 338. С. 227. То же с грамматическими модификациями: Соборное уло-
жение 1649 года… С. 100.
30
нова17. В ходе посадского строения 1649-1652 гг. были ликвидированы белые
слободы светских владельцев и Церкви, но не слободы как таковые. В Москве
продолжали существовать многочисленные дворцовые слободы - например,
Конюшенная, а в 1671 г. появилась Мещанская (Новомещанская). Они управ-
лялись на основе пожалованных ранее привилегий, предусматривавших право-
вую и фискальную обособленность от посада.
В других посадах прирост тяглого населения не был столь ощутимым:
в Новгороде Великом у патриарха, митрополита, монастырей, помещиков
предполагалось конфисковать 130 дворов, стоявших на тяглых местах, но часть
городских дворов новгородскому митрополиту удалось сохранить18. К псков-
скому посаду были приписаны 46 белых дворов, хотя на общей численности
посадского населения это почти не сказалось: результаты переписей Пско-
ва 1646 и 1678 гг. показывают примерно равную численность тяглых дворов,
что объясняется социальной мобильностью городского населения (переходом
в другие города, записью в служилые люди «по прибору» и т.д.)19. Посады чер-
носошного Севера (Устюга, Архангельского города, Соли Камской, Соли Вы-
чегодской) в ходе «строения» получили окружные грамоты с категорическим
запрещением монастырям и церквям покупать тяглые земли. Контроль за ис-
полнением постановления окружной грамоты в Соль Вычегодскую от 31 июля
1651 г. вёлся ещё в 1678 г., когда беломестцев предписали включить в сошный
оклад вместе с посадскими людьми20.
Статья 19 Уложения содержала норму, которую при желании можно было
интерпретировать как запрет посадским людям перемены места жительства на
будущее: «С Москвы в городы по старине, и из городов к Москве, и из города
в город их, посадских тяглых людей, не переводить». Б.Н. Миронов полагает,
что указанные статьи «впервые в общегосударственном масштабе окончатель-
но прикрепили посадских людей к посаду по месту жительства, запретив пере-
ходы и переезды»21. Однако запрет Соборного уложения на переход посадских
тяглецов из одного города в другой действовал недолго, поскольку после эпи-
демии 1654 г. на посадах Москвы и других городов появилось немало вымо-
рочных тяглых мест, нуждавшихся в заполнении. Указом от 28 февраля 1655 г.
переход тяглых людей из других посадов в Москву разрешался при условии
поселения их в чёрных сотнях и слободах столицы «в тягло ж». 1 апреля 1655 г.
был издан ещё один указ, преследовавший целью пополнение посадского на-
селения Москвы, формально развивавший статью 22 главы XIX Уложения,
где разрешалось «имати на посад» вольных людей, женившихся на посадских
вдовах22.
Неискоренимой проблемой посада была продолжавшаяся после заверше-
ния посадского строения 1649-1652 гг. скупка тяглых посадских дворов бело-
17
Смирнов П.П. Указ. соч. Т. 2. С. 102-304.
18
Варенцов В.А., Коваленко Г.М. Хроника «бунташного» века. Очерки истории Великого Нов-
города XVII века. Л., 1991. С. 86-87.
19
Аракчеев В.А. Средневековый Псков. Власть, общество, повседневная жизнь в XV-XVII вв.
Псков, 2004. С. 200.
20
Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные Археографической комиссией
(далее - ДАИ). Т. 3. СПб., 1848. № 88. С. 325-326.
21
Соборное уложение 1649 года… С. 101, 305-306.
22
Маньков А.Г. Развитие крепостного права в России во второй половине XVII в. М.; Л., 1962.
С. 265.
31
местцами - служилыми людьми различных категорий, а также представителями
духовенства. Купленный таким образом двор выводился из тяглой раскладки
общины, оказываясь на особом положении в силу статуса нового владельца.
Указом 1660 г. тяглым посадским людям запрещалось продавать и закладывать
свои дворы беломестцам, а контроль за его исполнением возлагался на сотских
и старост: «Соцким, и старостам, и всем тяглым людем черных дворов бело-
местцом продавать и закладывать не велено, а кто продаст или заложит, и тем
быть в жестоком наказании»23.
Однако беломестцы продолжали покупать тяглые дворы, и правительство
было вынуждено закрывать на это глаза при условии уплаты ими тягла; лишь за
неуплату тягла по указу от 29 октября 1677 г. их предписывали сводить с тяглых
дворов: «Беломестцов, которые живут на тяглых землях, а по договору тягла
с той земли не платят, и тех сводить»24. Указ 1681 г. разрешил беломестцам
владеть в городах тяглыми дворами, приобретёнными в прошлые годы по куп-
чим, если их занесли в записные книги Земского приказа 1672 и 1680 гг.: «Тем
людем на тех местах жить и мостовые деньги платить»25. В 1680-х гг. несение
тягла беломестцами признали необязательным и заменили выплатой оброка:
«С беломестцев, с дворов их и с дворовых мест, которые живут в черных сотнях
и в слободах на тяглых землях, имать оброчные деньги по-прежнему в черные
сотни и слободы на всякие сотенные расходы сотским и старостам»26.
22 января 1686 г. в статьях о «чернослободских и беломестцевых дворах»
был осуществлён свод законодательства о посадских людях, включая «чернос-
лободцев» и «белослободцев». В первых трёх статьях законодатель признал за-
конным держание беломестцами Москвы тяглых дворов по купчим и заклад-
ным, зарегистрированным в Земском приказе до 1686 г. при условии уплаты
оброка, а в определённых случаях - мостовых и решёточных денег. Однако
впредь продажа чёрных тяглых дворов беломестцам запрещалась под угрозой
наказания кнутом.
Отдельной проблемой формирования посадского населения были его вза-
имоотношения с пополнявшими посад в 1650-1680-х гг. крестьянами. Уже
в указах 1658 и 1661 гг. предписывалось бывших дворцовых, черносошных
и частновладельческих крестьян, взятых в посады «по указу великого госуда-
ря и по промыслу… во 157 году», оставить «жить в тех городех на посадех по
прежнему»27. Затем последовал указ 1665 г., согласно которому крестьяне и бо-
были, перешедшие в московские дворцовые слободы и давшие на себя поруч-
ные записи в тягле во время посадского строения 1649-1650 гг., не подлежали
возврату на прежние места жительства28. Цитированные указы опирались на
постановления Уложения и результаты посадского строения.
На практике уходившие в город крестьяне действовали каждый на свой
страх и риск. Так, ушедший на посад в Псков крестьянин Г.О. Векшинский
«поселил на свою деревню жить во крестьянство» выходца из Лифляндии,
а сам в 1671 г. получил от помещика официальную отпускную, после чего
23
ПСЗ-I. Т. 1. № 272. С. 511-512.
24
Там же. Т. 2. № 707. С. 146.
25
Там же. № 887. С. 347.
26
Там же. № 939. С. 451.
27
Российское законодательство X-XX вв. Т. 4. М., 1986. С. 81-82; ПСЗ-I. Т. 1. № 307. С. 558.
28
Маньков А.Г. Развитие крепостного права… С. 264; ПРП. Вып. 7. С. 334.
32
и «записався» в состав посада29. Значительная часть государственного бюджета
пополнялась за счёт косвенных налогов с торговли, и в дальнейшем правитель-
ство вынуждено было отступать от жёстких предписаний Уложения. В 1682 г.
послабление коснулось городов и сёл дворцового ведомства, жители которых
в случае перехода в другие «дворцовые городы и села» до переписи 1673/74 г.
оставлялись на новых местах, «а на прежние их жеребьи, откуда они пришли, не
сводить и сыщиков к розыску не отсылать»30. В 1670-1680-х гг. вышли указы,
предписавшие оставить торговых крестьян за посадом Ярославля и Москвы.
Первым был принят указ 5 марта 1677 г. о передаче посаду Ярославля кре-
стьян Спасского монастыря, фактически здесь уже проживавших и владевших
дворами и торговыми помещениями, ведших торги или занятых промыслами,
а также породнившихся с посадскими людьми. Такие крестьяне должны были
«по Соборному уложению и по особому его же великого государя указу 163 году
быть в Ярославле в посаде безповоротно, и тягло тянуть, и подати платить,
и службы служить с ними, ярославцы, посадцкими людьми, в ряд»31. В цити-
рованной мотивации содержится явное искажение постановлений Уложения
1649 г., в соответствии с которыми во всех перечисленных случаях владельчес-
ких крестьян полагалось возвращать с посада владельцам. Будучи документом
локального характера, касавшимся лишь крестьян одного монастыря на един-
ственном посаде, указ 1677 г. стал важным прецедентом в дальнейшем зако-
нотворческом процессе, стимулировавшимся челобитьями посадских миров.
Следующим шагом стал указ 17 декабря 1684 г. о записи в тягло в москов-
ские чёрные сотни и слободы поместных и вотчинных крестьян по отпускным
грамотам, торгам и промыслам. В указе принципиально новым было игнориро-
вание правовых отличий между такими мотивами записи в посад, как отпуск-
ные грамоты, торговые промыслы и поручные записи. Нетрудно заметить, что
указ не делал различий между крестьянами, ушедшими от землевладельцев по
отпускным грамотам, и беглыми, а также между теми, кто был включён в по-
садское тягло с оформлением поручной записи, подписанной поручителями--
соседями нового тяглеца и просто ведущими торгово-промысловую деятель-
ность. Новое постановление установило дату издания - 17 декабря - в качестве
временного рубежа, после которого сотским и старостам категорически запре-
щалось принимать «таких поместных крестьян… в тягло»32.
7 августа 1685 г. был издан ещё один указ, инициированный челобитьем
посадских людей Ярославля, которым предписывалось оставить на ярослав-
ском посаде помещичьих и вотчинниковых крестьян, бобылей, закладчиков,
захребетников и их свойственников, пришедших в город после издания Собор-
ного уложения. В перечне мотивов, по которым крестьян следовало включить
в посадское тягло, были уже известные из предыдущих указов: проживание
в посадских дворах и занятия торгами и промыслами, браки с жёнами и до-
черьми посадских людей. Новым среди оснований оставления крестьян на по-
саде стала их фиксация в переписных книгах 1678 г., что отделяло их в право-
вом отношении от сельского населения, для которого продолжала действовать
норма Уложения о крепости по писцовым книгам 1620-х гг. и переписным
29
Дьяконов М.А. Очерки из истории сельского населения в Московском государстве (XVI-
XVII вв.). СПб., 1898. С. 334-335.
30
ПСЗ-I. Т. 2. № 980. С. 488.
31
ПРП. Вып. 7. С. 297.
32
Там же. С. 298.
33
книгам 1646 г. Маньков, имея в виду оборот о крестьянах «иных городов и уез-
дов», предположил, что указ 1685 г. касался не только ярославского посада, но
и других, рассматривая его как «обобщение», имевшее целью распространить
локальные нормы на «значительное число городов»33. Указанное заключение
представляется ошибочным, поскольку в тексте указа говорится всего лишь
о «пришлых людях Ярославского и иных городов и уездов», пришедших исклю-
чительно в Ярославль34.
Определяющую роль сыграл указ от 19 октября 1688 г. об оставлении за
посадом Ярославля и других городов крестьян, бобылей, закладчиков и захре-
бетников, поселившихся там в 1649-1684 гг. Указ запрещал отдавать людей,
пришедших на ярославский посад до 17 декабря 1684 г., помещикам и вот-
чинникам в крестьянство и холопство, потому что они «не били челом многие
годы». Поместных крестьян, пришедших в город после этого срока, разреша-
лось «искать судом»35.
Посадские люди Великого Новгорода, Старой Руссы, Пскова и Нижнего
Новгорода, куда указ 1688 г. не был послан, запрашивали его в челобитных.
В 1692-1693 гг. эти города получили грамоты с изложением указа36. Псков-
ский воевода П.М. Апраксин получил из Новгородской четверти грамоту от
10 октября 1692 г., текст которой близок по содержанию к царскому указу от
19 октября 1688 г. Как и в указе, людям, пришедшим в город с 1649 по 1684 г.,
занимающимся торгово-промышленной деятельностью и породнившимся
с представителями посада, вне зависимости от факта их записи в переписных
книгах 1678 г. велели «быть во Пскове в посаде по прежнему бесповоротно».
Новым членам посада предписывалось «службы служить, и подати, и во вся-
кие платежи и в росходы велеть платить по окладу со псковскими посацкими
людьми в ряд», а посадской общине разрешалось собрать поручные записи по
новым тяглецам37.
Таким образом, законодательство о посадах второй половины XVII в. суще-
ственно отступило от курса, принятого в Соборном уложении. Будучи гарантом
выполнения фискальных требований казны, посады оказались в уникальном
положении. В противостоянии посадских миров со светскими и церковными
вотчинниками государство отстранилось от безусловной защиты интересов по-
следних. Осознавая это обстоятельство, служилые люди не упоминали об уходе
крестьян на посады в своих коллективных челобитных 1657-1689 гг. Помимо
этого землевладельцы усматривали в ушедшем торговать на посад крестьяни-
не человека, порвавшего с сельским хозяйством и бесполезного для возврата
к сохе. Всё это привело к укреплению посадской общины как важнейшего
источника пополнения государственных финансов.
До середины XVII в. фискальная политика государства не подвергалась
нормативному регулированию. Первое законодательно оформленное поста-
новление о всеобщности действующих и вводимых потенциально налогов
и о возможности повышения их ставок в зависимости от потребностей обо-
роны содержалось в Уложении. В главе VII, предполагая возможность начала
войны и мобилизации ратных людей, законодатель констатировал необходи-
33
Там же. С. 337.
34
Там же. С. 299.
35
Там же. С. 299-301.
36
Маньков А.Г. Развитие крепостного права… С. 284.
37
РГАДА, ф. 141, оп. 7, д. 95, 1692 г., л. 1-35.
34
мость «своим государевым ратным людем… дати свое государево жалованье»,
для чего следует «деньги збирати со всего Московского государства, а побор
положити, смотря по службе»38.
В норме права Уложения отразилась применявшаяся с 1630-х гг. практика
сбора подворных денег, выявившая потенциал для наращивания политики фи-
скального принуждения, и в 1640/41 г. правительство резко повысило сошные
оклады ямских и стрелецких денег. Эксперимент с введением новых экстраор-
динарных налогов в конце 1630-х гг. оказался переломным моментом в процес-
се становления фискально-милитаризованного государства в России XVII в.39
Под последним подразумевается выход государства на такую траекторию раз-
вития, когда его институты нацелены на перманентную подготовку к войне. За-
конодательное оформление возможности повышения налогов без каких-либо
консультаций с сословиями, несомненно, отличало Россию от большинства
европейских сословно-представительных монархий (пожалуй, за исключени-
ем Франции), но в то же время обозначало её принадлежность к категории
фискально-милитаризованных государств40.
Рост удельного веса прямых налогов в структуре бюджета России начался
ещё в первой половине XVII в., но лишь длительная и затратная Тринадцати-
летняя война привела к невиданному росту как постоянных, так и экстраор-
динарных налогов. Основной налог на содержание вооружённых сил - стре-
лецкий хлеб - с 1663 г. взимался только серебряными деньгами по цене 2 руб.
35 коп. за юфть (включавшую четверть ржи и четверть овса), а в расчёте на
соху превышал 822 руб. Правительство пыталось монетизировать свои доходы:
с 1672 г. почти повсеместно взимание стрелецкого хлеба на посадах стало заме-
няться денежным сбором, а взыскание стрелецкой подати передали из четверт-
ных приказов в Стрелецкий. Согласно указу от 29 ноября 1672 г. за юфть хлеба
с посадских людей стали взимать по 2 руб.41
Нараставшие недоимки вынуждали правительство объявлять экстраорди-
нарные сборы как в виде подворного налога, так и в форме налога с оборота.
После прекращения чеканки медных денег уже в октябре 1663 г. правительство
объявило о сборе «пятой деньги» «с торгов и со всяких промыслов» всех кате-
горий подданных, включая торгующих служилых людей42. С окончанием Три-
надцатилетней войны практика взимания экстраординарных налогов не
прекратилась. В 1668-1672 гг. были объявлены четыре чрезвычайных сбора:
десятой и пятнадцатой деньги с торговых и ремесленных людей, денег «ратным
людем на жалованье» по 70 коп. с двора43.
Чигиринская кампания привела к резкому росту чрезвычайных налогов.
В 1677-1680 гг. правительство собирало налоги по полтине и полуполтине
38
Соборное уложение 1649 года… С. 24.
39
Веселовский С.Б. Сошное письмо. Т. 1. М., 1915. С. 161, 417. Подробнее см.: Аракче-
ев В.А. Фискальные инновации в России во второй четверти XVII в. и европейский контекст //
Уральский исторический вестник. 2018. № 4(61). С. 6-12.
40
The Rise of the fiscal state in Europe, 1200-1815. Oxford, 1999. P. 142-493.
41
Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспе-
дициею императорской Академии наук (далее - ААЭ). Т. 4. СПб., 1836. № 189. С. 243.
42
ДАИ. Т. 4. СПб., 1851. № 131. С. 316-317.
43
Там же. Т. 5. СПб., 1853. № 64. С. 333-334; Т. 6. СПб., 1857. № 33. С. 178; № 44. С. 200;
ААЭ. Т. 4. № 175. С. 226; ПСЗ-I. Т. 1. № 547. С. 929-930; Акты исторические, собранные и издан-
ные Археографическою комиссиею. Т. 4. СПб., 1842. С. 503-504.
35
с двора, а также десятую деньгу с торгов и промыслов44. Уже в ходе экстраор-
динарных взиманий 1670-1678 гг. именно двор стал основной окладной едини-
цей, что было предопределено составлением переписных книг в 1678 г. В ходе
налоговой реформы 1679-1681 гг. страна перешла к подворному налогообло-
жению, однако по масштабам реформа фиска оказалась значительнее и шире
введения подворного принципа налогообложения45.
В ходе реформы была регламентирована практика взимания натурального
продовольственного налога - ржи и овса на годовое жалованье московским
стрельцам с уездов Центра и Северо-Запада России. В приговоре Боярской
думы 2 сентября 1679 г. предписывалось собирать стрелецкий хлеб по пере-
писным книгам 1677-1679 гг. с дворов крестьян, бобылей и задворных людей.
Хлеб следовало собирать «в торговую таможенную орленую меру и с верхи под
гребло». Сентябрьский приговор 1679 г. регламентировал размеры и порядок
сбора хлеба московским стрельцам с владельческих крестьян, и в зависимо-
сти от категории владельцев (церковные, дворцовые, вотчинные и поместные)
и региона оклад хлеба варьировался от 1 до 7 четвериков с двора. Перечень
городов в приговоре 2 сентября охватывал лишь те, стрелецкий хлеб с которых
собирали московским стрельцам; в перечне не упомянуты города Поморья,
Предуралья, некоторые поволжские, с которых взималась денежная стрелецкая
подать. И.А. Голубцов показал, что с Новгородского и Старорусского уездов
стрелецкий хлеб собирался отдельно на жалованье новгородским и старорус-
ским стрельцам в объёме 4 747 четвертей ржи и столько же овса46.
Особая ситуация сложилась в Псковской земле, где находились стрелецкие
гарнизоны. Они обеспечивались деньгами и хлебом, собираемыми здесь же.
По данным сметного списка 1678/79 г. с посадов Пскова и пригородов соби-
рали деньги за стрелецкий хлеб в объёме 880 руб. и собственно хлеб с уездов47.
По подсчётам Голубцова, на хлебное жалованье московским и новгородским
стрельцам собирали 107 305 четвертей ржи и столько же овса48; пример Пскова
показывает, что в некоторых окраинных землях также собирали стрелецкий
хлеб; это увеличивает указанную цифру. Будучи одной из крупнейших статей
государственного дохода, стрелецкий хлеб, как следует из указа от 24 сентября
1688 г., выплачивался зерном до конца XVII в.49
Второе направление реформы коснулось консолидации налогов, выпла-
чиваемых в денежном виде. Ямские и полоняничные деньги слились в один
общий оклад (5-10 коп. с двора) и уже с декабря 1679 г. должны были выпла-
чиваться подворно с крестьян, бобылей и задворных людей50. Указами 5 сен-
тября и 27 ноября 1679 г. на посадах и в поморских уездах правительство осу-
ществило замену целого комплекса налогов (данных, четвертных, пищальных
денег, денежных доходов «на мелкие расходы») консолидированным прямым
44
ПСЗ-I. Т. 2. № 1210. С. 917; ДАИ. Т. 8. СПб., 1862. № 28. С. 77-86.
45
Излагаемая ниже история податной реформы резко противоречит неверной и упрощённой
интерпретации её И.Л. Андреевым (Реформы в России с древнейших времён до конца XVII в. /
Отв. ред. И.Н. Данилевский. Т. 1. М., 2016. С. 329).
46
Голубцов И.А. К истории податной реформы 1679-1681 гг. // Исторический архив. 1959.
№ 5. С. 157-166.
47
РГАДА, ф. 137, оп. 1, Псков, кн. 15а, л. 50 об.-59.
48
Голубцов И.А. Указ. соч. С. 157-158.
49
ААЭ. Т. 4. № 299. С. 446-447.
50
ДАИ. Т. 8. № 66. С. 258-259.
36
налогом - стрелецкими деньгами. Деньги на жалованье московским стрельцам
следовало отправлять в Стрелецкий приказ, а на местах их сбор осуществлялся
земскими старостами и выборными лучшими людьми посадов и уездов.
Крупнейшими плательщиками стрелецких денег по росписи 1679 г. были
Вятская земля (13 614 руб.), Великий Устюг (10 450 руб.), Каргополь (8 027 руб.)
и Соль Камская (6 977 руб.). В роспись городов и уездов, обложенных новы-
ми стрелецкими деньгами, не включены собиравшие стрелецкий хлеб Новго-
род и Псков с пригородами (за исключением Старой Русы). Согласно окладу
1679 г. со 137 посадов и 16 поморских уездов следовало собрать 152 657 руб.
стрелецких денег. Новый налог оказался чрезмерно тяжёлым, поскольку дол-
жен был взиматься одновременно с наборами даточных людей и выплатами
им подъёмных денег, а также экстраординарными изъятиями рублёвых, пол-
тинных денег, пятой и десятой денег. После совещаний с гостями в сентябре
1681 г., руководствуясь тем, что стрельцам вкупе с начальствующим составом
следовало выплачивать ежегодно 107 227 руб., правительство снизило общую
сумму стрелецкой подати почти на треть - до 107 550 руб.51 Даже если пра-
вительство в своих реформаторских замыслах и руководствовалось целью до-
биться своевременной и полной уплаты налогов, очевидно, что этой цели ему
в полной мере достичь не удалось.
Однако достигнутой оказалась более важная цель: ещё П.Н. Милюков по
бюджетным росписям Ближней канцелярии выявил основополагающий прин-
цип, лежавший в основе бюджета страны в конце XVII - начале XVIII в. Те-
кущие «сборы» налогов должны были «заходить… за сборы» предыдущего года,
т.е. перекрывать их, образуя бюджетный профицит. Уже в 1680 г. «остаток»,
перешедший в следующий 1681 г., составил более 407 тыс. руб., и, ежегодно
увеличиваясь, к 1703 г. достиг суммы более 3 366 тыс. руб.52 Бюджет не был
подорван растущими в 1690-х гг. расходами на войну с Турцией и начавшим-
ся строительством флота в Воронеже. Изложенные обстоятельства позволяют
охарактеризовать траекторию развития России второй половины XVII в. и её
институтов, в первую очередь органов фиска, как мобилизованных для извле-
чения ресурсов в целях возрастания оборонной мощи.
Ещё бóльшую роль в мобилизации людских и материальных ресурсов
в России сыграл институт крепостного права. В отличие от наиболее распро-
странённого в историографии представления о крепостном праве как законо-
дательстве, закрепощающем тяглое население, я рассматриваю его как систе-
му, состоящую из двух основных элементов. Первой составной частью этой
системы была совокупность правовых норм, регламентирующих прикрепление
тяглого населения к местам проживания и порядок сыска беглых, второй -
вотчинный режим, формировавшийся во второй половине XVII в. в процессе
оформления крепостных актов на вновь закрепощаемых людей.
Безусловным императивом Уложения, резко противопоставлявшим его
предыдущему законодательству, следует признать лишь категорическое запре-
щение приёма беглых крестьян: «По нынешней государев указ государевы запо-
веди не было, чтобы никому за себя крестьян не приимати, а указаны были бег-
лым крестьяном урочные годы» (статья 3 главы XI). Закрепощение крестьянства
51
ААЭ. Т. 4. № 250. С. 345-351.
52
Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и ре-
форма Петра Великого. СПб., 1905. С. 76, 176-182.
37
по Соборному уложению для разных его категорий, как и процедура возврата
беглых, различались. Дворцовых и черносошных крестьян, бежавших на зем-
ли частных владельцев, следовало свозить «на старые их жеребьи», используя
процедуру сыска без суда, как это делалось и прежде53. Вотчинных и помест-
ных крестьян, бежавших на земли всех категорий, включая посад, следовало
«отдавать» (возвращать на земли прежних владельцев) «по суду и по сыску»
(статьи 1, 2 главы XI). На практике же до конца 1650-х гг. государственного
сыска беглых не существовало, поэтому возврат их, как и в конце XVI - первой
половине XVII в., должен был осуществляться через решение суда воеводы,
или, чаще всего, соответствующего приказа.
Существенным отличием суда по делам о беглых по Соборному уложению
от аналогичных процедур предыдущего периода стало то, что сыск и судеб-
ные иски подавались и действовали без «урочных лет», однако и здесь нормы
Уложения содержали исключения. Статья 5 главы XI запрещала рассматри-
вать в судебном порядке дела о крестьянах, которые бежали до составления
писцовых книг 1626 г., но пустые дворы которых были занесены в писцовые
книги по сказкам самих вотчинников и помещиков. Эта норма действовала
в случае отсутствия челобитных от землевладельцев относительно побегов,
а дата 1626 г., таким образом, фактически становилась исходным сроком сыска
беглых. Ещё одно исключение содержала статья 8, предписывавшая оставлять
в силе осуществлённые до 1649 г. судебные решения о беглых крестьянах, даже
если суд отказывал истцам в исках об их возврате по причине просроченных
урочных лет. В этом случае крестьяне, чьи предки фигурировали в писцовых
книгах 1620-х гг., не возвращались прежним владельцам54.
Запрет приёма беглых и их бессрочный сыск не означали невозможности
законного ухода крестьянина от вотчинника. Статья 3 главы XV предписыва-
ла не отдавать новому владельцу вотчины крестьянина или бобыля, который
был «написан» за прежним вотчинником в писцовых книгах, но «отпущен из
вотчины с отпускною». Эта норма, однако, не распространялась на поместных
крестьян, даже получивших отпускную от прежнего владельца, поскольку, как
разъяснял законодатель, «ис поместей помещиком крестьян на волю отпускать
не указано». В последующие десятилетия после Уложения различия в правовом
статусе вотчинных и поместных крестьян сохранялись. Поместные крестья-
не считались неотъемлемым атрибутом поместья как «государева жалованья»
и не подлежали продаже. Вотчинными крестьянами разрешалось «поступаться»
в погашение долга и в качестве заклада, а с течением времени и осуществлять
их прямую продажу. До 1675 г. купчие на вотчинных крестьян регистрирова-
лись в приказе Холопьего суда, а с 1675 г. временно и с 1688 г. окончательно -
в Поместном приказе55.
Рассмотрим эволюцию крепостного права как системы государственного
сыска беглых крестьян во второй половине XVII в. Проблема владельческой
принадлежности крестьян ставилась и решалась первоначально в контексте
возврата беглых прежним владельцам по суду. Соборное уложение предписы-
вало «записывать», т.е. регистрировать в Поместном приказе, возвращённых из
бегов крестьян, отданных законным владельцам как по суду, так и доброволь-
53
Аракчеев В.А. Власть и «земля»… С. 296-299.
54
Соборное уложение 1649 года… С. 65, 234-235.
55
ПРП. Вып. 7. С. 210-211, 259-263.
38
но56. Необходимость создания системы государственного сыска беглых стала
очевидной с возобновлением военных действий против Речи Посполитой по-
сле перемирия во второй половине 1650-х гг. В челобитной 1657 г. дворян и де-
тей боярских Галицкого и других уездов содержались жалобы о безнаказанных
побегах крестьян, оказывавших ожесточённое сопротивление попыткам дворян
их вернуть, вынуждая прерывать службу57.
С марта 1658 г. началась рассылка по уездам сыщиков с чрезвычайными
полномочиями. Сыск осуществлялся по нескольким направлениям, поскольку
среди беглых были посадские, служилые по прибору, в том числе бежавшие
с южных оборонительных линий, дворцовые крестьяне. В наказе нижегород-
скому сыщику Д. Плещееву предписывалось начинать расследование с рас-
спросов тех «новоприходцев» из беглых, кто окажется бывшим посадским
человеком, служилым человеком по прибору, беглецом с Белгородской черты,
крестьянином дворцовых или ясачных сёл58. Сыск начинался с рассмотрения
челобитных владельцев беглых крестьян и поэтому фактически оказывался
вооружённой административной поддержкой частной инициативы землевла-
дельцев. Как показал Маньков, всего за 1658-1689 гг. известно об отправке
под руководством сыщиков в разные уезды 73 сыскных комиссий. Известно
и о других сыскных мероприятиях: в 1665 г. 25 неизвестных по именам сыщи-
ков отправились в города приказа Казанского дворца, а в 1677 г. - в 96 по-
волжских городов.
География сыска охватывала почти всю территорию страны за исключени-
ем новгородско-псковских и поморских земель. Столь масштабные сыскные
мероприятия тем не менее не всегда приводили к должному результату. Беглые
крестьяне и их потомки находились в розыске десятки лет, как, например,
50 крестьянских семей из болховской вотчины кн. Кольцова-Масальского, по-
селившиеся в 1669 г. на землях помещика Кобелева и обнаруженные спустя
36 лет59. Свобода передвижения оставалась велика и в новгородско-псковских
землях, где до 1690-х гг. сыскных комиссий из столицы не было, причём кре-
стьяне мигрировали относительно далеко, включая ближнее зарубежье60.
Однако даже если беглых находили, вернуть их было непросто. В поданной
в декабре 1658 г. коллективной челобитной дворяне и дети боярские указывали
на противоречия и лакуны в законодательстве: если крестьяне вышли из-за
прежних владельцев до переписных книг 1646 г., то, несмотря на их запись
в писцовых книгах 1620-х гг., новые владельцы отказывались их отдавать. Мо-
тивация новых владельцев состояла в том, «что в… государеве указе и в Собор-
ном уложенье за тех крестьян и бобылей за владенье ничево не указано, и им
теми нашими крестьяны и бобыли и впредь мочно владеть безстрашно и безо
всякие боязни, потому что им от тебя, государя, ни едина заповедь, ни вина
не лежит». Поэтому челобитчики просили для держателей беглых ввести «свою
государеву заповедь с наказанием… и пеню брать безо всякие пощады в свою
государеву казну»61. Перечисленные в челобитной лакуны в законодательстве
показывают, что несмотря на декларации Соборного уложения, механизм удер-
56
Соборное уложение 1649 года… С. 65.
57
Дворянство и крепостной строй России XVI-XVII вв. М., 1975. С. 304-305.
58
ДАИ. Т. 4. № 48. С. 123.
59
Маньков А.Г. Развитие крепостного права… С. 83-114.
60
Дьяконов М.А. Указ. соч. С. 107, 110.
61
Дворянство и крепостной строй… С. 308-311.
39
жания крестьян за землевладельцами не стал более совершенным, чем в период
действия «урочных лет». Правительство вняло жалобам дворян, и указом от
13 сентября 1661 г. существенно изменило санкции в адрес землевладельцев,
удерживавших беглых. За бежавших с февраля 1658 г. (даты рассылки «запо-
ведных грамот») по дату указа с принявших беглых вотчинников и помещиков
сверх «зажилых денег» в размере 10 руб. за каждого беглого и самого возвра-
щённого беглого брали «наддаточного» крестьянина, а за принятых беглых по-
сле 13 сентября 1661 г. брали четверых «наддаточных»62.
Одним из направлений бегства крестьян были города и уезды Белгород-
ской черты, и уже указом 1656 г. законодатель обозначил важнейшее проти-
воречие системы закрепощения: между обязанностями тягла по прежнему ме-
сту жительства и службы на черте. Согласно этому указу, крестьяне и холопы,
бежавшие на Белгородскую черту до 1653 г., не подлежали сыску и возврату
к прежним землевладельцам. Однако, когда в 1675 г. возникла угроза войны
с Турцией, правительство провело разбор служилых людей Белгородского пол-
ка, включая бывших крестьян, которые были записаны в «разборные книги».
Разбор 1675 г. имел исключительное значение для судеб служилых людей «чер-
ты», поскольку, будучи записанными в книги, они оказались под защитой за-
кона вместе со своим потомством, включая детей, братьев и внуков. В ответ на
челобитную воеводы кн. Ромодановского Разрядный приказ указал не отдавать
в крестьянство записанных, имевших ранения. Грамоты 1676 г. предписывали
прекратить отдачу служилых людей городов Белгородского разряда без грамот
из Разрядного приказа, а помещикам подавать в Разряд челобитные о беглых.
В ответном царском указе и боярском приговоре от 2 июля 1676 г. действие
указа 1656 г. было подтверждено63.
Такой порядок вызывал законное возмущение дворянства центральных
уездов страны, проявившееся в коллективных челобитных 1676 и 1677 гг. Дво-
ряне указывали, что с воцарением Фёдора Алексеевича в «понизовые украин-
ные города» и «по Черте» перестали присылать сыщиков, а беглых принимали
не только помещики и вотчинники, но и приказные люди, стрелецкие головы,
земские старосты, казацкие сотники укреплённых городов Юга64. Лишь 8 фев-
раля 1683 г. нормы указа 1656 г. были изменены: бежавших в города по «черте»
крестьян разделили на четыре категории; от крестьянства и холопства освобо-
дили записанных в военную службу в городах Белгородского полка до разбора
и в разбор 1675 г.: «А которые в те городы пришли в их государеву службу
в копейщики, и в рейтары, и в солдаты, и в городовую службу написаны до
розбору и в розбор 183-го году, и на тех в холопстве и во крестьянстве суда
никому не давать»65. Бессрочному сыску в соответствии с нормами Уложения
подлежали беглые, осевшие в вотчинах и поместьях южных уездов в качестве
крестьян, а ограниченному, с 1652/53 г., беглецы, поселившиеся на посадах
или в захребетниках66.
Важнейшие законодательные акты 1658-1683 гг. включили в итоговый На-
каз сыщикам беглых крестьян и холопов от 2 марта 1683 г. В силе оставалось
взимание 10 руб. в год за каждого беглого, принятого до сентября 1661 г., а за
62
Маньков А.Г. Развитие крепостного права… С. 43.
63
Там же. С. 129-131.
64
Дворянство и крепостной строй… С. 316-319.
65
ПРП. Вып. 7. С. 201-203, 244-250.
66
Там же. С. 201-203, 244-250.
40
приём беглых после 1661 г. полагалось брать по 20 руб. на год «за всякого че-
ловека з женою и з детьми… а буде и не женат, по двадцати ж рублев». Пятой
статьёй указанного документа отменялось наказание кнутом приказчиков поме-
стий и вотчин («помещиковых и вотчинниковых прикащиков кнутом не бить,
а имать пожилые деньги на помещиках их и на вотчинниках, и на той деревне,
где-то беглые люди и крестьяне жили»), а вся ответственность за приём беглых
возлагалась на самих помещиков и вотчинников и на их крестьян67. Работа
сыскных комиссий вкупе с ужесточением законодательства о беглых принес-
ла результаты: запустевшие прежде уезды испытывали демографический рост,
казна получила устойчивый приток налоговых поступлений, снизился накал
противостояния между крупным столичным и провинциальным дворянством.
Не менее важной проблемой было изменение статуса крестьянина при
смене владельца или переводе крестьянина владельцем из поместья в вотчину.
Коль скоро различался правовой статус поместья и вотчины, то и законода-
тельство не предполагало полного равенства между крестьянами вотчинными
и поместными. С одной стороны, правовой статус вотчинных и поместных кре-
стьян, и, прежде всего, принципы их прикрепления к земле и землевладельцам,
согласно главе XI Соборного уложения, были одинаковы. Однако, поскольку
поместье считалось государственной собственностью, передаваемой помещику
за службу, для крестьян, зафиксированных в писцовых и переписных книгах
в поместье, перевод на вотчинные земли запрещался. Если же вотчина перехо-
дила в другие руки, а прежний владелец ранее перевёл на её территорию своих
поместных крестьян, последних следовало возвратить в поместья. Столь же
существенные различия действовали и при отпуске крестьян на волю. Статья 3
главы XV Уложения устанавливала, что если помещик или вотчинник даст от-
пускные крестьянам, то в случае, если новый владелец вотчины или поместья
опротестует этот акт, отпускная на вотчинного крестьянина сохранит силу,
а поместный крестьянин будет возвращён новому помещику68.
Однако в дальнейшем законодательстве стали рассматриваться и казусы,
относящиеся к переводу вотчинных крестьян в поместья. В указе от 10 марта
1676 г. и Новоуказных статьях 1677 г. трактовался переход приданных вотчин
после смерти владельцев к их родственникам. В этом случае, если владельцы
«из приданных своих вотчин крестьян сведут на поместные земли, а те вот-
чины после кому отданы будут по родству, и тех крестьян с поместной зем-
ли отдать по писцовым и по переписным книгам по-прежнему на вотчинную
землю тому, кому та вотчина дана будет»69. Согласно частному определению от
13 декабря 1680 г. цитированный выше закон о возврате вотчинных крестьян
из поместий распространялся на родовые унаследованные вотчины боярина
М.И. Морозова70. В указе от 1 февраля 1689 г. правило возврата крестьян на
вотчинные земли по челобитьям новых владельцев касалось всех вотчинных
земель, даже если крестьяне значились там в писцовых книгах 1620-х и пере-
писных книгах 1646 г.71
Вторым элементом системы крепостного права был вотчинный режим,
формировавшийся благодаря изощрённой системе государственной регистра-
67
Российское законодательство X-XX вв. Т. 4. С. 83.
68
Соборное уложение 1649 года… С. 68, 73.
69
ПСЗ-I. Т. 2. № 700. С. 130.
70
Там же. № 848. С. 287-288.
71
Там же. Т. 3. № 1334. С. 14.
41
ции крепостных актов. В Соборном уложении 1649 г. мимоходом упоминалось
о крестьянах и бобылях, записанных за землевладельцами в писцовых и пе-
реписных книгах «или в иных каких крепостях»72. Однако по мере того, как
результаты переписей 1620-х и 1646 гг. всё более противоречили реальному
положению вещей, правительство вносило в законодательство коррективы.
В наказе сыщикам 1664 г. принадлежность «старинных людей», под которы-
ми законодатель понимал крестьян-старожильцев, определялась на основании
«старинных крепостей», а «будет крепостей на старину не положат, и великий
государь указал и бояре приговорили: быть тем крестьяном по писцовым и пе-
реписным книгам, за кем те люди и крестьяне написаны»73. Изложенная статья
указа представляла собой нормативный разрыв с законоположениями Собор-
ного уложения, настойчиво выдвигавшего на передний план запись в писцо-
вых, переписных и отдельных книгах в качестве доказательств принадлежности
крестьянина.
Под понятие «старинных крепостей» подпадали акты двух основных раз-
новидностей: порядные, ссудные, отпускные и другие грамоты, оформлявшие
или прекращавшие зависимость крестьянина, и сделочные (поступные) запи-
си, оформлявшие замаскированную или открытую куплю-продажу крепост-
ных крестьян. Правовые нормы порядных 1660-1670-х гг., заключавшихся
«по смерть» помещика, не соответствовали нормам Соборного уложения о по-
томственном прикреплении крестьян к вотчине или поместью, что обеспечи-
валось, в свою очередь, записью крестьянской семьи в переписных книгах74.
Правовые основы владения «крепостными людьми» в Соборном уложении
были чётко определены: согласно нормам главы XX, «крепостными» считались
холопы, находившиеся во владении служилых людей различных категорий и не
включённые в тягло. Тяглых же людей разрешалось удерживать в найме не бо-
лее пяти лет с оформлением на них жилых (житейских) записей (статья 116).
Крестьян, нанимавшихся «в работу» к «всяких чинов» людям, согласно ста-
тье 32 главы XI, запрещалось «крепить» любыми документами: жилыми, ссуд-
ными записями и служилыми кабалами75. Действительное положение вещей
в русской деревне, однако, существенно отличалось от правовых норм. Соглас-
но данным переписной книги дворцового села Лысково 1672 г., зажиточные
крестьяне, занимавшиеся промыслами и пахотой, держали у себя на дворах
зависимых людей. Среди них выделялись «купленые люди польского поло-
ну», «русские крепостные люди», «работники русские крепостные», «работные
люди кумычане»76. Их правовой статус, равно как и права дворцовых крестьян
на владение ими, подлежали регулированию вплоть до рубежа XVII-XVIII вв.
В составе крепостного населения вотчин и поместий светских землевла-
дельцев значительную долю занимали задворные люди. Взрывной рост их чис-
ленности (в новгородских землях они составляли 20-25% крепостного насе-
ления) подтолкнул правительство к идее рассчитывать налогооблагаемую базу
для развёрстки стрелецкого хлеба исходя из численности дворов, в том чис-
ле задворных людей. Об их включении в тягло говорится в указах 2 сентября
72
Соборное уложение 1649 года… С. 66.
73
ПСЗ-I. Т. 1. № 364. С. 597.
74
Дьяконов М.А. Указ. соч. С. 340.
75
Соборное уложение 1649 года… С. 68, 117, 239, 353.
76
Хозяйство крепостного крестьянина XVII века: переписная книга 1672 года по селу Лыско-
ву / Сост. А.И. Копанев, Д.И. Петрикеев. М.; Л., 1982. С. 8-11, 14-15, 33, 40.
42
и 9 октября 1679 г.77 Включение задворных людей в тягло указами 1679-1680 гг.
обозначило, с одной стороны, переход к новой системе взимания налогов,
а с другой - переломный момент в процессе закрепощения сельского населе-
ния. Увеличение удельного веса в составе населения поместья задворных людей
меняло саму суть вотчинного режима: в составе крестьянского населения росла
прослойка людей, всецело, в бóльшей степени, нежели крестьяне, зависевших
от господина. Утрата задворными людьми статуса холопов и их уравнивание
с крестьянами делало, по справедливому замечанию Г.В. Вернадского, «закры-
той» систему крепостничества, оформляя её как тотальную систему угнетения78.
На завершающем этапе становления крепостного права, в последней чет-
верти XVII - первой четверти XVIII в., утвердилась практика покупки крестьян
посредством заключения разного рода «сделочных записей». Указ, регламен-
тирующий порядок записи сделок на крестьян «на периферии в приказных
палатах крупных городов», в частности, Казани и Новгорода, остался неизве-
стен Манькову79. 22 мая 1680 г. из Холопьего приказа была дана указная гра-
мота, зафиксированная в записной книге Псковской приказной избы: «Велено
в городех служилые кабалы и на крестьян ссудные записи и всякие крепо-
сти - данные, и рядные, и купчие, и поступные, и сделочные, и житейские
записи - записывать в городех воеводам и приказным людем по указу великого
государя и по Уложенью, роспрашивая перед собою налицо, и в рожи, и в при-
меты записывать имяном»80. Из этого указа следует, что в 1680-х гг. не только
в центральных приказах, но и в провинциальных приказных избах регистрация
сделок на крестьян велась единым порядком в одних и тех же книгах, а кон-
троль над этим процессом осуществлял Холопий приказ.
Наказ сыщикам 1683 г. отдавал приоритет «сделочным крепостям» пе-
ред писцовыми и переписными книгами: если владельцы крепостных в суде
«ис приказов положат какую отдачю, или по полюбовному с кем договору
вместо… крестьянина взятую крепость, или поступную запись», то в этом слу-
чае крестьян по писцовым и переписным книгам предписывали владельцам
не отдавать, «а быть тем людем и крестьяном за теми помещики и вотчинни-
ки по сделошным крепостям»81. Наконец, в 1688 г. правительство радикально
изменило порядок регистрации крепостей на крестьян, постановив начать их
регистрацию в Поместном приказе и предписав «учинить» для этого специ-
альные записные книги. В указе определялись правовые ограничения сделок
на вотчинных и поместных крестьян: если вотчинных крестьян можно было
продавать и заключать на них другие сделки, поместными разрешалось лишь
«поступаться» взамен беглых.
Законодатель допускал, что «суды» о спорных крестьянах решались и в дру-
гих приказах, например Московском или Владимирском судных, по решению
судей которых спорные крестьяне могли быть отданы законным владельцам.
В этом случае крестьян следовало также отправлять к записке в Поместный
приказ. Географически действие указа не определялось, но сохранившиеся за-
писные книги крепостей на крестьян охватывают обширный регион Замосков-
77
Голубцов И.А. Указ. соч. С. 155-167.
78
Вернадский Г.В. Крепостничество в России // X Congresso Internazionale di Scienze Storiche.
Florence, 1955. P. 247-272.
79
Маньков А.Г. Развитие крепостного права… С. 216-217.
80
РГАДА, ф. 1209, оп. 3, кн. 17761, л. 540.
81
ПРП. Вып. 7. С. 199.
43
ного края и южных «украинных уездов». Регистрация сделочных записей на
крестьян Поволжья и Северо-запада России осуществлялась в приказных избах
Нижнего Новгорода, Казани, Великого Новгорода и Пскова82. Правовые огра-
ничения на сделки с поместными крестьянами были сняты указом от 7 апреля
1690 г., узаконившим «поступку» ими, после чего количество сделок на кре-
стьян посредством поступных записей стало расти по экспоненте83.
Изложенные факты убеждают в справедливости трактовки В.О. Ключев-
ским крепостного права как института, объединявшего в себе фискальные,
правовые и экономические компоненты. Этот взгляд, сложившийся у него
к моменту составления текстов лекций, оказался сложнее и рельефнее, чем
высказанное в работах 1885-1886 гг. представление о закрепощении посред-
ством ссудной записи, «утверждавшей личную зависимость без права зависи-
мого лица прекратить её»84. Правовой компонент системы крепостного права
наглядно проявился в статье 7 главы XIII Соборного уложения, утвердившей
судебный иммунитет дворянского землевладения: «За крестьян своих ищут
и отвечают они же, дворяне и дети боярские, во всяких делех, кроме татьбы,
и разбоя, и поличного, и смертных убийств»85. На практике, как показывают
документы архива стольника А.И. Безобразова, и в татебных делах зачастую
подсудимые представали лишь перед вотчинным судом. Попавшийся в 1669 г.
на краже в вотчине кн. П.С. Прозоровского крестьянин Безобразова был по-
сажен в клеть и приведён к приказчику, который «зделал по-сусицки: пабил
ево батоги, да и пустил». Приказчик Безобразова, в свою очередь, ограничился
взятием на поруки отца этого вора и ждал распоряжения своего «государя»
о его дальнейшем наказании86. Такое расширение полномочий вотчинного суда
до дел о татьбе свидетельствует не только о нарушении закона, но и о силе
вотчинного режима.
Фискальный компонент системы крепостного права был закреплён зако-
нодательно в Уложении («имати за крестьян государевы всякие поборы с вот-
чинников и помещиков»)87 и проявлялся как в сборе государственных налогов
приказчиками и старостами, так и во взаимовыгодной системе «зачётов» обро-
ков в счёт уплачиваемых вотчинником налогов. Об этом прямо писали в 1669 г.
приказчик и староста кашинской вотчины Безобразова после перечисления
исполненных оброчных и барщинных повинностей: «Да преж сего, государи,
государев стрелецкой хлеб плачивал ты, государь, за нас, сирот своих, а ныне,
государь, как ты, государь, пожалуешь?»88.
Очевидно, что по мере эскалации налоговых требований государства во вто-
рой половине XVII в. общинные структуры, обеспечивавшие их выполнение,
должны были обретать бóльшую гибкость и универсализм. Именно к XVII в.
относится оформление «мирского» самоуправления как низшего звена аппа-
рата принуждения в вотчинах89. Подчёркивая важное управленческое значе-
ние общины, Л.В. Милов указал на тормозящую роль общинных традиций
82
Там же. С. 210-211, 261-262.
83
Маньков А.Г. Развитие крепостного права… С. 205.
84
Ключевский В.О. Сочинения. Т. 3. М., 1988. С. 159-175; Т. 8. М., 1990. С. 182-184.
85
Соборное уложение 1649 года… С. 60.
86
Архив стольника Андрея Ильича Безобразова. Ч. 1. М., 2012. № 450. С. 436.
87
Соборное уложение 1649 года… С. 55.
88
Архив стольника Андрея Ильича Безобразова. Ч. 1. № 559. С. 546.
89
Александров В.А. Сельская община в России (XVII - начало XIX в.). М., 1976.
44
в землепользовании, препятствовавших
«развитию частнособственнических
тенденций в феодальном землевладении»90. Продолжая мысль Милова, следу-
ет подчеркнуть, что в России крайне своеобразно развивалось право частной
собственности и в городах, а система сыска беглых посадских людей во многом
напоминала крепостную зависимость крестьян.
Закрепощение крестьян в XVII в. не было уникальной особенностью Рос-
сии - аналогичные меры имели место в нескольких странах Центральной
и Восточной Европы. В Бранденбурге в 1653 г. в ходе рецесса (перерыва в ра-
боте Генерального ландтага) вышел указ электора Фридриха-Вильгельма I, по
которому все крестьяне Бранденбурга считались крепостными под сеньори-
альной юрисдикцией, если они не могли доказать свой свободный статус91.
С другой стороны, отсутствие крепостного права также не являлось гарантией
поступательного развития страны: Испанию не спасла от отсталости и отмена
крепостных повинностей крестьян по Гваделупской сентенции 1486 г.92 Влия-
ние крепостного права на развитие России во второй половине XVII в. оказа-
лось неоднозначным. Принимая во внимание низкий уровень развития произ-
водительных сил и высокую степень разорения страны после Смуты, следует
признать обоснованной концепцию Милова, связавшего нарастающее закрепо-
щение с низким объёмом производимого в России совокупного общественного
продукта93.
Эскалация закрепостительных мероприятий во второй половине XVII в.
совпала с совершенствованием системы изъятия налогов. Невзирая на постоян-
ные недоимки, фискальный аппарат, рекрутируемый из выборных лиц общин-
ного самоуправления, удовлетворял потребности государства в нараставшей
количественно и совершенствуемой качественно армии. Позволив мобилизо-
вать материальные ресурсы народа для решения внешнеполитических задач,
крепостничество надолго стало основным способом удовлетворения возрастав-
ших потребностей господствующего класса. Если на рубеже XVII-XVIII вв.
система крепостного права дала возможность кратковременного преодоления
отсталости, то в дальнейшем она стала продуцировать замедление развития
и в социальной, и в хозяйственной сферах.
Предварительные результаты изучения Соборного уложения в контексте
развития государства и общества России раннего Нового времени показывают,
что нормы Соборного уложения действительно носили переходный характер,
зафиксировав права и обязанности статусных групп сословного общества, со-
хранивших элементы земского представительства под властью самодержавного
монарха. В условиях обострения социально-правовых конфликтов утвержде-
ние социального мира оказалось возможно путём их судебного разрешения
в рамках институтов административно-судебной монархии94. Поэтому новый
свод законов включал в себя, например, отсылки к практикам подачи корпора-
циями служилых людей коллективных челобитных. Но эти практики уходили
90
Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса.
М., 1998. С. 562-563.
91
Андерсон П. Родословная абсолютистского государства. М., 2010. С. 225.
92
Там же. С. 63.
93
Милов Л.В. Природно-климатический фактор и особенности российского исторического
процесса // Милов Л.В. По следам ушедших эпох: статьи и заметки. М., 2006. С. 662-664.
94
О различиях между двумя типами абсолютной монархии во Франции см.: Малов В.Н.
Ж.-Б. Кольбер… С. 10-17.
45
в прошлое, ибо привилегированный статус дворянского сословия был связан
не с ними, а, как показал Б.Н. Флоря, с характером «службы» сына боярского
и её ценностью для государства95.
Следует ли из этих данных, что нормы Уложения предопределили развитие
государства и права России? Исследование показало, что континуитет в бóль-
шей мере прослеживается между правом 1620-1640-х гг. и Соборным уложени-
ем, унаследовавшим от предшествующего законодательства комплекс правовых
норм, подвергшихся переработке и обобщению в новом своде законов. Право-
вые нормы Уложения и «Новоуказных статей», включая понятие преступления
против государства, запрета на приём беглых, переустройства посадов, приня-
тые во второй половине XVII в., формировались путём переработки предше-
ствующего законодательства.
Напротив, дискретный характер носила эволюция системы государствен-
ного строительства и правового оформления социально-классовой структуры
общества второй половины XVII в. Многие существенно важные сегменты пра-
ва в Уложении декларативны и лишены юридико-технического инструмента-
рия: провозглашённый бессрочный сыск беглых крестьян не мог быть эффек-
тивно реализован без налаженной системы государственного сыска, которая
возникла лишь в 1660-х гг. Подавляющее большинство статей Уложения были
существенно изменены в законодательстве второй половины XVII в.; эти изме-
нения затронули нормы, описывающие сословно-классовую структуру обще-
ства, в том числе формы реализации прав властвующей элиты на крепостных
крестьян, права и статус посадских людей и групп тяглого населения, полу-
чивших в петровском законодательстве название «государственных крестьян».
Переход к абсолютизму в 1660-1710-х гг. происходил путём дальнейшего де-
монтажа традиционных институтов и надстройки над ними новых социально--
политических структур.
95
Флоря Б.Н. Оценки возмещения за оскорбление дворянской «чести» и «чести» представи-
телей других сословий в памятниках русского законодательства XVI-XVII вв. // Древняя Русь.
Вопросы медиевистики. 2017. № 4(70). С. 5-16.
46