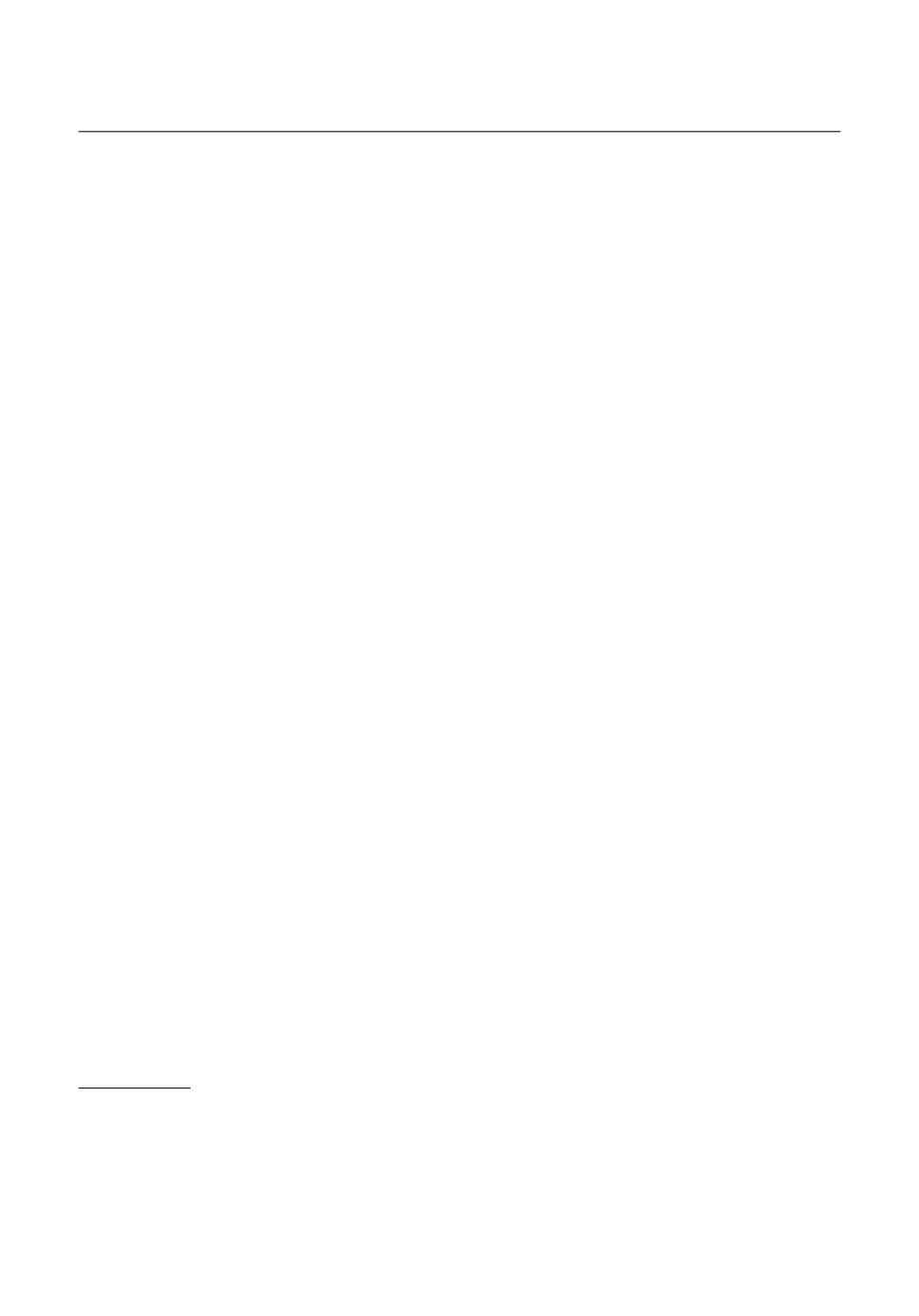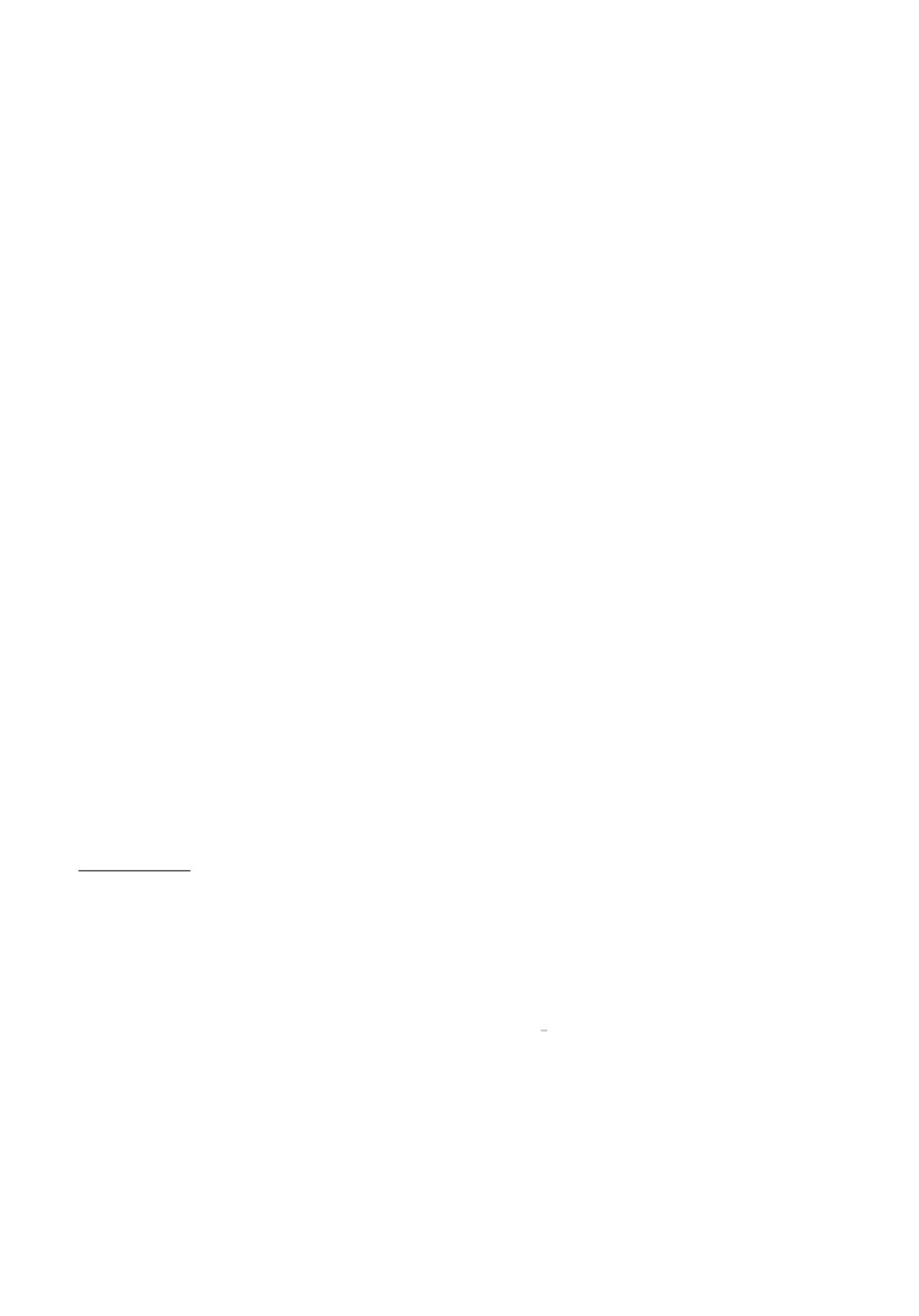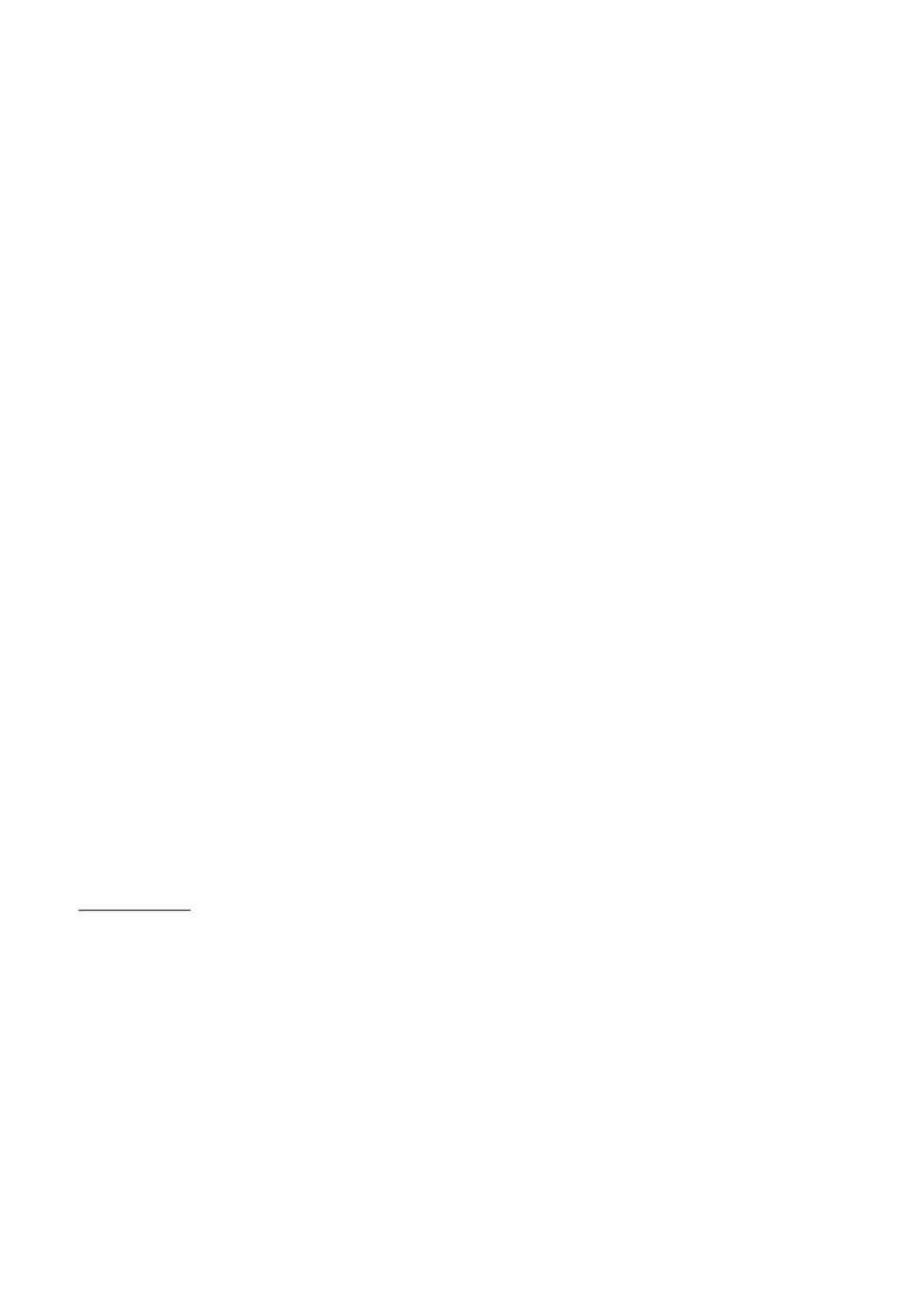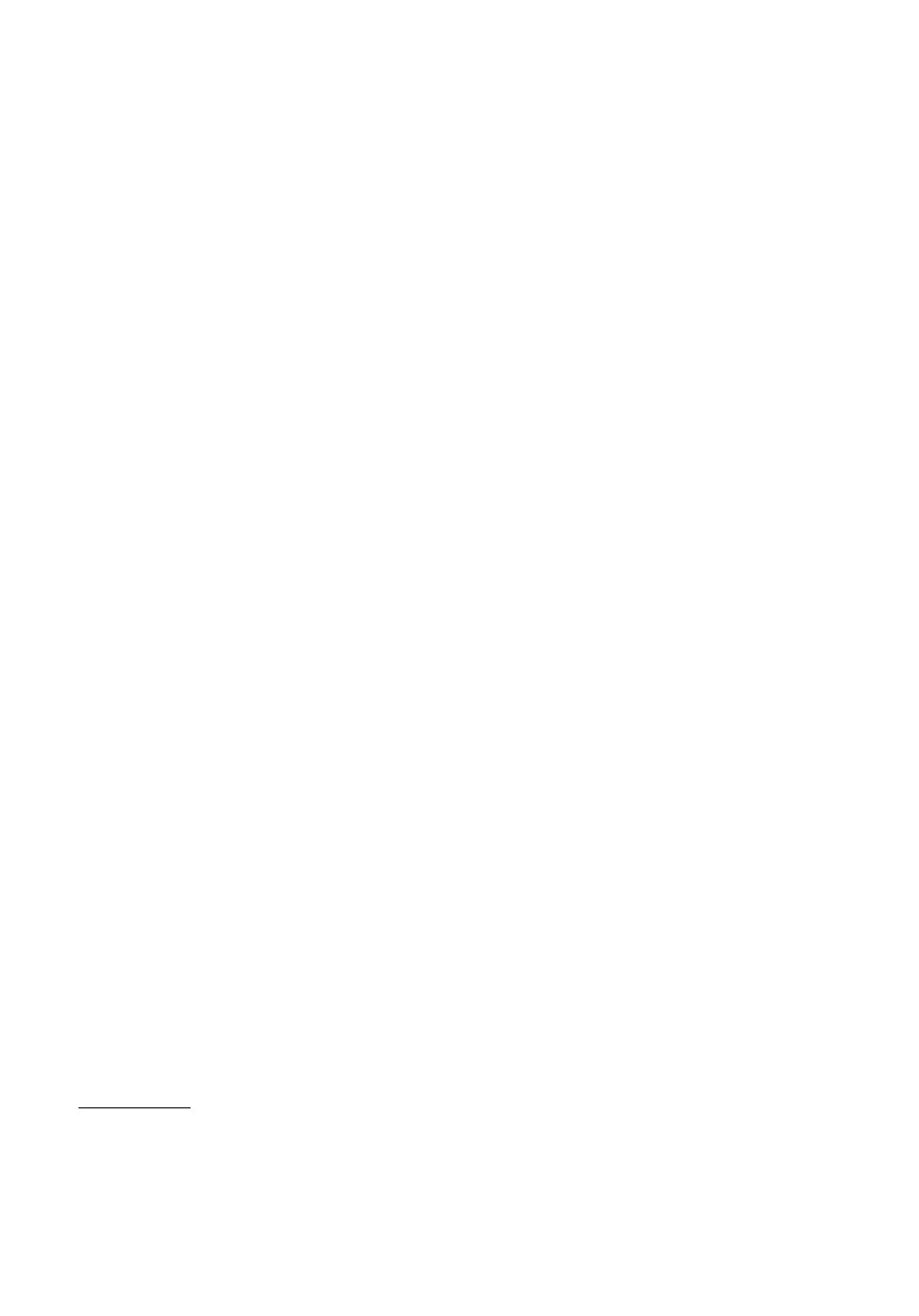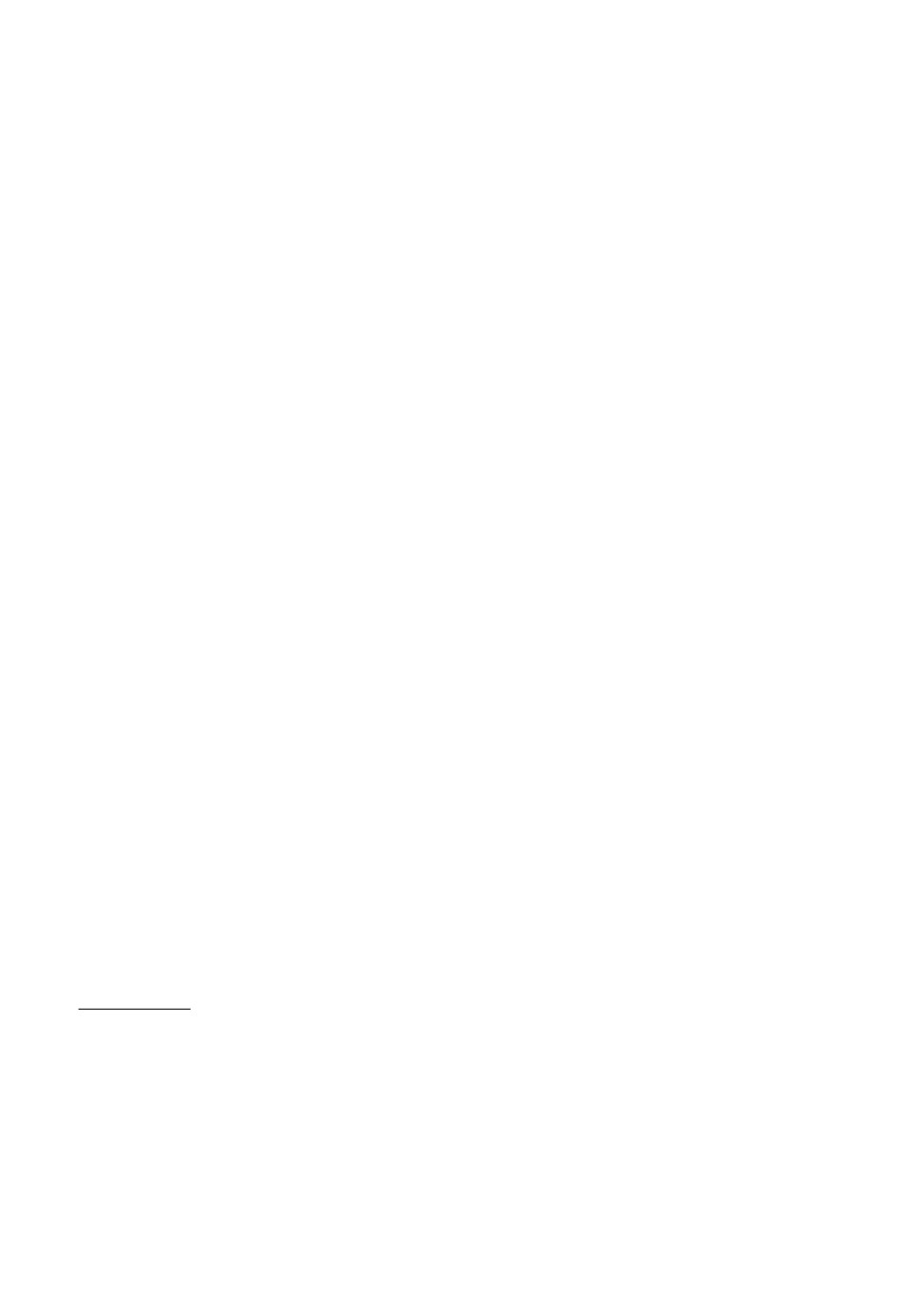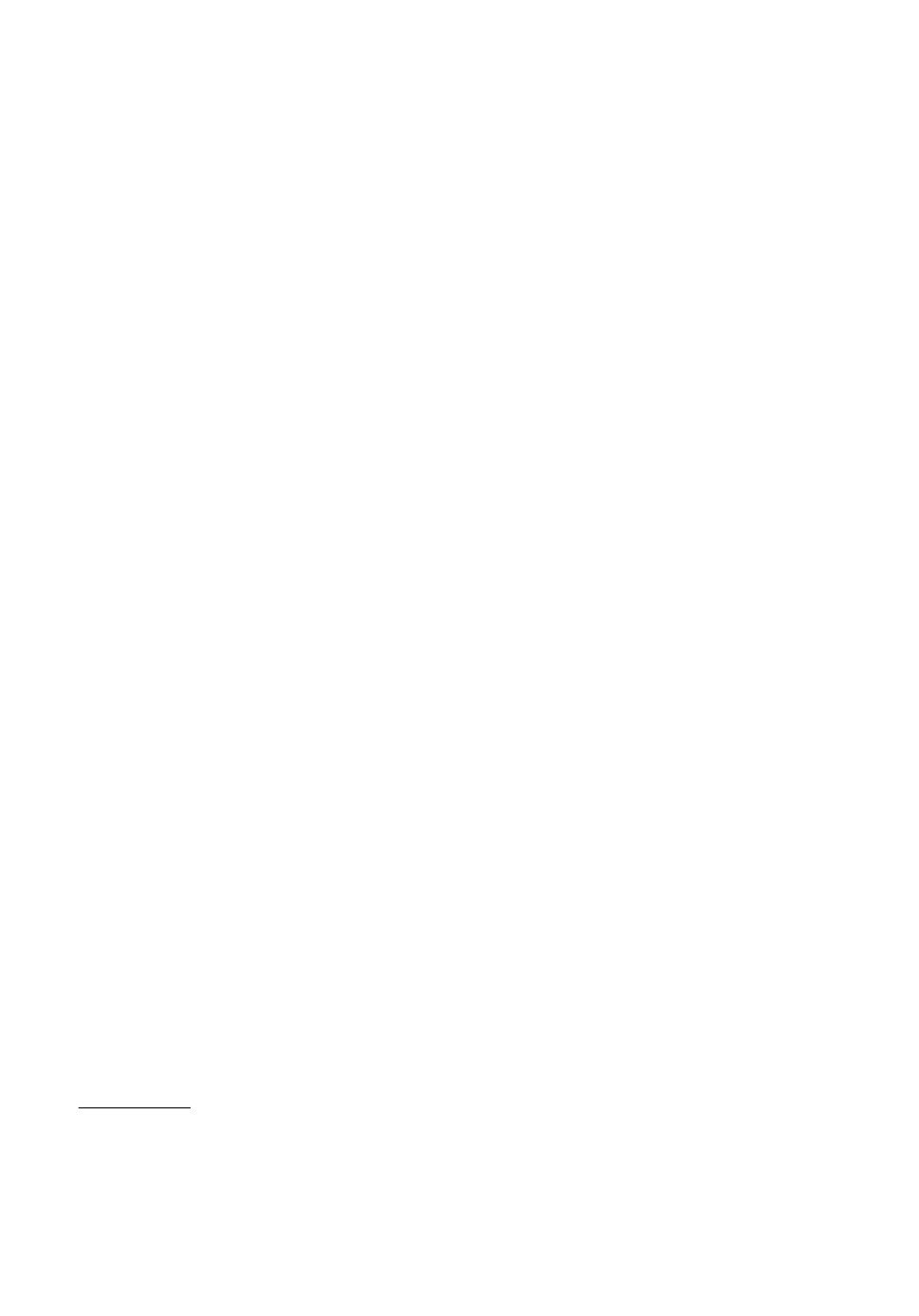Сюжеты и эпизоды
Долги промышленных рабочих России
в конце XIX - начале ХХ в.
Вячеслав Волков
Debts of industrial workers in Russia at the late 19th - early 20th century
Vyacheslav Volkov
(Military Institute (railway troops and military communications)
of the Military Academy of Logistics named after A.V. Khrulev,
Saint Petersburg, Russia)
DOI: 10.31857/S2949124X23010091, EDN: POPCTW
Долги играли существенную роль в жизни промышленных рабочих России
конца XIX - начала ХХ в. Они имели разнообразные формы, которые мож-
но свести в три большие группы: долговые обязательства кабального найма,
долги перед государственными или сословно-корпоративными институтами
и гражданско-правовые долговые отношения с частными лицами. Предметом
исследования данной статьи являются первые две формы, что обусловлено их
ключевой ролью в развитии трудовых отношений в русской промышленности.
Сущность и содержание кабалы на промышленных предприятиях России
ранее были мною подробно рассмотрены1. Напомню, что в конце XIX в. ка-
бальными рабочими назывались «те труженики, которые получают неимоверно
низкую заработную плату, благодаря тому, что нанялись в то время, когда до
зарезу нуждались в деньгах или благодаря тому, что задолжали нанимателям»2.
Следовательно кабальный наём представлял собой кредитную операцию, долг
по которой отдавался трудом должника с большими процентами. Он являлся
своего рода прикреплением работника к определённым видам трудовой дея-
тельности, так как уходу от «нанимателя» изначально препятствовала ростов-
щическая ссуда. Однако кабальный наём не был только пережитком крепост-
ного права послепетровской эпохи, развиваясь и как вполне самостоятельный
феномен на основе смещения ростовщической сделки из сферы продажи лич-
ности наймита для осуществления трудовых операций в сферу продажи им уже
своей рабочей силы, но с неминуемым ограничением его прав как личности.
В наёмную кабалу попадали за прошлые долги, в виде кредитного найма
или прямо через ростовщическую кредитную операцию. В первом случае, когда
крестьянин голодал или на нём копились недоимки, кулак или помещик ссу-
жали его деньгами для уплаты податей и заставляли отдать долг или товарами,
или работой в артели, создаваемой кулаками-подрядчиками3. Вторая форма
© 2023 г. В.В. Волков
1
Волков В.В. «Дёшево и сердито». Рынок труда в Европейской России в конце XIX - начале
ХХ в. Ч. I. СПб., 2016. С. 526-573.
2
Макаренко А. Отхожие и кабальные рабочие // Юридический вестник. Т. 26. 1887. Кн. 4. С. 736.
3
Там же. С. 738; В.В. Артели для подрядных и наёмных работ // Новое слово. 1896. № 11.
Август. С. 36; Трирогов В. Община и подать. СПб., 1882. С. 192; Флеровский Н. (Берви В.В.) Поло-
жение рабочего класса в России. М., 1938. С. 116, 136, 142, 144, 221, 229.
134
зависимости рабочих была связана с таким повсеместным явлением в россий-
ской промышленности как устройство на работу в долг4. К этому нужно отнести
продовольственное и иное бытовое кредитование уже ранее нанятых рабочих,
так как данная задолженность привязывала их к предприятию. В третьей ситуа-
ции обеднение приводило к тому, что крестьянин не мог сам убыть в отхожие
промыслы и был вынужден прибегать к услугам посредников5.
В советской и постсоветской историографии освещались лишь отдель-
ные стороны проблемы долгов промышленных рабочих дореволюционной
России. Так, Э.Э. Крузе, Ю.И. Кирьянов, Л.В. Куприянова, И.Г. Напалкова
и Т.В. Доронина в своих исследованиях фиксировали повсеместную продо-
вольственную и иную задолженность рабочих как фабрикантам, так и отдель-
ным лавочникам6. При этом Доронина охарактеризовала данные отношения
как кабальные7.
Масштабы кабальной задолженности рабочих России до сих пор не вы-
яснены. Этому мешают, как минимум, два объективных обстоятельства. Во--
первых, источники по данной проблеме (ресконтро рабочих8, книги записи
их долгов, ведомости состояния счетов и др.) имеются лишь по некоторым
фабрикам и заводам. Во-вторых, они зачастую не дают ясного представления
о характере задолженности. В результате вопрос о количественном аспекте свя-
зи долга и наёмных отношений работника и фабриканта остаётся открытым.
Реконструкция реального положения дел возможна только по данным от-
дельных предприятий. Например, по состоянию на 1 января 1915 г. на Покров-
ском стекольном заводе 203 выбывших в 1914 г. рабочих имели задолженность
перед предприятием в размере 1 178 руб. 67 коп., а 813 «действующих» рабо-
чих - 104 руб. 29 коп. Таким образом, в среднем на каждого уволившегося за-
должавшего рабочего приходилось 5,66 руб. долга, на каждого «действующего»
должника - 13 коп., а в целом на каждого должника приходилось 1,25 руб. Эти
данные показывают, что при общем небольшом уровне задолженности рабочих
заводу 20-25% из них имели серьёзные долговые проблемы9.
Согласно ресконтро 106 рабочих завода точного машиностроения И.А. Се-
мёнова 18 из них в 1905 г. имели задолженность предприятию за 1904 г. в раз-
мере 698 руб., при этом 53 были должны 1 371,86 руб. уже за 1905 г. 14 рабочих
имели долги за два года, поэтому в целом на всех должников в среднем прихо-
4
Сборник статистических сведений по Екатеринославской губернии. Т. II. Екатеринослав,
1886. С. 240; Микулин А.А. Фабричная инспекция в России. 1882-1906. Киев, 1906. С. 81.
5
Доклад крестьянина Г.П. Караулова об отхожем промысле // Труды местных комитетов
о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Т. XIХ. СПб., 1903. С. 864.
6
Крузе Э.Э. Условия труда и быта рабочего класса России в 1900-1914 гг. Л., 1981. С. 131-
138; Кирьянов Ю.И. Жизненный уровень рабочих России (конец XIX - начало ХХ в.). М., 1979.
С. 153; Куприянова Л.В. «Рабочий вопрос» в России во второй половине XIX - начале ХХ вв.
чего класса Западной Сибири в конце XIX - начале XX вв. Дис. … канд. ист. наук. Омск, 2006.
С. 109-111; Напалкова И.Г. Рабочий вопрос в России в XIX - начале XX века: традиции социаль-
ного патернализма. Дис. … канд. ист. наук. Саранск, 2005. С. 122-123.
7
Доронина Т.В. Повседневность рабочего класса Западной Сибири… С. 195.
8
Ресконтро - бухгалтерская книга лицевых счетов, для открытия отдельных счетов каждому
должнику и заимодавцу. В ней путём списывания и приписывания сосредоточены в виде оконча-
тельных остатков (сальдо) суммы, расположенные на двух противоположных страницах (дебето-
вой и кредитовой) (Ресконтро // Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон.
Т. ХХVIа. СПб., 1899. С. 608).
9
ЦГИА СПб, ф. 1449, оп. 2, д. 11, л. 1-33.
135
дилось 35,68 руб., а на всех рабочих, представленных в ресконтро, - 19,52 руб.
Это свидетельствует о настоящей долговой зависимости от предприятия более
половины рабочих (58 человек). В некоторых случаях размеры задолженности
были колоссальными. Так, слесарь А. Энсар задолжал заводу за 1904 г. 271 руб.
и 5 руб. за 1905 г., слесарь М. Дмитриев - 112 руб., строгальщик Г. Калмы-
ков - 66,76 руб., токарь Г. Зубов - 58 руб., токарь А. Андерсон - 55 руб.
До 20 руб. имели задолженность 26 человек (44,83%), с 20 до 40 руб. - 11, с 40
до 60 руб. - 12, с 60 и выше - 910. За 1906 г. долг составил уже 1 423,68 руб.
До 20 руб. имели задолженность 17 человек (47,22%), с 20 до 40 руб. - 6, с 40
до 60 руб. - 4, с 60 и выше - 9. При сокращении количества должников (с 53
до 36) возросло число хронических (с 14 до 20). Средний долг в 1906 г. возрос
до 39,54 руб. (25,88 руб. в 1905 г.)11. В целом за 2 года число задолжавших ра-
бочих выросло в 2 раза.
В 1902 г. 42 рабочих Петербургского проволочно-гвоздильного завода за-
должали предприятию 882,15 руб. В 1911 г. долг достиг уже 1 700,33 руб. на
70 должников12. При этом доля мелких должников (до 20 руб.) уменьшилась
с 69,05% (29 от 42) до 65,71% (45 от 70).
Несколько иная ситуация сложилась на Путиловской верфи, где в 1913 г. за
многими из рабочих остался долг Путиловскому заводу в размере 1 240,64 руб.
Всего перешедших должников было 128, на каждого приходилось в среднем
9,69 руб. Здесь наблюдалось преобладание мелких должников (до 20 руб.) -
116 человек (90,62%,). Однако были и те, кто задолжал много: к примеру,
у И. Метлина - 154,65 руб., у В. Емельянова - 81,57 руб.13 К 1 мая 1913 г. за-
долженность рабочих этому предприятию составляла 500,66 руб.14
За 1911 г. рабочие Невской писчебумажной фабрики получили в долг от
предприятия 3 734 руб., и с их зарплаты в счёт погашения долга было удер-
жано 3 022,7 руб.15 Разницу в 711,3 руб. следовало взыскивать с рабочих уже
в следующем году, по аналогии с удержанием 276 руб. в январе 1911 г. остатка
долга за 1910 г. Это говорит о том, что отношения найма на данном предприя-
тии функционировали только благодаря специфическим займам, которые пре-
доставлялись рабочим и погашались ими ежемесячно. О распространённости
этой практики свидетельствует, например, ведомость об удержании с мастеро-
вых и рабочих депо станций Дно и Псков-II долга по продовольственной части
за 1915 г.16 и вычеты долга с рабочих Петроградского проволочно-гвоздильного
завода за 1914 г.17
В ряде документов зафиксированы ежемесячные вычеты и остатки по
долгам. Например, с рабочего депо станций Дно и Псков-II В. Кочеткова
в 1915 г. было удержано только за продовольственные долги: за январь -
6,27 руб., февраль - 20,61, март - 30,36, апрель - 13,07, май - 26,60, июль -
30,07, август - 22,15, сентябрь - 32,87, октябрь - 27,95, ноябрь - 37,17 руб.18
10
Там же, д. 221, л. 1-348.
11
Там же, д. 237, л. 1-346.
12
Там же, ф. 1299, оп. 4, д. 6а, л. 1-2; д. 17а, л. 2-2 об.
13
Там же, ф. 1270, оп. 8, д. 144, л. 1-3.
14
Там же, л. 5-5 об.
15
Там же, ф. 1189, оп. 1, д. 451, л. 43 об.-45.
16
Там же, ф. 1361, оп. 1, д. 1262, л. 1 об.-5.
17
Там же, ф. 1299, оп. 4, д. 25а, л. 1.
18
Там же, ф. 1361, оп. 1, д. 1262, л. 1 об.
136
Итого 247,12 руб., что было близко к среднегодовому заработку рабочих на
фабриках и заводах, где применялись штрафы (251 руб. в 1911 г.)19. Одна-
ко уровень продовольственных долгов на этом предприятии в 1915 г. был
дифференцированным. Так, с рабочего М. Гаврилова за год удержали
49,9 руб., с К. Меньшикова - 85,6, М. Богданова - 97,97, С. Филиппова -
107,83, В. Абаринкова - 119,36, М. Чеброва - 133,48, И. Ильина - 150,74,
Н. Ларионова - 229,9520.
Помесячный приход и расход долгов подтверждает наблюдение старше-
го фабричного инспектора А.А. Микулина: «Наш фабричный рабочий живёт
в большинстве случаев не на имеющиеся у него средства, а на те, которые
будут им лишь в будущем заработаны. Приходя наниматься на фабрику, рабо-
чий очень часто доходит до места почти без копейки и, для того чтобы иметь
возможность работать, должен немедля получить от хозяина в кредит под бу-
дущую заработку харчей или денег. Проработавши известное время до первого
получения денег, он получает уже не всю заработанную сумму, а часть её,
иногда бóльшую половины, он оставляет за забранные вперёд харчи и полу-
чает на руки половину или немного более всего заработка; эти деньги тотчас
у него уходят или на отсылку в деревню, или на удовлетворение других своих
нужд, и он опять идёт с просьбою выдать ему вперёд харчи под заработку»21.
По каким же статьям расходов могли кредитоваться рабочие? В первую оче-
редь - в счёт продовольствия, взятого в лавке фабриканта, затем - за взносы
предпринимателя на страхование рабочих, штрафы, плату за проживание, за
баню и прочие бытовые удобства22.
Выдача таких кредитных авансов только что нанятому рабочему была ши-
роко распространена не только в фабрично-заводской промышленности, но
и в горном деле23. Потеряв заработок в глухих малонаселённых шахтёрских
местностях, он часто не мог уехать на поиски работы и вновь попадал в дол-
говую кабалу к хозяину предприятия, из которой «не известно, когда в со-
стоянии будет выпутаться»24. На предприятиях всегда существовал большой
контингент рабочих, имевших после сезона долги в виде штрафов, продо-
вольствования в долг по завышенным ценам в хозяйских лавках, получения
ссуд и др. «Есть такие рабочие, - писал Н.М. Черёмухин, - которые приез-
жают впервые в надежде на хороший заработок, но вскоре, после ряда все-
возможных мытарств, в этом разочаровываются и мечтают поскорее уехать на
родину, но отсутствие средств и накопившиеся долги надолго приковывают
такого рабочего к месту»25.
Именно поэтому фабриканты и заводчики направляли своих агентов в одни
и те же районы для вербовки рабочих - здесь всегда было достаточное ко-
личество должников26. Плотники, каменщики, столяры, маляры, паркетчики,
кровельщики, водопроводчики брали у подрядчика в счёт будущего заработка
19
Свод отчётов фабричных инспекторов за 1912 год. СПб., 1913. С. XLIX.
20
ЦГИА СПб, ф. 1361, оп. 1, д. 1262, л. 1 об.
21
Микулин А.А. Фабричная инспекция в России. 1882-1906. Киев, 1906. С. 81.
22
ЦГИА СПб, ф. 1149, оп. 2, д. 9, л. 1-72.
23
Быков А.Н. Фабричное законодательство и развитие его в России. СПб., 1909. С. 194.
24
Сборник статистических сведений по Екатеринославской губернии. Т. II. С. 240.
25
Черёмухин Н.М. Как живут и как питаются рабочие Рыковских копей в пос. Юзовка //
Врачебно-санитарная хроника Екатеринославской губернии. 1910. № 1. С. 5.
26
Сулима К.П. Свеклосахарное производство в санитарном отношении. СПб., 1892. С. 87.
137
деньги на дорогу и на разные неотложные расходы для деревенского хозяйства.
Тем самым они «закабаливали себя» и должны были работать по той цене, ка-
кую назначал подрядчик27.
Суть рассматриваемого феномена была верно подмечена в 1886 г. земски-
ми исследователями Екатеринославской губ.: «Собственно говоря, вся система
отношений капиталистов здешнего каменноугольного производства к рабочим
построена на том, чтобы как-либо удержать их в пределах этого каторжно-
го труда»28. Через 25 лет этот вывод был официально подтверждён для всей
промышленности России. В Своде отчётов фабричных инспекторов за 1911 г.
отмечалось, что «невыдача и задержание заработка объясняются, кроме недо-
статка у заводоуправлений наличных денег, иногда также и стремлением заве-
дующих промышленными заведениями, преимущественно мелкими, удержать
таким путём рабочих от ухода с работы, а в случае свершившегося уже ухода -
возместить свои убытки»29.
Нужда и несвоевременная выдача заработной платы заставляли рабочих
прибегать к невыгодному кредиту у предпринимателя30. Их снабжение на боль-
шинстве фабрик и заводов до 1890-х гг. происходило только через продоволь-
ственные лавки, принадлежавшие хозяевам или зависимым от них лавочникам.
«Рабочие имеют возможность получать продукты в кредит, в счёт будущего
и имеющегося заработка», - отмечалось в исследовании Екатеринославского
губернского земства31. При этом, согласно отчёту фабричного инспектора Вла-
димирской губ. П.А. Пескова, «только на очень немногих фабриках и заводах
все покупки производятся на наличные деньги»32. Чаще всего для получения
товаров использовались книжки или другие бумажные знаки33. Цены в фабрич-
ных лавках одной и той же местности сильно варьировались и в целом отлича-
лись от рыночных на 20-80%34, в лавках шахтовладельцев и горных подрядчи-
ков - в 1,5-2 раза35. В 1880-х гг. хозяева наживали от лавочной торговли от 8 до
10 тыс. руб. чистого барыша. Причём иногда они сдавали свои лавки в аренду
с условием выплаты им определённой суммы36. Даже после издания закона от
3 июня 1886 г., затруднившего деятельность продовольственных лавок, встре-
чалась старая практика продовольственного обеспечения рабочих. Особенно
это было характерно для предприятий, расположенных в сельской местности
Центрального промышленного района37. Фабричный инспектор 3-го участка
Костромской губ. писал в отчёте за 1901 г.: «Наиболее обращавшими внимание
27
Казаринов Л. Отхожие промыслы Чухломского уезда // Труды Чухломского отдела Костром-
ского научного общества по изучению местного края. Вып. II. Чухлома, 1926. С. 10.
28
Сборник статистических сведений по Екатеринославской губернии. Т. III. Екатеринослав,
1886. С. 376-377.
29
Свод отчётов фабричных инспекторов за 1911 год. СПб., 1912. C. LXIII.
30
Кирьянов Ю.И. Указ. соч. С. 140-141.
31
Сборник статистических сведений по Екатеринославской губернии. Т. III. С. 375-376.
32
Фабричный быт Владимирской губернии. Отчет за 1882-1883 гг. фабричного инспектора
над занятиями малолетних рабочих Владимирского округа П.А. Пескова. СПб., 1884. С. 103.
33
Там же. С. 102.
34
Пажитнов К.А. Положение рабочего класса в России. Т. II. Л., 1924. С. 264-265.
35
История рабочих Донбасса. Т. 1. Киев, 1981. С. 44.
36
Эрисман Ф.Ф. Пища рабочих на фабриках Московского уезда // Шестой губернский съезд
врачей Московского земства [Протоколы заседаний и труды]. Февраль-март 1882 г. М., 1882.
С. 176-177.
37
Крузе Э.Э. Положение рабочего класса в России в 1900-1914 гг. Л., 1976. С. 186.
138
жалобами рабочих на заведующих должны быть отмечены жалобы на принуж-
дение брать вместо денег товар, харчи». В Костромской губ. в 1900 г. 10% зар-
платы фабричным рабочим выдали продуктами38.
То же явление присутствовало и в горной промышленности: «Приходится
пожалеть, что, отпуская в кредит продукты, кладовая рудника продаёт их по
более возвышенным ценам, сравнительно с ценами тех же продуктов на мест-
ных рынках, берёт довольно высокий % за капитал в товарах, идущий в кредит,
и не поступается своими утилитарными стремлениями в пользу рабочих, хотя
бы в виду того, что контора рудника сама кредитуется на значительную сумму
у них без всякого %»39. На Донбассе в 1902-1913 гг. имели место многочис-
ленные факты невыплаты зарплаты шахтёрам и их принудительного продо-
вольственного кредитования в лавках хозяев или подрядчиков40. И.Х. Озеров
в 1910 г. зафиксировал, что на Урале «некоторые заводы не платят подолгу
или платят так называемыми талонами. При расплате за товары в лавках эти-
ми талонами рабочие теряют или теряли 20-50%, притом нередко бывает так,
что спрашивают они, например, сахару в лавке, а им предлагают залежавше-
еся мыло и бруснику. Делать нечего, приходится брать, так как талоны берут
только в некоторых лавках. Затем это мыло или бруснику надо идти продавать
в другую лавку, и только тогда, в результате этой сложной операции, мастеро-
вой получает нужный ему сахар»41.
В России по ст. 99 Устава о промышленности фабричной и заводской, вне-
сённой законом от 3 июня 1886 г., расплата с рабочими вместо денег купонами,
условными знаками, хлебом, товарами и иными предметами была запрещена
и каралась по ст. 155 этого же устава штрафом в размере от 50 до 300 руб. Од-
нако законодательство не запрещало устройство фабричных лавок, в которых
хозяин мог устанавливать совершенно произвольные цены42.
Совещание Главного по фабричным и горнозаводским делам присутствия,
рассмотрев 3 октября 1898 г. представление старшего фабричного инспекто-
ра Гродненской губ. от 3 апреля 1897 г. «О выдаче рабочим определённого,
установленного заранее количества необходимых предметов продовольствия»43,
приняло решение издать общий циркуляр фабричной инспекции на основе
редакции заключения фабричного ревизора Ф.В. Фомина44. В нём отмечалось,
что в п. 2 ст. 106 (а также в ст. 140 и п. 4 ст. 142) Устава о промышленности
имеется прямое указание на то, что при найме рабочих на фабрики и заводы
в договоре могут быть определены условия расплаты за работу продовольстви-
38
Егоров Е.А. Заработная плата рабочих Северо-Восточных губерний Центрально-промыш-
ленного района России (1900 - февраль 1917 г.) // Рабочий класс Центра страны и Сибири (конец
XIX - начало XX в.). Новосибирск, 1981. С. 75-76.
39
Сборник статистических сведений по Екатеринославской губернии. Т. III. С. 376.
40
Серый Ю.И. Рабочие Юга России в период империализма (1900-1913 гг.). Ростов н/Д, 1971.
С. 202-204.
41
Озеров И.Х. Горные заводы Урала. М., 1910. С. 40.
42
По проекту правил о надзоре за заведениями фабричной промышленности, и о взаимных
отношениях фабрикантов и рабочих, и об увеличении числа чинов фабричной инспекции (ПСЗ-
III. Т. 6. СПб., 1888. № 3769; Устав о промышленности фабричной и заводской изд. 1893 г. // Свод
законов Российской империи. Т. 9. СПб., 1900. С. 757, 780-781); Цитульский В.Ф. Становление
и развитие отношений социального партнёрства в сфере труда в Российской империи. М., 2012.
С. 163.
43
РГИА, ф. 20, оп. 13а, д. 55, л. 4.
44
Там же, л. 9.
139
ем, квартирой и другим натуральным довольствием. «Действительно, - указы-
валось в циркуляре, - во всех случаях, когда рабочий по договору бесплатно
пользуется от фабриканта пищей, квартирой, баней и т.п., - эта пища, кварти-
ра, и пр[оч]. представляют собой не что иное, как заработную плату (или часть
её). Из изложенного ясно, что ст. 99 Уст[ава] вообще не запрещает расплату
с рабочими хлебом и другими предметами, если такая расплата точно обуслов-
лена договором [найма], и имеет ввиду лишь те случаи, когда это производится
названными предметами вместо денег, следующим рабочему по договору най-
ма. (Даже в последнем случае, согласно решению Угол[овного] кас[сацион-
ного] деп[артамента] Правительствующего Сената по делу Калушкина 1876 г.
№ 153, уголовное преследование фабриканта может быть учинено лишь тогда,
когда расплата разными предметами вместо денег имела принудительный для
рабочего характер)»45. Тем самым Министерство финансов разъяснило своим
циркуляром, что расплата натурой только тогда преследуется уголовным зако-
ном, когда она имеет принудительный характер.
Кроме того, в ст. 100 указывалось, что «при производстве рабочим плате-
жей не дозволяется делать вычеты на уплату их долгов. К числу таких долгов не
относятся, однако, расчёты, производимые фабричным управлением за продо-
вольствие рабочих и снабжение их необходимыми предметами потребления из
фабричных лавок». Это предоставляло хозяину право взыскания с заработной
платы стоимости забранных в лавке товаров, что вело к узаконенной возмож-
ности для работодателей продолжать прежнюю практику натуральной оплаты
работников46.
Для обеспечения формальной стороны данных отношений Гражданский
кассационный департамент Сената принял решение, что «всякого рода доку-
мент, независимо от его внешней формы (т.е. будет ли это письмо, счёт, реестр,
квитанция, удостоверение, свидетельство и т.п.), если он выражает собою при-
знание долга, составляет долговое обязательство»47. Поэтому все канцелярские
документы предприятий, в которых фиксировались задолженности рабочих,
обладали юридической силой.
Взыскание государственных податей и других сборов также могло произ-
водиться из заработной платы, что в 1895 г. было установлено законодатель-
но и закреплено в ст. 100 Устава о промышленности фабричной и заводской:
«При взысканиях податей и других сборов из заработной платы рабочих на
фабриках, заводах и мануфактурах с рабочего может быть удерживаемо при
каждой отдельной расплате не более одной трети причитающейся ему суммы,
если он холост, и не более одной четверти, если он женат или вдов, но имеет
детей»48. В отношении Департамента торговли и мануфактур от 1 августа 1895 г.
№ 17.202, направленном в Департамент окладных сборов, разъяснялось, «что
под упоминаемыми в законе 22 мая с.г. податными и другими сборами следу-
ет разуметь исключительно казённые и мирские повинности (и недоимки по
ним), за исправное поступление коих ответствует каждое сельское общество
круговою порукою, выкупные платежи и продовольственные ссуды; засим все
45
Там же, л. 7-7 об.
46
Канель В.Я. Рабочий договор. Ч. I. М., 1907. С. 46.
47
Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями рус-
48
ПСЗ-III. Т. 15. СПб., 1895. № 11702; Устав о промышленности фабричной и заводской изд.
1893 г. С. 757.
140
остальные перечисленные в п. I сего отношения платежи и взыскания не могут
быть подводимы под действие означенного высочайшего повеления»49. Уста-
навливалась ответственность за взыскание долгов и на женщин-работниц, ко-
торые не являлись домохозяевами. На одобрение департамента окладных сбо-
ров выносился также вопрос о расходах на доставку получателям взысканных
с должников сумм. Фабричным управлениям предлагалось отправлять казён-
ные повинности и сборы через «ближайшее казначейство». Все остальные уч-
реждения и лица должны были «сами озаботиться изысканием наиболее удоб-
ных для них способов получения этих удержаний»50.
Требование о взыскании податей и других сборов из заработной платы
было позже подтверждено и закреплено в статьях 50 и 52 «Положения о по-
рядке взимания окладных сборов с надельных земель сельских обществ», при-
нятом 23 июня 1899 г.51 Причём теперь взыскание долга трактовалось гораздо
суровее - не как «удержание», а как «наложение ареста на заработную плату»,
хотя женщины выводились из-под действия данных статей.
Общий порядок взыскания долгов регламентировался в первую очередь
«Сводом губернских учреждений». По ст. 682 полиции предписывалось взыски-
вать недоимки и всякие казённые и общественные сборы, начёты и платежи
«по предписаниям высших и сообщениям разных мест»52. Это согласовывалось
с требованиями ст. 708, по которой полиция начинала свои действия «по при-
казанию начальства; по требованию других, имеющих на то право, мест и лиц;
по донесениям подчинённых; по прошениям, жалобам и объявлениям частных
лиц; наконец, и по собственному своему усмотрению»53. В столице полицей-
ские установления «с равными местами и лицами» сносились сообщениями,
«с низшими - предписаниями» (ст. 945). В ст. 946 указывалось: «По всем пред-
метам, относящимся к ведению полиции, высшие и низшие правительствен-
ные и судебные места и власти, со всеми своими требованиями, обращаются
прямо в надлежащие полицейские установления столицы»54.
На деле это происходило примерно по такому сценарию. 24 января 1909 г.
ошмянский городской староста направил отношение приставу 1-го участка
Рождественской части Санкт-Петербурга: «По раскладке 1908 г. на взыска-
ние с ошмянских мещан на общественные надобности денег, утверждённой
Виленским губернским правлением, с мещан[ина] г. Ошмяны Владислава
Сильвестрова Разульского-Размысловского следует недоимки общественных
повинностей 2 руб. Вследствие чего имею честь просить о взыскании с него
означенной недоимки и деньги прислать мне, и сообщить. Жительство г. СПБ.
Cлужит в СПБ № 4 казённом винном складе». Пристав 3-го участка Нарвской
части 17 февраля 1909 г. направил это отношение в указанный склад. После
взыскания недоимки и 16 коп. за пересылку отношения заведующий складом
27 февраля доложил об этом приставу55.
49
РГИА, ф. 20, оп. 13а, д. 139, л. 2 об.
50
Там же, л. 3.
51
Положение о порядке взимания окладных сборов с надельных земель сельских обществ
(ПСЗ-III. Т. 19. Отд. 1. СПб., 1902. № 17286).
52
Свод законов Российской империи / Под ред. И.Д. Мордухай-Болтовского. Кн. 1. СПб.,
1912. С. 84.
53
Там же. С. 88.
54
Там же. С. 118-119.
55
ЦГИА СПб, ф. 1281, оп. 1, д. 248, л. 19-19 об.
141
Процедура могла проходить и по несколько иному алгоритму: недоимщик
сразу по прошению властей места его приписки вызывался в полицию и там
составлялись соответствующие документы для отправки их руководству пред-
приятия. Например, приставу 3-го участка Нарвской части Санкт-Петербурга
поступило отношение от мещанского старосты Старого Оскола от 16 февраля
1909 г. о взыскании 2,5 руб. общественных повинностей с рабочего К.А. Некра-
сова. Ввиду отсутствия у него денег для оплаты долга околоточный надзиратель
взял с него заявление: «Взыскание прошу обратить на жалованье, получаемое
мною в СПБ казённом № 4 винном складе» и доложил об этом по команде.
Далее все документы с сопроводительным письмом пристав 2-го участка Нарв-
ской части передал приставу 3-го участка, а тот их направил администрации
предприятия. Наконец, заведующий складом после отправления взысканной
с Некрасова суммы по почте письменно известил об этом Старооскольское
мещанское общество Курской губ. и попросил уведомить о получении56.
Законодательством был предусмотрен и третий путь взыскания долгов
с рабочих. Согласно статьям 50 и 53 «Положения о порядке взимания окладных
сборов с надельных земель сельских обществ», податный инспектор уведомлял
«подлежащее лицо или учреждение о невыдаче неисправному домохозяину сле-
дующих на пополнение недобора денег и о высылке их подлежащему волост-
ному старшине»57.
Через администрацию предприятий взыскивался весь спектр налоговых
долгов, тем самым привязывая жизнь рабочих к хозяйственной организации.
Так, в марте 1909 г. Санкт-Петербургская казённая палата возбудила дело о взы-
скании недоимок квартирного налога с работника казённого винного склада
№ 4 П.И. Шкулепа в размере 7,5 руб.58 В апреле уже Санкт-Петербургская
городская управа просила руководство предприятия произвести вычет из зар-
платы Шкулепа в размере 3 руб. для уплаты ежегодного сбора за содержание
собаки и пени в размере 1,5 руб.59
Следует признать, что долгое время в трактовке фабричной инспекции
взыскание государственных, мирских или частных долгов с рабочих путём
удержания из их заработка не являлось прямой обязанностью фабрикантов.
Они должны были лишь предоставить такую возможность. Об этом мы узнаём
из разбора дела о забастовке, произошедшей в сентябре-октябре 1898 г. на
кирпичном заводе Юдиной. Старший фабричный инспектор Московской губ.
И. Фёдоров доложил по команде, что «1-го сентября с.г. заведующий кир-
пичным заводом Юдиной, явившись к участковому фабричному инспекто-
ру, сообщил, что местный становой пристав предъявил к нему требование об
удержании с работающих на заводе крестьян Скопинского уезда Рязанской
губернии из их заработка причитающиеся за ними недоимки казённого сбора.
Когда заведующим, согласно сему, было сделано распоряжение по конторе, то
рабочие, узнав об этом, в числе около 100 человек бросили работу и к ней в на-
стоящее время приступить отказываются до отмены сделанного распоряжения.
Сообщая об изложенном, заведующий просил соответствующих разъяснений
и указаний»60. Фабричный инспектор, ссылаясь на ст. 100 «Устава о промыш-
56
Там же, л. 38-39.
57
ПСЗ-III. Т. 19. Отд. 1. № 17286.
58
ЦГИА СПб, ф. 1281, оп. 1, д. 248, л. 40.
59
Там же, л. 47.
60
РГИА, ф. 20, оп. 13а, д. 139, л. 13.
142
ленности» и суждения Государственного совета в «Справочной книге для чинов
фабричной инспекции, фабрикантов и заводчиков» издания 1897 г., заявил,
что «нет указаний собственно на обязательность для фабриканта производства
удержания из заработка рабочих их недоимок и прочих сборов, а имеются тако-
вые лишь относительно возможности этих удержаний и размера их»61. Он под-
черкнул, что хотя на фабрикантах лежит «нравственная обязанность помогать
в этом [удержании денег] правительству», они «могут от сего уклониться лишь
в случаях, когда к тому имеется достаточно уважительная причина»62. Приоста-
новку работы участковый инспектор признал достаточным основанием для от-
каза от удержаний. По совету инспектора заведующий сообщил обстоятельства
дела приставу и просил его по составлении протокола о данном происшествии
«принять какие-либо другие меры к взысканию недоимок»63. В итоге все дей-
ствия участкового инспектора были признаны правильными.
Однако существовала и со временем возобладала другая позиция государ-
ственных органов на роль фабрикантов в процессе взыскания долгов с рабочих.
Циркуляром от 20 октября 1901 г. министр финансов установил, что «предъ-
являемые податным инспектором владельцам промышленных предприятий
требования об удержании заработной платы работающих у них крестьян на
пополнение окладных сборов как основанные на законе, подлежат безуслов-
но обязательному исполнению со стороны фабрикантов и заводчиков, совер-
шенно независимо от их на то согласия»64. Соглашения податных инспекторов
с владельцами промышленных предприятий впредь должны были касаться «ис-
ключительно формы и способа производства этих удержаний»65. Кроме того, на
фабричных инспекторов отныне не возлагалось «рассмотрение вопроса о том,
производство каких именно удержаний для владельцев фабрик и заводов обя-
зательно при выдаче рабочим причитающегося им заработка», а потому чины
инспекции должны отзываться на просьбы по разъяснению данного вопроса
«с особою осторожностью»66.
Взыскание государственных и частных долгов с рабочих путём вычета из
их жалованья производилось не только через административно-полицейские
действия, но и в судебном порядке. После суда по получению исполнительных
листов на предприятии составлялась «ведомость на удержанные деньги по ис-
полнительным листам из жалованья рабочих за половину месяца»67.
Вопрос о задаточных долгах рабочих неоднократно поднимался органа-
ми фабричной инспекции. Так, 13 декабря 1894 г. Киевским губернским по
фабричным делам присутствием для директоров сахарных заводов, владельцев
и заведующих кирпичными заводами был издан циркуляр, согласно которому
«погашение заводоуправлением путём вычетов из заработной платы рабочих
задатков, выданных им при заключении договора найма, должно производить-
61
Кобеляцкий А.И. Справочная книга для чинов фабричной инспекции, фабрикантов и завод-
чиков. СПб., 1897. С. 80.
62
РГИА, ф. 20, оп. 13а, д. 139, л.13-13 об.
63
Там же, л. 13 об.
64
Громан В.В. Устав о промышленном труде (Св. зак. т. XI, ч. 2, изд. 1913 г., статьи 1-228
и 541-597) с правилами и распоряжениями, изданными на основании этих статей, с разъяснения-
ми к ним Правительствующего сената и административных установлений, приложениями и указа-
телями, алфавитным, предметным и сравнительным постатейным. Пг., 1915. С. 50.
65
Там же. С. 51.
66
Там же.
67
ЦГИА СПб, ф. 1281, оп. 1, д. 248, л. 42, 121.
143
ся не на основании ст. 100 Уст[ава] о пром[ышленности], а на тех основаниях,
которые изложены в особых условиях каждого отдельного найма и которые,
согласно пункту 5 ст. 137 Уст[ава] о пром[ышленности], должны быть помеще-
ны в расчётной книжке рабочего»68. Однако после рассмотрения этого вопроса
Главным по фабричным и горнозаводским делам присутствием министры фи-
нансов и земледелия и государственных имуществ 26/28 марта 1901 г. приняли
противоположное решение: «Задатки, выдаваемые рабочим управлениями про-
мышленных заведений при заключении предварительного договора о найме,
могут быть рассматриваемы или как “взятые рабочими вперед деньги”, или
же как “долги рабочих”; в виду сего, на точном основании ст. 100 Уст[ава]
[о] промышл[енности], с рабочего может быть удерживаемо на погашение сих
задатков при каждой отдельной расплате не более одной трети причитающейся
суммы, если он холост, и не более одной четверти, если он женат или вдов, но
имеет детей»69.
Эта позиция оставалась неизменной, о чём свидетельствует «Устав о про-
мышленном труде» 1913 г.70 Как и ранее, формально по ст. 56 «расплата
с рабочими вместо денег купонами, условными знаками, хлебом, товаром
и иными предметами» воспрещалась, а по ст. 57 при осуществлении рабо-
чим платежей не дозволялось «делать вычеты на уплату их долгов»71. Однако
в комментарии к этой статье уточнялось: «К числу таких долгов не относятся,
однако, расчёты, производимые управлением предприятия за выданные рабо-
чим вперёд деньги, за продовольствие рабочих и снабжение их необходимыми
предметами потребления из лавок предприятия. При расчётах за взятые ра-
бочим вперёд деньги, при взыскании податей и других сборов из заработной
платы на предприятиях, а равно в случае предъявления исполнительного ли-
ста на денежное взыскание с рабочего, с последнего может быть удерживаемо
при каждой отдельной расплате не более одной трети причитающейся ему
суммы, если он холост, и не более одной четверти, если он женат или вдов,
но имеет детей»72.
Устав оставлял много лазеек для его неисполнения. Например, в ком-
ментариях разъяснялось, что нельзя отождествлять харчи и предметы потреб-
ления и поэтому порядок снабжения рабочих харчами через поставщиков
с последующим удержанием соответственной части из заработной платы не
находился в противоречии с законом. При условии согласия заводоуправле-
ния и рабочих, соответствующей записи в расчётные книжки и в книгу сче-
тов не воспрещалось производить удержания из заработной платы рабочих
по их обязательствам, а также превышать доли причитающейся им суммы
заработка. Это, однако, не относилось к удержанию за забранный в нефаб-
ричных лавках товар и всяким вычетам в пользу владельцев промышленных
предприятий73.
Итак, долг стал постоянным спутником повседневной жизни и деятель-
ности рабочего класса России, а его размер был довольно значительным.
Основной массив кредитных обязательств приходился на долги рабочих перед
68
РГИА, ф. 20, оп. 13а, д. 121, л. 13 об.
69
Там же, л. 20.
70
Громан В.В. Указ. соч. С. 51.
71
Там же. С. 45.
72
Там же. С. 49.
73
Там же. С. 52.
144
государственными или частными предприятиями, которые носили в целом ка-
бальный характер. Задолженности возникали в первую очередь по причине
бедности рабочих и повсеместных задержек заработной платы. С противопо-
ложной стороны присутствовали два мотива кредитования нанятых работни-
ков: невозможность в ряде производств найма без задатка и желание предпри-
нимателей кабально закрепить рабочих и нажиться за их счёт. Второй статьёй
долговых обязательств рабочих стали казённые и общественные сборы, начёты,
недоимки, пени и т.п. Для их взыскания в империи был установлен чёткий
бюрократический механизм, важным звеном которого являлось тесное взаимо-
действие полиции и администрации предприятий. В результате задолженность
стала одним из ключевых экономических факторов в русской промышленности.
145