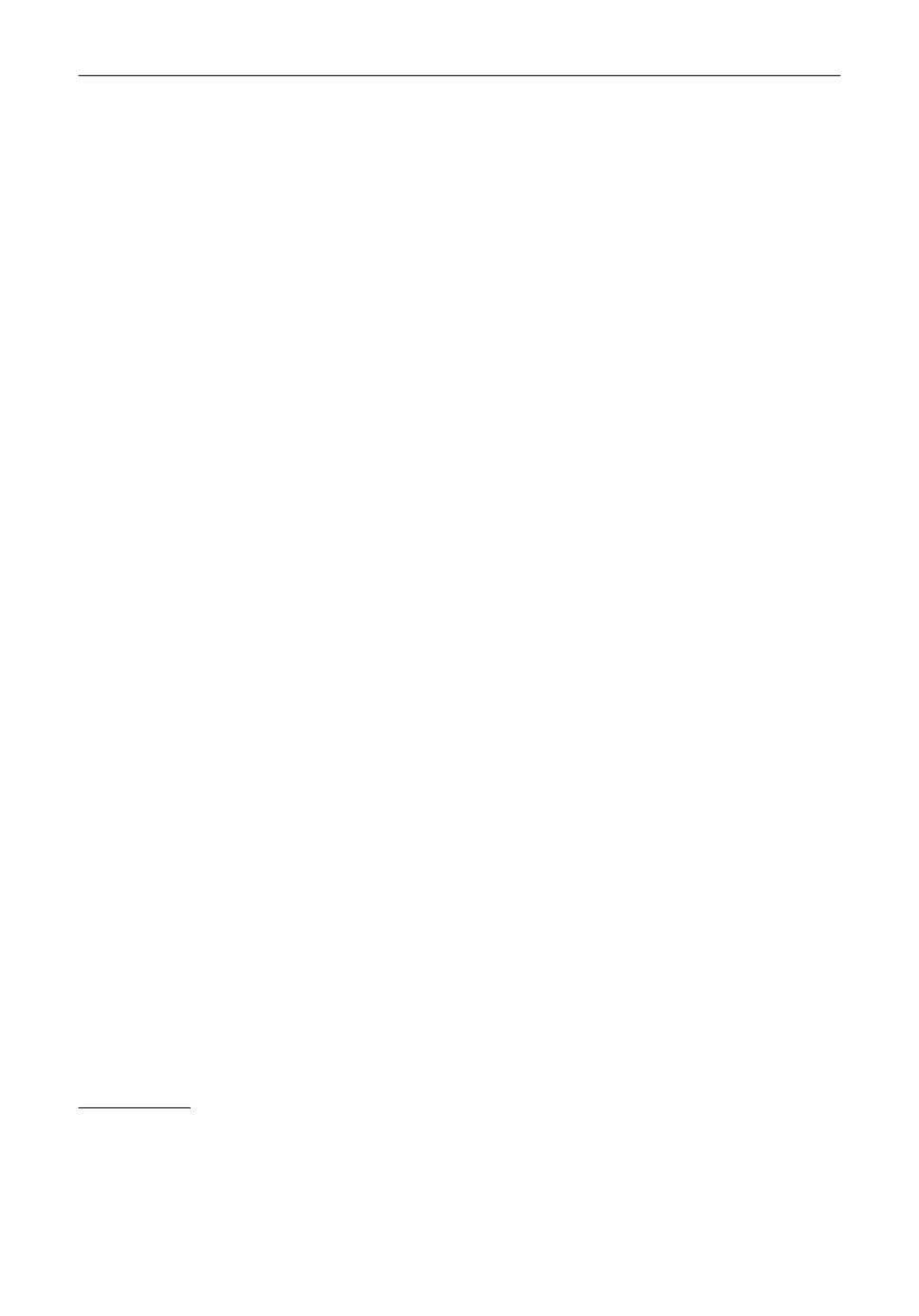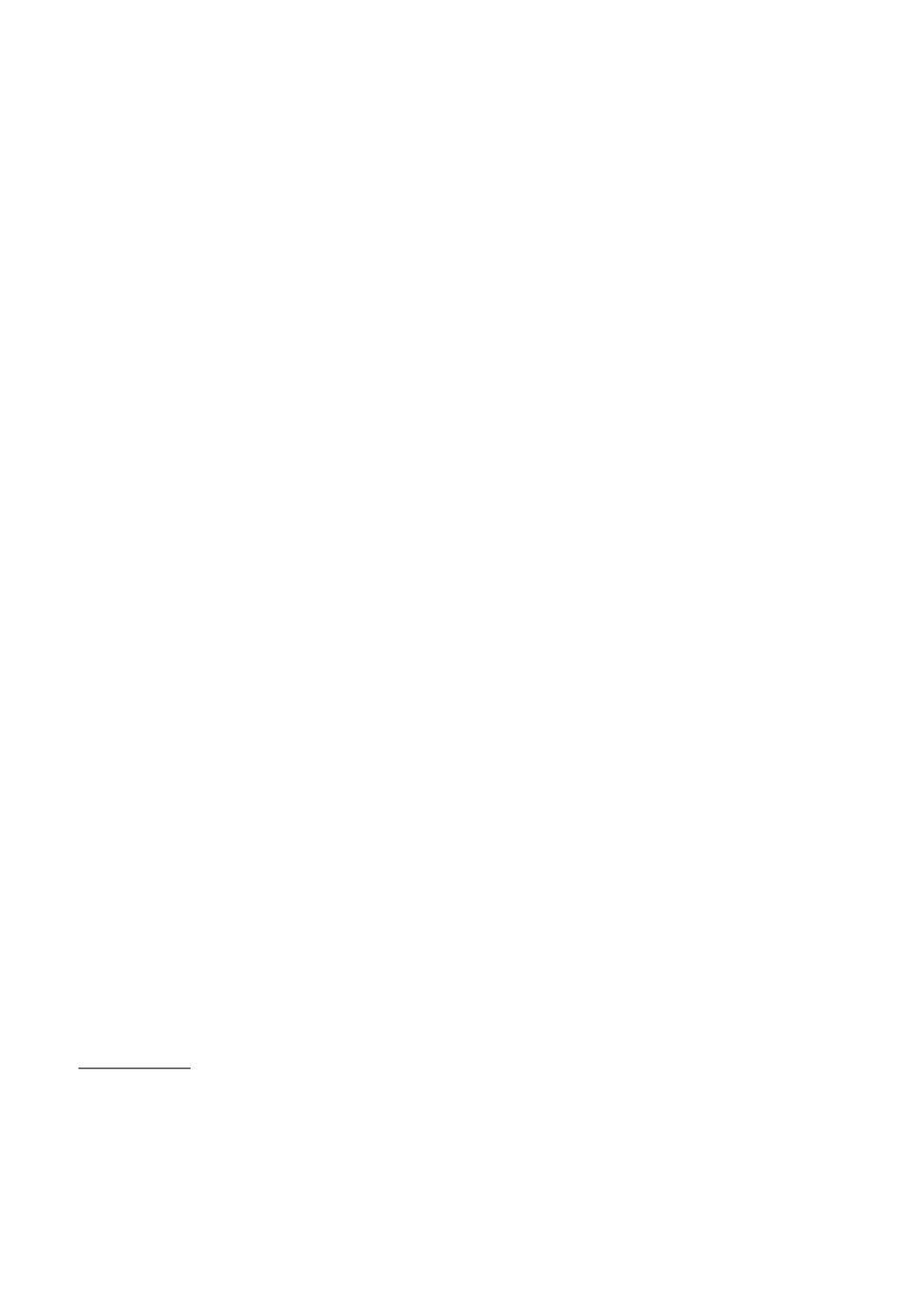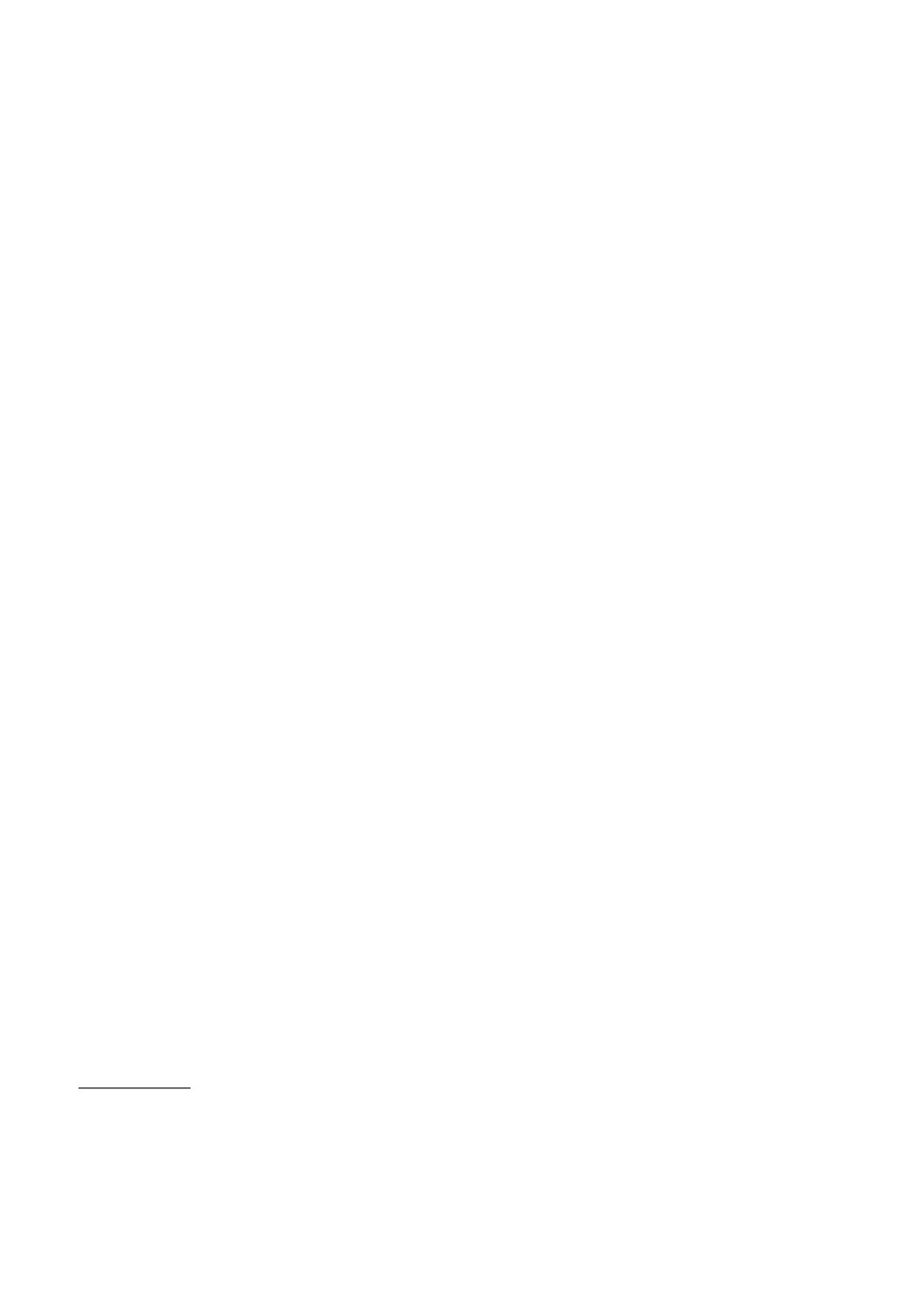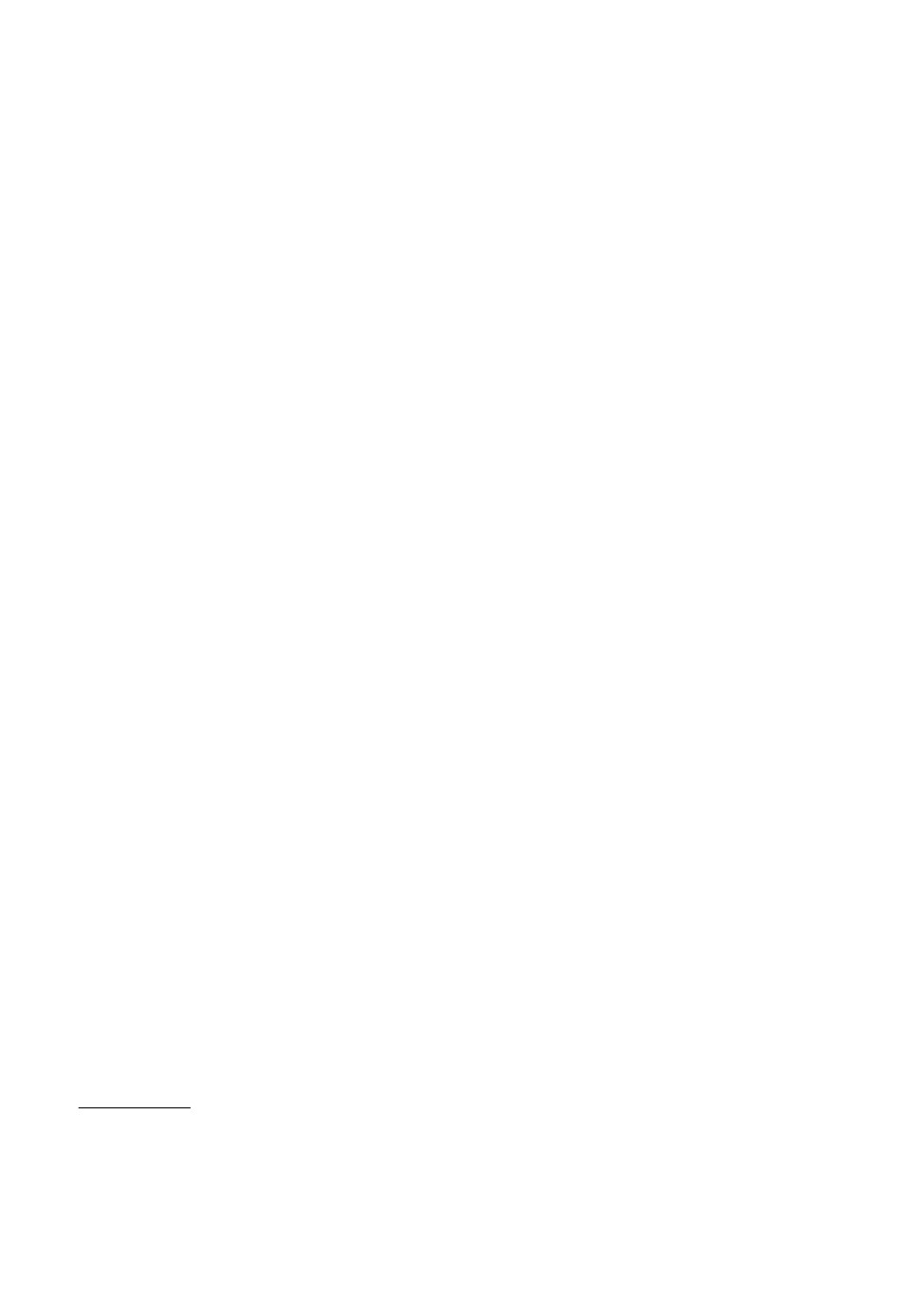Пропаганда советских космических достижений
в 1960-1970-х гг.: формы, способы, ограничения
Владимир Комиссаров
Propaganda of Soviet space achievements in the 1960s and 1970s:
forms, methods, restrictions
Vladimir Komissarov
(Ivanovo State Agricultural Аcademy, Russia)
DOI: 10.31857/S2949124X23010121, EDN: PPLFPK
Одной из важнейших задач советской научно-популярной периодики явля-
лась пропаганда достижений науки и техники. Особенное значение она приоб-
рела в 1950-1970-х гг., когда СССР мог похвастаться прорывами в таких обла-
стях, как космонавтика, авиация, ядерная физика и атомная энергетика. В своих
предыдущих публикациях я уже затрагивал проблему цензурного контроля ос-
вещавших их текстов1. Общие выводы можно сформулировать следующим об-
разом. Научно-популярный жанр в рассматриваемое время переживал расцвет,
став, наряду с научной фантастикой, авторской песней, походным туризмом
и др., одной из сфер самореализации советской интеллигенции. Цензурный
контроль над этой сферой исходил из приоритета политико-идеологических
целей и задач. При этом в процесс контроля, помимо собственно цензурных,
вовлекалось множество других структур, включая партийные органы, госбез-
опасность, разнообразные министерства и ведомства, а также ведущие ин-
ституты и предприятия данных отраслей. Однако заявленная тема настолько
широка, что её несколькими публикациями не исчерпать. В данном исследова-
нии я уделю внимание анализу организации пропаганды научно-технических
достижений в СССР и методов цензурных ограничений. Статья основана на
документах из фондов ГА РФ и РГАСПИ.
Организация научно-технической пропаганды. К 1960-м гг. в СССР сформи-
ровался круг периодических изданий, специализировавшихся на научной попу-
ляризации. Это, прежде всего, «старые» журналы - «Наука и жизнь», «Техни-
ка - молодёжи», «Знание - сила». В 1950-1960-х гг. к ним добавились «Юный
техник», «Моделист-конструктор», «Химия и жизнь». Конечно, в структуре со-
ветской печати издания этой направленности занимали далеко не первое место.
Например, в системе комсомольской периодики, выпускавшейся издательством
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», существовала градация, определявшая зар-
платы сотрудников редакций и гонорары авторов. Научно-популярные издания
относились к третьей, предпоследней категории (в то время как общественно--
политические, научно-теоретические и литературно-художественные СМИ
принадлежали к первой и второй2). Каждое ориентировалось на конкретную
© 2023 г. В.В. Комиссаров
1
Комиссаров В.В. Интеллигенция, научно-популярная публицистика и цензура в 1960-
1980-е годы // Интеллигенция и мир. 2017. № 3. С. 33-52; Комиссаров В.В. Главлит и научно--
популярная публицистика в СССР во второй половине 1960-х - начале 1970-х гг. // Российская
история. 2018. № 5. С. 116-127.
2
РГАСПИ, ф. 85, оп. 1, д. 2, л. 1.
170
возрастную группу. По данным «прессового опроса»3, проведённого во вто-
рой половине 1980-х гг., средний возраст читателей «Юного техника» составил
13,9 лет; «Техники - молодёжи» - 22,3; «Моделиста-конструктора» - 21,9 года.
При этом возрастной диапазон 11-16 лет перекрывался всеми тремя журнала-
ми4. Следует учесть, что за рамками данного исследования осталась продукция
других издательств, ориентированная на более взрослую аудиторию, в част-
ности журналы «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «Знание - сила». Однако
можно уверенно говорить о том, что научно-популярные издания и, следова-
тельно, пропаганда научных и технических достижений охватывали советских
читателей всех возрастов.
Изучение журналов 1950-1960-х гг. указывает на наличие как минимум
двух вариантов такого рода работы. Во-первых, это случаи, когда форма, объём
и сроки определялись редакцией самостоятельно. Такой вывод можно сделать
на основании несовпадения сроков публикации в разных изданиях, различного
оформления, степени внимания. Например, на появление в СССР крупнейше-
го на тот момент транспортного самолёта «Ан-22» первой отозвалась «Наука
и жизнь», поместив материал об «Антее» в октябрьском номере 1965 г.5 «Тех-
ника - молодёжи» запоздала почти на полтора года, опубликовав аналогичную
информацию в марте 1967 г.6 «Моделист-конструктор» же удостоил «Ан-22»
вниманием только в декабре 1967 г.7
Во-вторых, это централизованная пропаганда, т.е. тексты, совпадающие
по форме подачи материала и синхронизированные по срокам. Так, на ру-
беже 1970-1971 гг. на страницах «Науки и жизни», «Техники - молодёжи»
и «Моделиста-конструктора» появились схожие по оформлению публикации
об экспедициях автоматических станций «Луна-16» и «Луна-17». Как и в слу-
чае с «Ан-22», первой выступила «Наука и жизнь» (ноябрь 1970 г.)8, затем,
синхронно, остальные (январь 1971 г.)9. Конечно, в данном случае следует
учесть общественный резонанс. Автоматическая доставка лунного грунта «Лу-
ной-16» и отправка первого «Лунохода» виделись достойным ответом заокеан-
ским конкурентам и, безусловно, требовали широкого освещения. Но порой
появление схожих материалов в разных журналах сложно объяснить исключи-
тельно редакционным решением. В майских номерах 1970 г. «Науки и жизни»
и «Техники - молодёжи», очевидно, в связи с празднованием 25-летия победы
в Великой Отечественной войне, были напечатаны иллюстрированные статьи,
посвящённые советскому подводному ракетоносному флоту10. Конечно, можно
также вспомнить о завершении в мае 1970 г. стратегических маневров ВМФ
3
Опрос, анкета которого публиковалась в прессе, а именно в перечисленных изданиях: «Тех-
ника - молодёжи», «Юный техник», «Моделист-конструктор».
4
РГАСПИ, ф. 84, оп. 1, д. 10, л. 30-33.
5
Пипко Д. Крылатый исполин // Наука и жизнь. 1965. № 10. С. 42-45.
6
Антей - новое детище генерального авиаконструктора, лауреата Ленинской премии, члена--
корреспондента АН УССР Олега Антонова // Техника - молодёжи. 1967. № 3. С. 19-21. Следует
отметить, что ранее журнал всё же публиковал об «Ан-22» короткие заметки.
7
Потамошнев А., Шульженко А. Крылатый гигант // Моделист-конструктор. 1967. № 12.
С. 4-8.
8
Выдающийся космический эксперимент // Наука и жизнь. 1970. № 11. С. 17-19.
9
Триумф космической техники // Техника - молодёжи. 1971. № 1. С. 6-11; Молчанов А.
Стартуют «Лунники» // Моделист-конструктор. 1971. № 1. С. 4-5.
10
Сорокин А. Подводная атомная… // Наука и жизнь. 1970. № 5. С. 26-31; Рудницкий А. Крей-
серы идут под водой // Техника - молодёжи. 1970. № 5. С. 14-17.
171
СССР «Океан», однако подобные события традиционно освещались в армей-
ской прессе (газета «Красная звезда», окружные и флотские издания), а не
в популярных изданиях.
Особняком стоят публикации о зарубежных достижениях. Идеологические
органы и подразделения цензуры (прежде всего Главное управление по охра-
не государственных тайн в печати при Совете министров СССР - Главлит)
требовали первоочередного внимания к отечественным разработкам. В силу
этого освещение успехов конкурентов искусственно сдерживалось. Например,
20 марта 1969 г. вышел циркуляр за подписью начальника Главлита П.К. Ро-
манова, согласно которому материалы о полёте американского корабля «Апол-
лон-9» разрешалось публиковать только после согласования с АН СССР11. Тем
не менее редакторы научно-популярных изданий обладали определённой сво-
бодой и могли действовать по своему усмотрению. В течение 1969 г. «Техни-
ка - молодёжи» дала в печать два богато иллюстрированных разворота об аме-
риканской лунной программе: обзорную публикацию и статью, посвящённую
экспедиции «Аполлона-11»12. «Наука и жизнь» действовала более осмотритель-
но: материалы по полётам «Аполлона-9» и «Аполлона-10» размещены в «под-
вале» и меньшим, чем основное содержание, кеглем13. Миссия «Аполлона-11»
удостоилась разворота, но без цветных иллюстраций14. Столь же скромно полёт
астронавтов на Луну осветил «Юный техник»: две страницы, что при малом
формате журнала совсем немного15. «Моделист-конструктор» вообще не удо-
стоил это событие вниманием, что, впрочем, не противоречило специализации
журнала. Не следует также забывать, что информация о полётах на Луну появ-
лялась в советских ежемесячных изданиях с опозданием в 2-3 месяца.
Однако и при освещении зарубежной космической программы можно го-
ворить о централизованном директивном размещении материалов. Например,
в ноябре 1974 г. «Техника - молодёжи» и «Наука и жизнь» напечатали подроб-
ные статьи об американской программе «Space Shuttle» с цветными иллюстра-
циями16. Если учесть, что разработка «Челнока» в США находилась в начальной
фазе, эту синхронизацию публикаций сложно объяснить простым совпадением.
Тем более что автором статьи в «Науке и жизни» выступил лётчик-космонавт,
дважды Герой Советского Союза В.А. Шаталов - один из руководителей про-
граммы «Союз-Аполлон».
Представление об организации научно-технической пропаганды позволяет
составить документ из фонда Главлита - «План освещения органами пропа-
ганды полёта объекта “ДОС”»17. Это шесть страниц машинописи в альбомной
ориентации. На титуле - утвердительные визы президента АН СССР М.В. Кел-
дыша и председателя государственной комиссии К.А. Керимова, а также согла-
11
ГА РФ, ф. 9425, оп 1, д. 1320, л. 28.
12
Проект «Аполлон» // Техника - молодёжи. 1969. № 6. С. 32-33; Орлов В. Как были сделаны
первые шаги по Луне // Техника - молодёжи. 1969. № 10. С. 35-36.
13
«Аполлон» - продолжение следует // Наука и жизнь. 1969. № 7. С. 44-45.
14
Экспедиция на Луну // Наука и жизнь. 1969. № 9. С. 20-21.
15
Посадка и взлёт // Юный техник. 1969. № 10. С. 38-39.
16
Шаталов В. На самолёте в космос // Наука и жизнь. 1974. № 11. С. 25-33; Пипко Д. Проект
«Космический челнок» // Техника - молодёжи. 1974. № 11. С. 30-33.
17
ГА РФ, ф. 9425, оп. 1, д. 1401, л. 7-12. Полный текст документа опубликован: Комисса-
ров В.В. Приёмы советской научно-технической пропаганды на примере плана освещения в СМИ
полёта орбитальной станции «Салют» // Вопросы истории естествознания и техники. 2021. № 3.
С. 533-543.
172
сования с первым заместителем министра общего машиностроения Г.А. Тюли-
ным, представителем ракетных войск А.Г. Карасём и руководителем подготовки
космонавтов Н.П. Каманиным. Документ подробно, в табличной форме распи-
сывает освещение в открытой печати полёта первой советской долговременной
орбитальной станции «Салют».
План интересен тем, что привносит в историю создания станции новые
факты18. Он содержит 11 пунктов, некоторые из них детализированы в 14 под-
пунктах. В документе перечислены способы освещения экспедиции: сообще-
ния ТАСС о запуске станции и кораблей, о биографиях космонавтов, о ходе
работы экипажей и автоматическом полёте ДОС, о возвращении на Землю;
передачи Центрального телевидения (прямые репортажи с борта станции, ви-
деозаписи выступлений космонавтов перед полётом, репортажи, отклики, ком-
ментарии); официальная статья о данном космическом эксперименте и пуб-
ликации в научно-популярных изданиях; пресс-конференция для советских
и иностранных журналистов; «открытые» кино- и телефильмы о полёте.
Для каждого вида пропаганды установлены сроки. Официальные сообще-
ния о запусках и биографии космонавтов шли в печать в день старта; инфор-
мации ТАСС о ходе полёта - каждые пять дней; данные о здоровье космонав-
тов - ежедневно. На публикацию официальной итоговой статьи отводилось
десять дней после окончания миссии, а кино- и телефильм должны были
выйти на экраны спустя месяц. Также определялись ответственные за каждый
вид публикации - организации, должностные лица, обязанные представить
материал, и люди, наделённые правом визировать информацию. За сообще-
ния ТАСС несли ответственность головные ведомства ракетно-космической
отрасли: Центральный научно-исследовательский институт машиностро-
ения (ЦНИИМАШ, директор Ю.А. Мозжорин) и Центральное конструк-
торское бюро экспериментального машиностроения (заместитель главно-
го конструктора П.В. Цыбин). За биографии космонавтов отвечали также
Военно-воздушные силы и Министерство общего машиностроения. Участие
Министерства связано, вероятно, с тем, что не все космонавты, готовившиеся
к полёту, были военными - некоторые из них являлись гражданскими специ-
алистами ракетно-космической отрасли. В части телевизионных репортажей
к освещению подключались Госкомитет СССР по телевидению и радиовеща-
нию, АН СССР, Министерство здравоохранения (если информация касалась
состояния здоровья космонавтов). На фильмовой стадии привлекались Цен-
тральное телевидение и Центрнаучфильм.
Таким образом, научно-технические достижения освещались централизо-
ванно, с привлечением широкого круга исполнителей по достаточно подроб-
ным планам, отступление от которых вряд ли было возможно без тщательного
согласования. Этим во многом и объясняется наличие стандартизированных
публикаций в научно-популярных изданиях.
18
Этот документ ставит под сомнение широко распространённую информацию, что станцию
изначально предполагалось назвать «Заря»: в плане она именуется «Мир» (станцию с таким назва-
нием запустили только в 1986 г.). Также не подтверждается версия о подготовке трёх экспедиций
на «Салют»: третий полёт якобы отменили после трагедии «Союза-11». В «Плане» предполагается
освещение только двух пилотируемых кораблей: «Союза-10» и «Союза-11». Оба полёта состоялись,
правда, их сложно признать полностью успешными. Как известно, «Союз-10» состыковался со
станцией, но экипаж не смог перейти на неё, а космонавты «Союза-11» отработали на «Салюте»
положенный срок, но погибли при возвращении на Землю из-за технической неисправности.
173
Цензурный контроль в сфере научно-технической пропаганды. В СССР функ-
ционировала разветвлённая система цензурных органов. Во главе стоял Главлит,
которому подчинялись территориальные органы цензуры: главлиты союзных
и автономных республик, краевые и областные управления - край- и облли-
ты. Существовали смежные цензурные структуры, например, управление воен-
ной цензуры Генерального штаба, цензура пограничных войск КГБ. В 1969 г.
появилась цензура Министерства внутренних дел СССР, организованная по
образцу военной19. При этом Главлит мог действовать достаточно автономно:
ещё в 1957 г. решением ЦК КПСС его работников вывели из-под контроля
госбезопасности. Более того, о каждом несанкционированном контакте с со-
трудниками КГБ они обязаны были докладывать своему руководству20.
Деятельность цензуры определялась рядом нормативных подзаконных ак-
тов, прежде всего «Перечнем сведений, составляющих государственную тайну,
разглашение которых карается по закону». Данный сравнительно небольшой
документ утверждался правительством СССР и обычно издавался в качестве
приложения к Уголовному кодексу РСФСР. Последнюю опубликованную ре-
дакцию утвердили 28 апреля 1956 г.21 С конца 1950-х гг. открытая печать по-
добных актов прекратилась.
Основным рабочим документом являлся «Перечень сведений, запрещён-
ных к опубликованию в открытой печати, в передачах по радио и телевиде-
нию» («Перечень Главлита»). Он представлял собой объёмный документ для
служебного пользования, который обновлялся раз в несколько лет. Составле-
ние новой редакции Перечня проводилось с учётом мнений заинтересованных
ведомств. К 1970-м гг. объём цензурируемой информации увеличился настоль-
ко, что потребовал создания специализированных списков. Так, в первой поло-
вине 1970-х гг. появился «Перечень сведений в области исследования космиче-
ского пространства и ракетно-космической техники, запрещённых к открытой
печати». В дополнение к перечням существовали разного рода «указатели»
и «списки»: «Указатель электронно-вычислительных машин, сведения о кото-
рых разрешаются к открытому опубликованию»22, «Список марок самолётов,
вертолётов, авиадвигателей и глубоководных аппаратов, разрешённых в уста-
новленном порядке к показу в открытой печати»23, и др. Ещё одним видом
закрытых нормативных актов можно считать «Оперативные указания руко-
водства по цензурному контролю». Они содержали вопросы, не урегулирован-
ные в действующей редакции Перечня или возникшие в связи с изменением
обстановки.
Кроме того, в вопросах цензуры научно-технической информации Главлит
действовал бок о бок с ведомственной цензурой. В одной из публикаций уже
отмечалось, что в каждой отрасли существовало головное учреждение, имев-
шее право визировать открытые публикации по своей тематике24. В ракетно--
космической отрасли это был ЦНИИМАШ. 15 мая 1969 г. руководство Глав-
лита оперативным указанием запретило публиковать материалы по истории
19
ГА РФ, ф. 9425, оп. 2, д. 508, л. 45.
20
Там же, оп. 1, д. 1286, л. 44.
21
Об установлении перечня сведений, составляющих государственную тайну, разглашение
которых карается по закону // Уголовный кодекс РСФСР. М., 1957. С. 143-145.
22
ГА РФ, ф. 9425, оп. 2, д. 578, л. 52-66.
23
Там же, д. 890, л. 141-146.
24
Комиссаров В.В. Главлит и научно-популярная публицистика… С. 118.
174
советского ракетостроения без визы Мозжорина25. Таким образом, позиция
ведомственной цензуры в вопросах научно-технических публикаций стала ре-
шающей. Для контроля в ЦНИИ существовала группа по визированию мате-
риалов, которая во внутренних документах Главлита порой прямо именуется
«группой Мозжорина»26. Её состав и численность постоянно менялись, а чле-
ны имели специализацию. Например, приказом от 20 апреля 1971 г. директор
ЦНИИМАШ назначил трёх человек, наделённых правом визировать открытые
публикации, ответственного за допуск материалов по истории ракетостроения
и специалиста по телевизионным передачам27. 24 января 1973 г. состав группы
увеличился до девяти человек, причём трое из них получили исключительное
право визировать материалы по истории ракетно-космической техники28.
Сотрудники ЦНИИМАШ контролировали не только публикации в научно--
популярных изданиях. В сферу их внимания попадала также кино- и телепро-
дукция. Так, в 1971 г. члены «группы Мозжорина» совместно с работниками
Главлита просмотрели фильм Ленинградской студии телевидения «О моём дру-
ге», посвящённый Гагарину, и отправили его на доработку, в первую очередь
из-за упоминаний об участии в советской космической программе военных29.
Внимания удостаивались произведения художественной литературы по соот-
ветствующей тематике. В марте 1967 г. Министерство культуры представило
на контроль пьесу «Генеральный конструктор». Прообразом её главного ге-
роя, конструктора Иванова, выступил С.П. Королёв. Главлит направил про-
изведение в Министерство общего машиностроения, откуда оно перекочевало
в ЦНИИМАШ. Институт подвёл черту под мытарствами драматургов, запретив
пьесу к постановке30. Через горнило ведомственной цензуры прошёл сценарий
известного фильма «Укрощение огня». Согласно главлитовскому документу,
первоначальный вариант сценария содержал эпизод с пребыванием главно-
го героя Башкирцева в тюрьме31, отражавший реальный факт из биографий
его прототипов - Королёва и В.П. Глушко. Из окончательной версии данный
фрагмент удалили.
Ведомственная цензура по космической тематике включала в себя Глав-
ного военного цензора, а также «группу товарища Лебедева», действовавшую
в системе АН СССР и контролировавшую публикации по астрономии, в том
числе фундаментальные издания. Так, в 1973 г. из третьего издания Большой
советской энциклопедии исключили упоминание о космодромах в Плесецке
и Капустином Яре, допустив только информацию о Байконуре32. Для оператив-
ного визирования открытых публикаций во время проведения длительных резо-
нансных полётов при ТАСС создавали межведомственные группы экспертов33.
25
ГА РФ, ф. 9425, оп. 1, д. 1316, л. 8.
26
Там же, д. 1392, л. 42.
27
Там же, д. 1401, л. 6.
28
Там же, д. 1463, л. 13-14.
29
Там же, д. 1392, л. 42.
30
Там же, д. 1257, л. 13.
31
Там же, д. 1354, л. 87.
32
Там же, д. 1459, л. 105. Парадоксально, но запрет на упоминание космодрома в Плесецке не
распространялся на закрытый город Мирный (центр космодрома). В 1969 г. руководитель Главлита
Романов на одном из совещаний критиковал сотрудников Архангельского обллита за удаление
информации о нём из открытой публикации: «Город нельзя спрятать» (Там же, д. 1318, л. 60).
33
Там же, д. 1401, л. 12.
175
Люди и псевдонимы. Особенность советской космической программы - за-
секречивание имён конструкторов техники. В открытых публикациях исполь-
зовались различного рода эвфемизмы, например, «главный конструктор» или
«главный теоретик». Зачастую это касалось людей, чья роль не вызывала со-
мнения. Так, в 1971 г. к 10-летию полёта Гагарина готовилось второе издание
документальной повести А.П. Романова «Конструктор космических кораблей»,
в котором автор решил привести вместо «главный теоретик» и «руководитель
ОКБ» фамилии Келдыша и Глушко. Цензура не разрешила публикацию в по-
добном формате34. Если в случае с Глушко, чье имя было «не на слуху», это
и можно счесть оправданным, то роль и значение президента Академии наук
в космических исследованиях уже не составляли особого секрета.
Другим способом соблюдения секретности стало использование в откры-
тых публикациях псевдонимов, как правило, образованных незатейливым
способом от имени. Например, Сергей Павлович Королёв фигурировал как
«профессор К. Сергеев». Подобная практика продолжалась и позднее. В 1971 г.
в журнале «Советский Союз» (ориентированном преимущественно на зарубеж-
ную аудиторию) появилась статья о новом космическом корабле, подписанная
«главным конструктором кораблей “Союз”», которым был преемник Коро-
лёва В.П. Мишин. После согласования с Министерством общего машиностро-
ения Главлит разрешил публикацию под псевдонимом. И здесь эксперты не
проявили оригинальности, обозначив Василия Павловича как «профессора Ва-
сильева»35. Под этой же фамилией - «М.П. Васильев» - Мишин фигурировал
в роли председателя редакционной коллегии книги по итогам полёта орбиталь-
ной станции «Салют» (причём остальные пять членов редколлегии прошли под
собственными именами)36.
Распространена точка зрения, что после смерти Королёва запрет на упо-
минание его имени в печати сняли. Однако архивные документы показывают,
что формально этот запрет действовал и позднее, создавая известные слож-
ности для авторов научно-популярных текстов и фильмов. Так, в показанной
в 1968 г. на Центральном телевидении картине «Люди и космос» есть кадры
с Королёвым, где закадровый дикторский голос называет фамилию учёного, но
нет ни слова о его вкладе в развитие космонавтики. У непосвящённого зрителя
может сложиться впечатление, что некий посторонний мужчина отдаёт в ми-
крофон стартовые команды. Только 8 июля 1969 г. (спустя более чем три года
после смерти) Перечневая комиссия Главлита разрешила упоминать его как
главного конструктора советских космических кораблей37.
Псевдонимами приходилось пользоваться не только руководителям кон-
структорских бюро и секретных НИИ, но и сотрудникам «калибром поменьше».
Например, О.Г. Ивановский, работавший сначала в КБ Королёва, а затем -
у Г.Н. Бабакина, на рубеже 1960-1970-х гг. подготовил книгу воспоминаний,
сначала публиковавшуюся фрагментами в газете «Правда», потом вышедшую
полностью в серии «Эврика» издательства «Молодая гвардия». Во всех изданиях
автор значился под псевдонимом «А. Иванов». Причём он проходил под этой
фамилией даже во внутренних документах Главлита (публикация в «Правде»
вызвала нарекания цензуры из-за указания местоположений КБ и опытного
34
Там же, д. 1392, л. 29.
35
Там же, л. 30.
36
Салют на орбите. М., 1973.
37
ГА РФ, ф. 9425, оп. 2, д. 512, л. 19.
176
завода)38. Использование псевдонима нарушило стандартное серийное оформ-
ление: в двух изданиях воспоминаний Ивановского на последней странице
обложки отсутствовали обязательные для изданий «Эврики» фото и краткая
информация об авторе39. Псевдоним не раскрывался и в редакционном ката-
логе 1977 г.40 Только во второй половине 1980-х гг. Ивановский, оказавшийся
плодовитым мемуаристом, смог выступать в печати под своей фамилией.
Показательно, что это разительно отличалось от ситуации в советской ави-
ации. Руководители КБ, главные и генеральные конструкторы не только не
скрывались, но напротив всячески прославлялись в прессе, а с конца 1930-х гг.
применялась система индексации летательных аппаратов по начальным буквам
фамилий их создателей.
Всё вышеперечисленное на новом материале подтверждает вывод иссле-
дователей о существовании в СССР рассматриваемого периода «всецензуры»
(термин американской исследовательницы М.Т. Чолдин)41. В процесс визиро-
вания открытых публикаций вовлекалось огромное количество ведомств, НИИ,
КБ и предприятий. Причём провести грань между цензурой и пропагандой
сложно. Система была выстроена так, что лица и учреждения, ответственные за
предоставление информации, одновременно занимались и её цензурировани-
ем, и допуском к открытой публикации. Централизованный характер научно--
технической пропаганды не оставлял места для дискуссий. СМИ воспринима-
лись исключительно как «органы пропаганды», другой задачи им не ставилось.
Конечно, это не означало отсутствия споров в экспертном сообществе, однако
они проходили в закрытом режиме, даже не все специалисты знали их под-
робности. Кроме того, сложный и многоступенчатый характер прохождения
материалов приводил к тому, что в ежемесячных популярных журналах инфор-
мация о новейших достижениях могла появляться с опозданием в несколько
месяцев, особенно когда это касалось зарубежной космической программы.
38
Там же, оп. 1, д. 1303, л. 55.
39
Иванов А. Первые ступени. М., 1970; Изд. 2. М., 1975.
40
Эврика. 1965-1976. Каталог. М., 1977. С. 152-153, 276-277.
41
Горяева Т.М. Проблемы публикации документов по истории советской политической цен-
зуры // Проблемы публикации документов по истории России ХХ века. Материалы всероссийской
научно-практической конференции научных и архивных работников. М., 2001. С. 115.
177