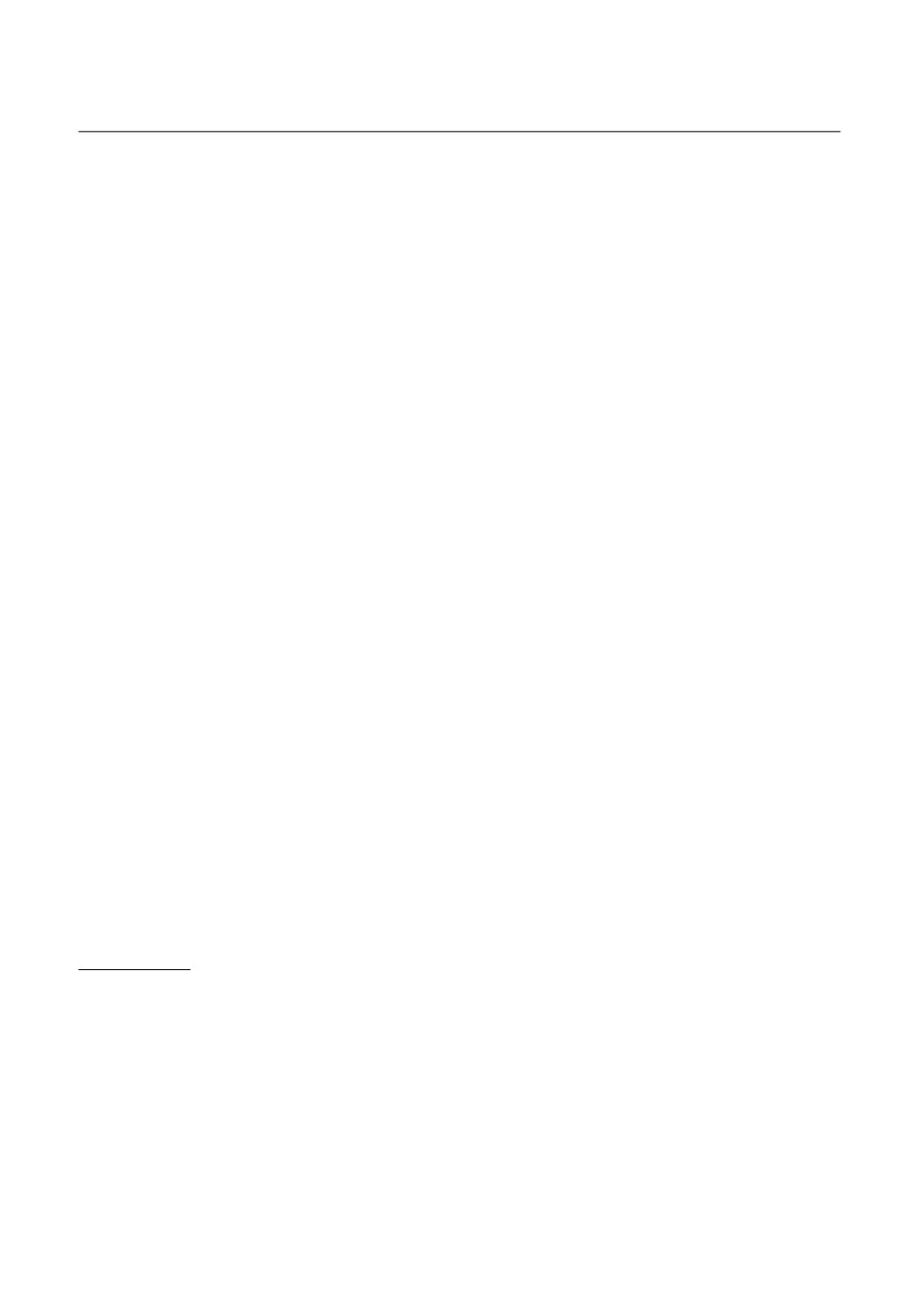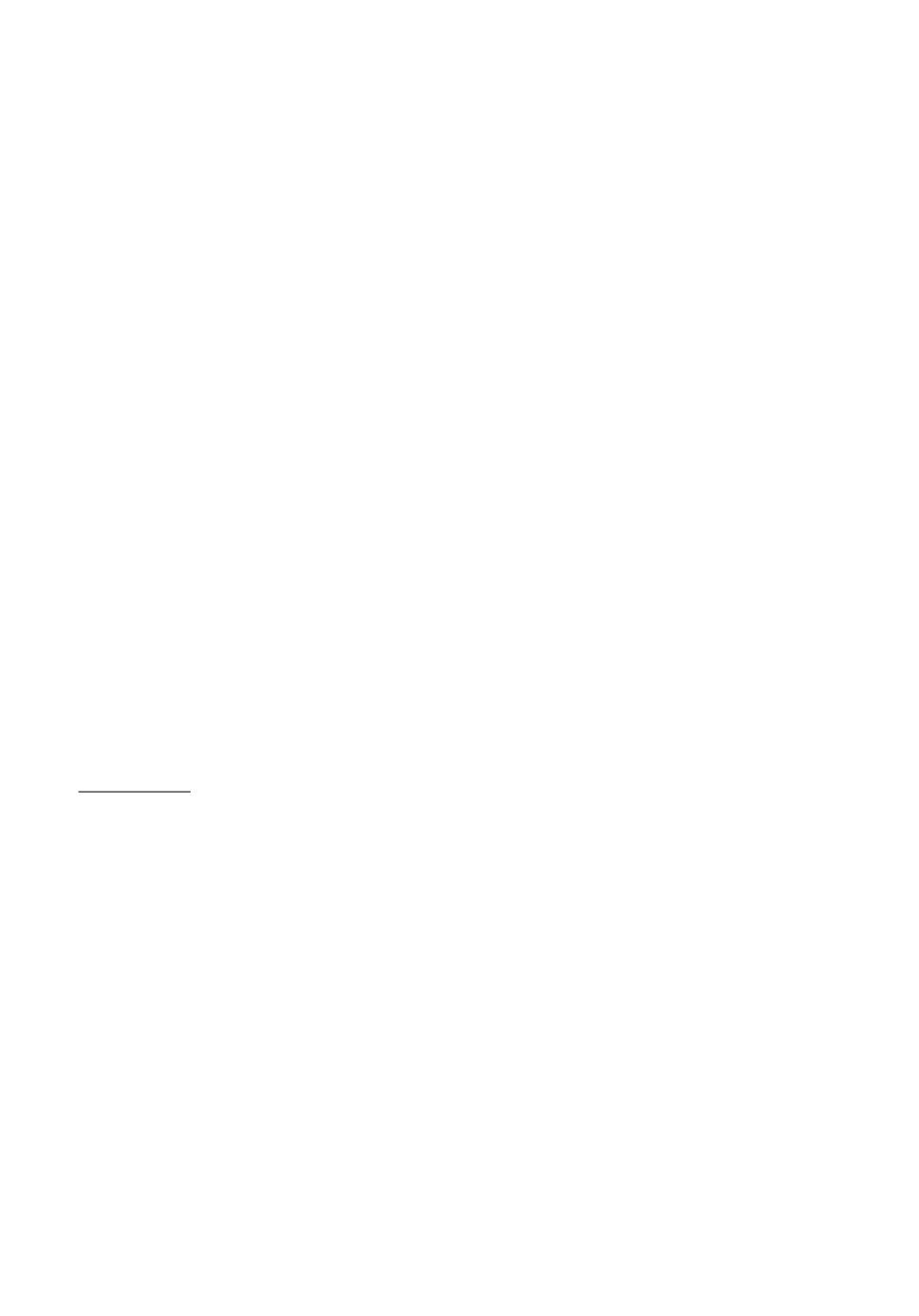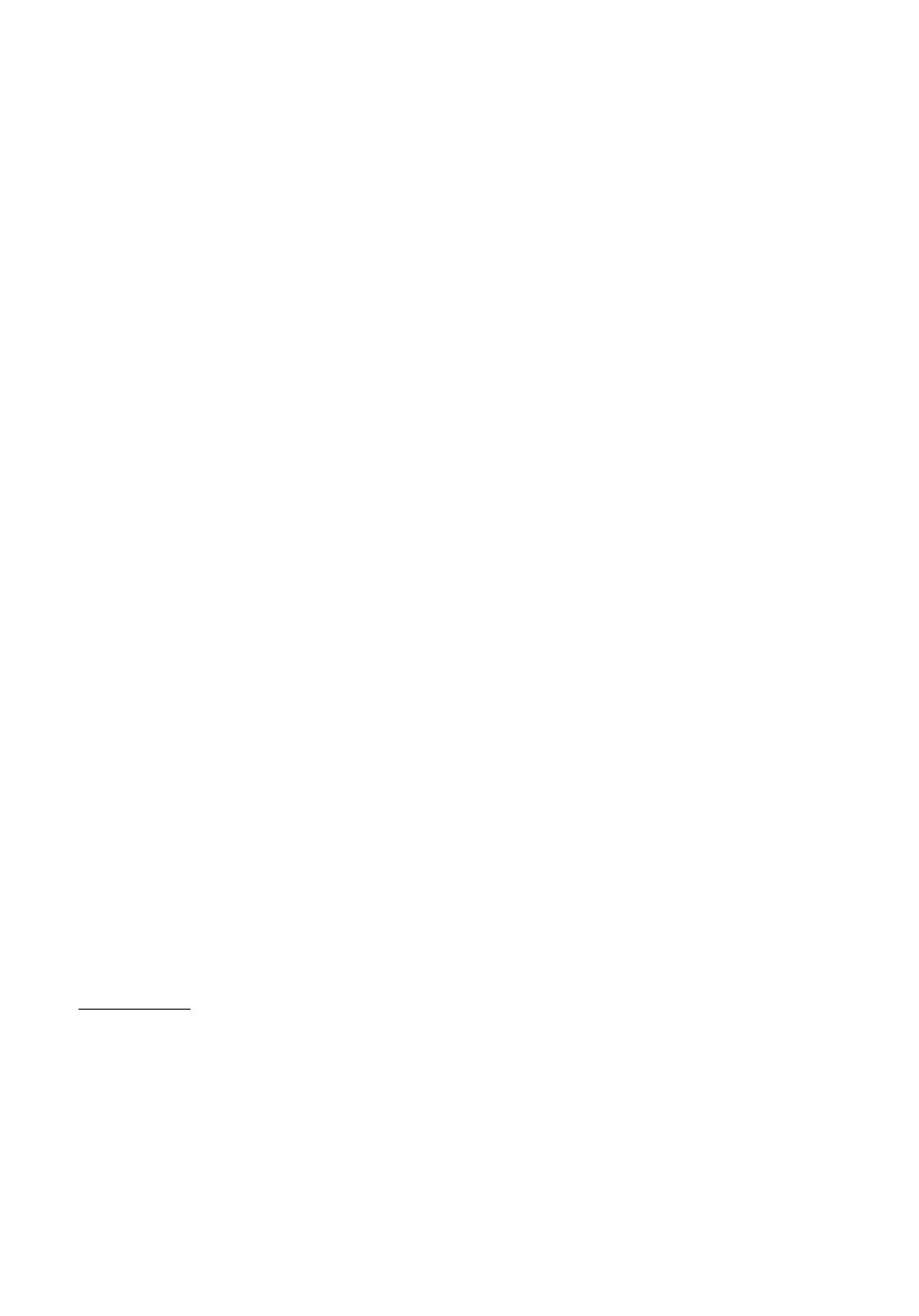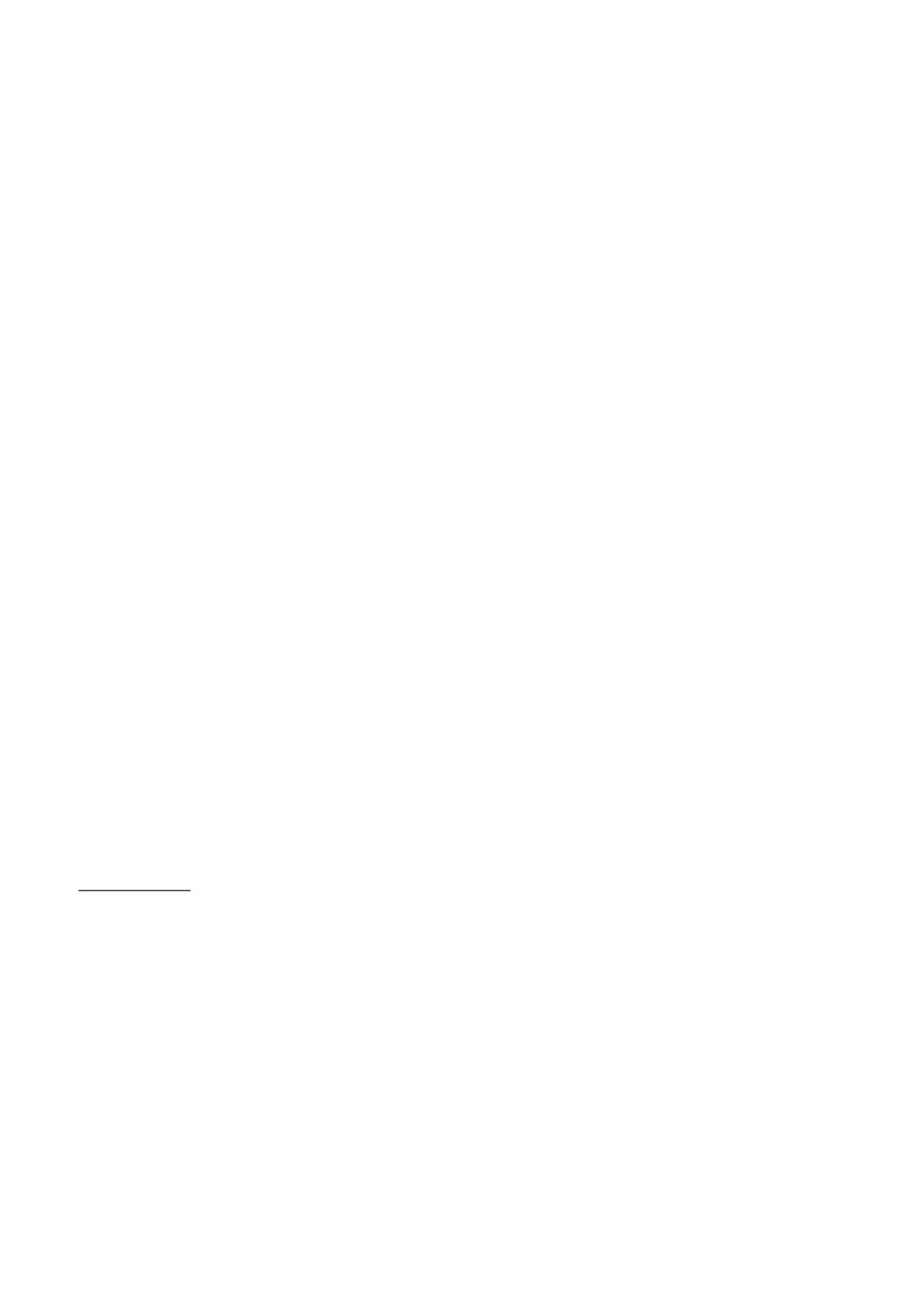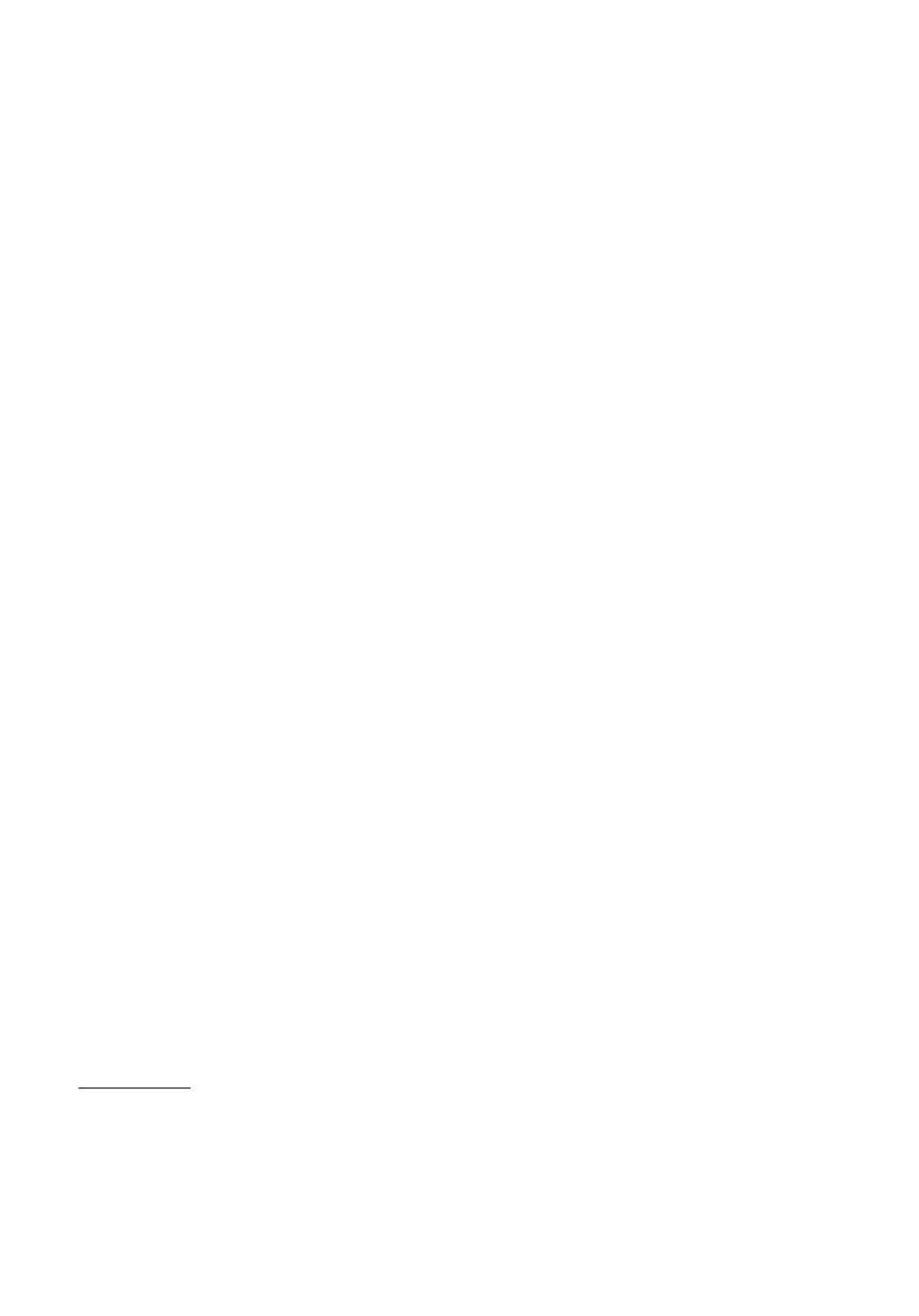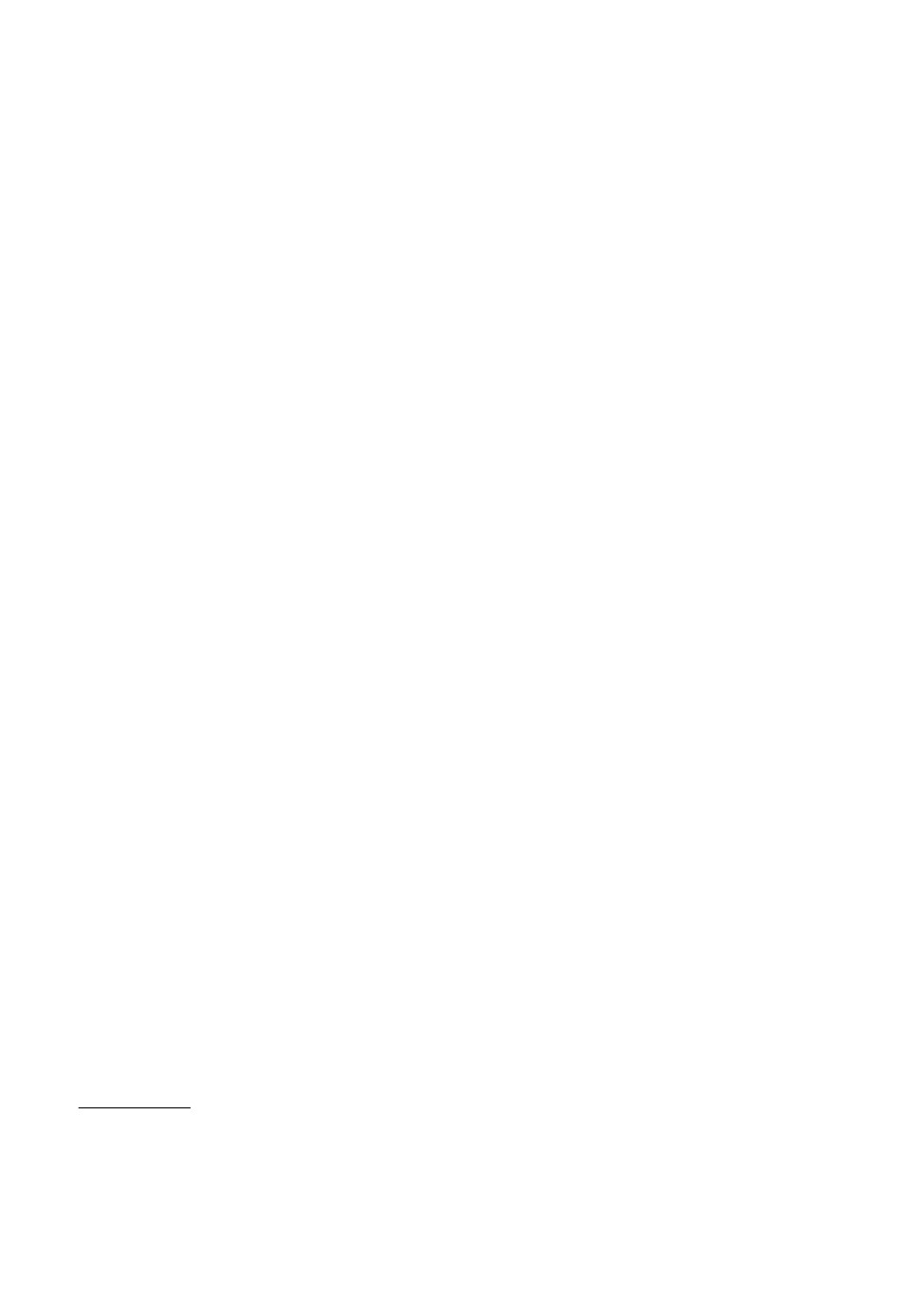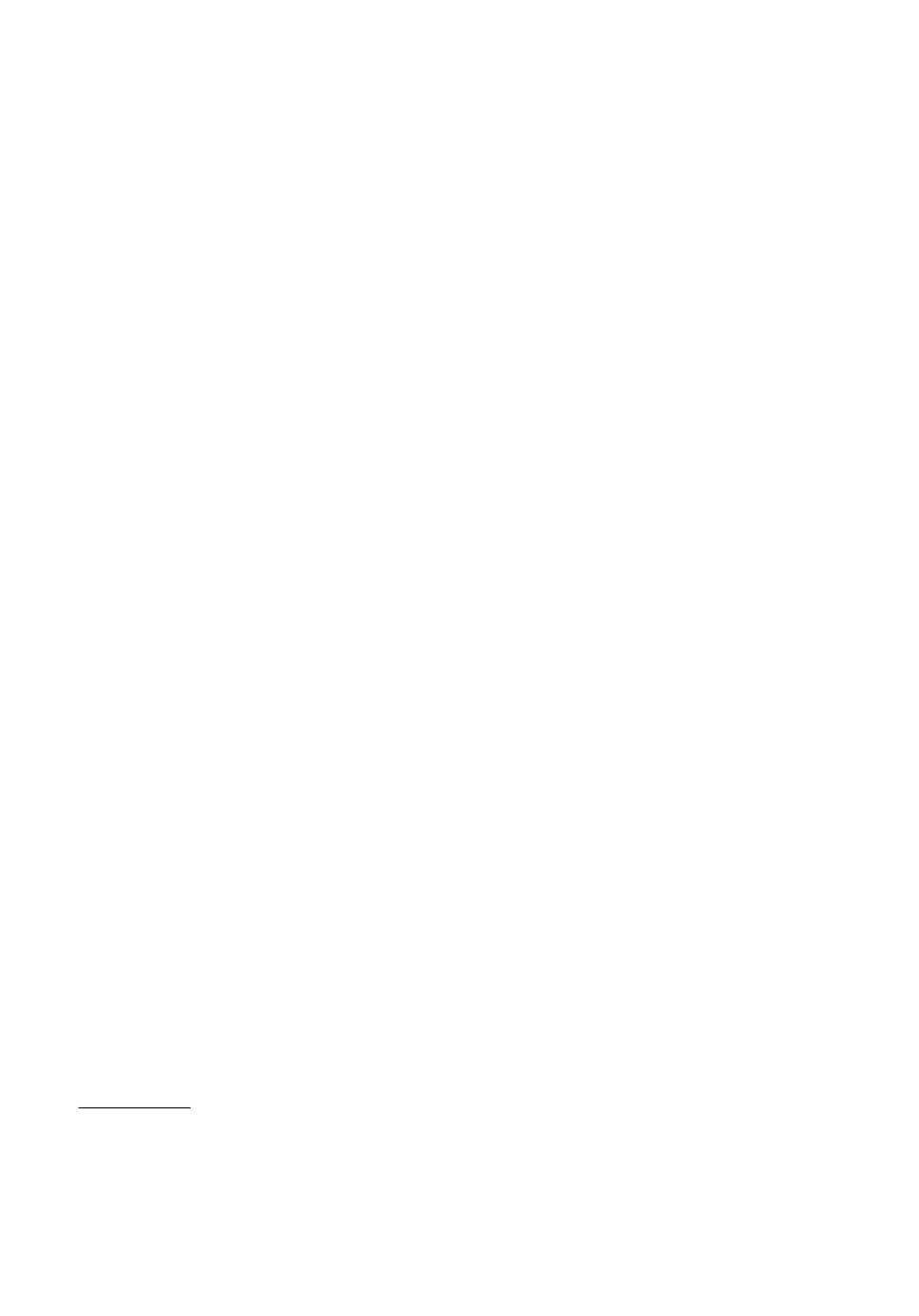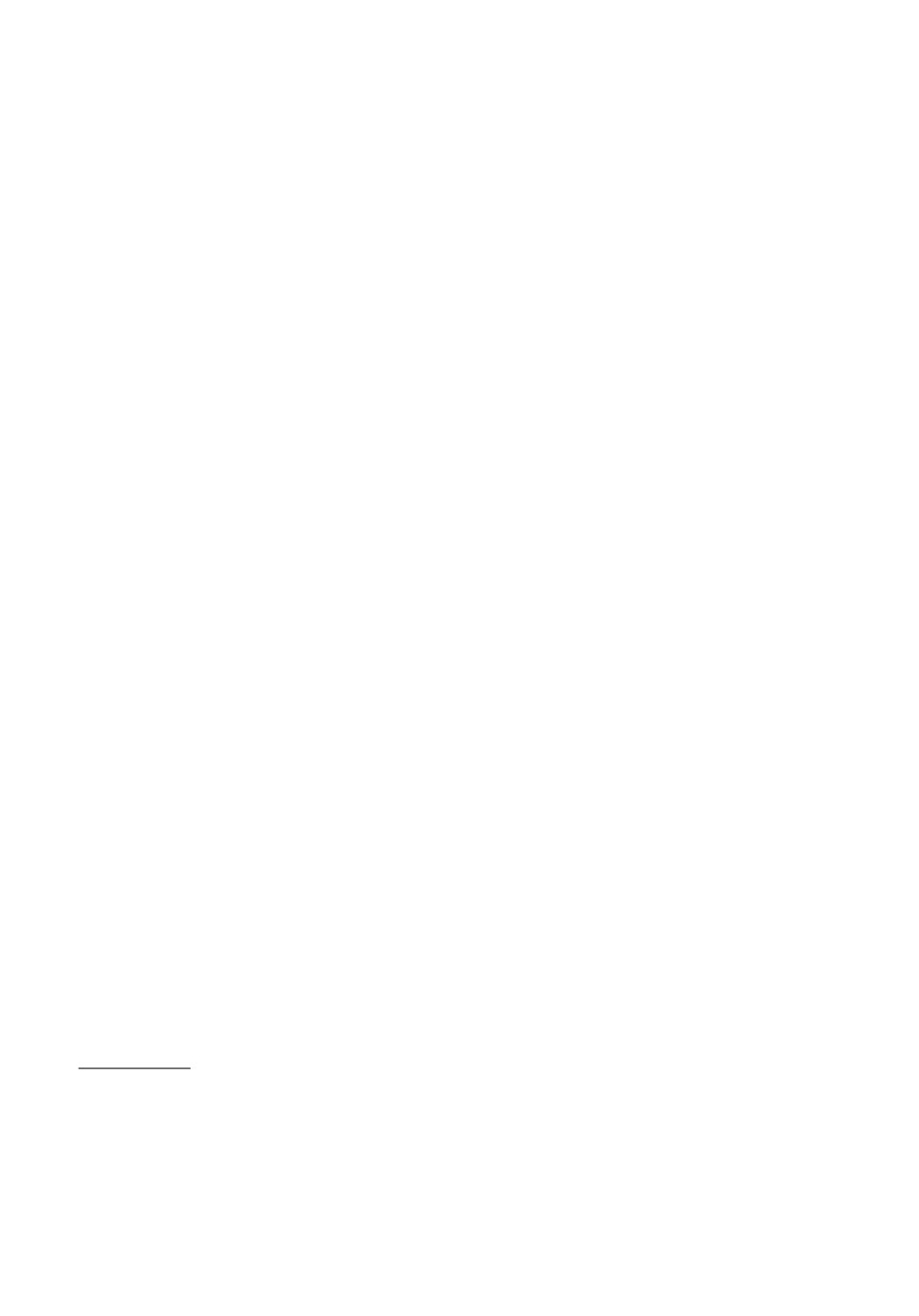Лица и взгляды
Ректор Императорского Казанского университета
профессор Н.П. Загоскин
Диляра Усманова
Professor N.P. Zagoskin - rector of the Imperial Kazan University
Diliara Usmanova
(Kazan (Volga region) Federal University, Russia)
DOI: 10.31857/S2949124X23020086, EDN: BIHGZB
Учёный и педагог, знаток казанской жизни, издатель и редактор местных
популярных периодических изданий, историограф университета и профессор,
ректор, общественный деятель, гласный городской думы и член Государствен-
ного совета Российской империи Николай Павлович Загоскин (1851-1912)
был творческой и многогранной личностью. Его ректорство, продолжавшееся
всего несколько лет (1906-1909), пришлось на один из самых сложных пери-
одов в истории высших учебных заведений России, который характеризовался
необычайной активизацией студенческого движения, стремительным вовлече-
нием учащих и учащихся в общественно-политическую жизнь страны, кон-
фликтами профессуры с чиновниками Министерства народного просвещения.
В этих условиях фигура ректора как представителя и главы университетской
корпорации получала особенное значение и играла особую роль, требующую
пристального анализа.
Загоскин родился 20 июля 1851 г. в Санкт-Петербурге в семье потомствен-
ных дворян Пензенской губ., воспитывался в петербургском пансионе Фрея,
в Висбадене и, наконец, в Пензенской гимназии, по окончании которой посту-
пил в 1870 г. на юридический факультет Императорского Казанского универси-
тета, связав с ним 40 лет своей жизни1. Его кандидатское сочинение «Служилые
люди Московского государства от Иоанна III до Петра I» удостоилось золотой
медали, и уже в июне 1875 г. подающий надежды молодой человек приступил
к чтению лекций по истории римского права в статусе приват-доцента. Одно-
временно он продолжил изучение допетровской России, посвятив ей магистер-
скую и докторскую диссертации2, а также ряд историко-правовых исследова-
© 2023 г. Д.М. Усманова
1
Сведения о биографии Загоскина сохранились в архивных документах (Государствен-
ный архив Республики Татарстан (далее - ГА РТ), ф. 977, оп. Личные дела студентов, д. 988;
оп. 619, д. 11; РГИА, ф. 1162, оп. 6, д. 697), в мемуарах его дочери (Загоскина О.Н. Воспоминания
о Н.П. Загоскине. Казань, 2002) и в некрологах, написанных учениками (Крыльцов И.И. Николай
Павлович Загоскин. Казань, 1912; Тельберг Г.Г. Н.П. Загоскин. Критико-биографические заметки.
М., 1914). Довольно подробно эти данные изложены в справочниках: Русские писатели. 1800-1917.
Биографический словарь. Т. 2. М., 1992. С. 306-308; Российский либерализм середины XVIII -
начала ХХ века. Энциклопедия. М., 2010. С. 316-317; Государственный совет Российской импе-
рии. 1906-1917. Энциклопедия. М., 2008. С. 92-93. См. также: Ректоры Казанского университета,
1804-2004 гг. Очерки жизни и деятельности. Казань, 2004. С. 191-203.
2
Загоскин Н.П. История права Московского государства. Т. 1. Казань, 1877; Т. 2. Вып. 1.
Казань, 1879. Изучение данного периода он не прекращал и впоследствии. См., в частности:
100
ний, развивавших традиции и подходы государственной школы3. Не меньший
интерес у него вызывали история Казанского Поволжья и краеведение. Его
перу принадлежал один из лучших городских путеводителей4. Загоскин оказал-
ся среди создателей, а затем состоял секретарём и редактором «Известий обще-
ства археологии, истории и этнографии Казанского университета» (1878-1884),
стал основателем и редактором газеты «Волжский вестник» (1883-1891), отно-
сившейся к числу наиболее ярких и содержательных провинциальных изданий
своего времени5. В 1896-1898 гг. он издавал газету «Камско-Волжский край»,
продолжавшую традиции «Волжского вестника», и публиковал в ней много-
численные статьи и очерки. При этом Николай Павлович брал уроки пения
и сольфеджио, увлекался разведением домашних животных, держал аквариумы
и террариумы, занимался астрономией и литературным творчеством. Диапазон
его интересов был исключительно широк: он читал лекцию о 50-летии оперы
«Жизнь за царя», ездил в экспедицию наблюдать солнечное затмение, летал на
аэростате, познавая новые ощущения6.
9 апреля 1880 г. Загоскин был утверждён ординарным профессором по
кафедре истории римского права, а в июне 1885 г., воспользовавшись вакан-
сией, занял кафедру истории русского права7. Одновременно он продолжал
читать курс на вакантной кафедре энциклопедии и истории философии пра-
ва. Уже в следующем году профессор напечатал свой курс8, а через несколь-
ко лет подготовил для студентов библиографический указатель9. В 1879-1882
и 1910-1911 гг. он также преподавал на Казанских высших женских курсах. Бу-
дучи одним из лидеров местной либеральной профессуры, Николай Павлович
пользовался авторитетом в обществе и в студенческой среде. Как вспоминал
его ученик Г.Г. Тельберг (1881-1954), популярности Загоскина способствовали
«чисто товарищеские отношения к молодёжи, полная доступность и совершен-
ная простота в обхождении, а отчасти, может быть, и то, что даже перешагнув
за шестой десяток своей жизни, старый учёный и профессор хранил ещё в себе
какую-то непогашенную искру молодости»10.
Загоскин Н.П. Русские водные пути и судовое дело в допетровской России. Историко-географическое
исследование. Казань, 1909.
3
Подробнее см.: Астафьев В.В. Историко-юридическое направление Казанской историче-
ской школы (вторая половина XIX века) // Учёные записки Казанского университета. Сер. Гума-
нитарные науки. Т. 151. 2009. № 2. С. 100-105; Апольский Е.А. Государственно-правовые учения
XIX столетия в диссертациях Казанского университета // Там же. Т. 159. 2017. № 2. С. 307-323.
4
Спутник по Казани. Иллюстрированный указатель достопримечательностей и справочная
книжка города / Под ред. проф. Н.П. Загоскина. Казань, 1895.
5
В неё Загоскин вложил средства, полученные от продажи имения матери в Пензенской губ.
6
Камско-Волжская речь. 1912. 20 марта. № 64. См.: Пятидесятилетие оперы «Жизнь за
царя». Речь, произнесённая профессором Казанского университета Н.П. Загоскиным 27 ноября
1886 г. в казанском театре перед юбилейным представлением. Казань, 1887; [Загоскин Н.П.] На
солнечное затмение. Путевые наброски Н. Миролюбова. Казань, 1887; Загоскин Н.П. На аэростате
(из впечатлений воздушного путешествия). Казань, 1889.
7
Характерно, что в годы учёбы экзамен по римскому праву Загоскин сдал «хорошо», тогда
как по истории русского права показал отличные познания.
8
Загоскин Н.П. История русского права. Казань, 1886.
9
Загоскин Н.П. Наука истории русского права. Её вспомогательные знания, источники
и литература. Казань, 1891. Подробнее см.: Кожевина М.А. Николай Павлович Загоскин и «Наука
истории русского права…» // Научный вестник Омской академии МВД России. 2012. № 1(44).
С. 53-59.
10
Тельберг Г.Г. Указ. соч. С. 4.
101
Наиболее известным и признанным сочинением Загоскина стала так и не
завершённая им «История Императорского Казанского университета»11. По бо-
гатству собранного материала, широте и тщательности освещения отдельных
сюжетов этот труд представлял собой своеобразную энциклопедию Казани пер-
вой четверти XIX в.12 Подготовка этого исследования достаточно полно отраже-
на в протоколах Совета, поскольку Загоскин регулярно информировал коллег
о своих планах и проделанной работе. Для занятий ему создали максимально
благоприятные условия: предоставили полные комплекты «Учёных записок»
и «Известий Казанского университета», свободный доступ к университетскому
архиву, специальное помещение для хранения необходимых документов. Ни одна
просьба профессора о командировке в столицу или выделении дополнительных
средств не встречала отказа, хотя он практически полностью прекратил посещать
заседания Совета и появлялся на них лишь тогда, когда это требовалось для ре-
шения возложенной на него задачи. Осенью 1900 г. Николай Павлович рассчи-
тывал выпустить в 1901 г. первую часть, посвящённую событиям 1805-1827 гг.,
а в 1902-1903 гг. - ещё две, охватывающие 1827-1863 и 1863-1903 гг.13 Однако
в четырёх томах университетской истории он смог довести её изложение лишь
до февраля 1827 г., когда попечителем Казанского учебного округа был назначен
гр. М.Н. Мусин-Пушкин и тем самым закончилась «эпоха Магницкого». В сере-
дине апреля 1903 г. Загоскин надеялся при благоприятном стечении обстоятельств
и достойном финансировании завершить своё исследование в течение шести
лет14. В 1904 г. юбилейные торжества отложили из-за русско-японской войны,
и в университете готовились отметить столетие его полного открытия в 1914 г. Но
продолжение «Истории» Загоскина так и не появилось. Сумма, выделенная на
юбилей, оказалась на порядок меньше той, которая запрашивалась юбилейной
комиссией, а ухудшавшаяся в начале ХХ в. общественно-политическая обстанов-
ка не способствовала кропотливым кабинетным изысканиям15.
В самые сложные для университета осенние месяцы 1905 г. Николай Пав-
лович, будучи деканом юридического факультета и одним из старейших про-
фессоров, фактически исполнял обязанности ректора, поскольку занимавший
этот пост в 1905-1906 гг. Н.М. Любимов (1852-1906) часто находился в отлуч-
ке. В течение всего 1905 г. в университетских стенах вместо занятий зачастую
шли студенческие сходки и митинги, на которых обсуждались царские мани-
фесты, планы созыва Государственной думы и даже Учредительного собрания,
велась пропаганда социалистических идей. Как сообщал начальник Казанско-
го губернского жандармского управления, «с переустройством академической
жизни высших учебных заведений на новых автономных началах неблагона-
дёжные элементы сразу почувствовали свободу действий и не замедлили ис-
пользовать это обстоятельство в своих целях»16.
11
Загоскин Н.П. История Императорского Казанского университета за первые сто лет его
существования. 1804-1904. Т. 1. Казань, 1902; Т. 2-3. Казань, 1903; Т. 4. Казань, 1904.
12
Пожалуй, единственный отрицательный отзыв на юбилейное издание принадлежал казан-
скому профессору В.Ф. Залескому, враждовавшему с автором (ЖМНП. 1905. № 12).
13
Подробнее см.: Усманова Д.М. Н.П. Загоскин - историограф Казанского университета
(К 150-летию со дня рождения) // Археографический ежегодник за 2001 год. М., 2002. С. 181-187.
14
ГА РТ, ф. 977, оп. Совет, д. 10752, л. 91-98 об.
15
Там же, д. 12707, л. 160-161; Морозов О.В. Несостоявшийся праздник: 100-летний юбилей
Императорского Казанского университета // Российская история. 2016. № 2. С. 176-187.
16
Цит. по: Корбут М.К. Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова--
Ленина за 125 лет. Т. 2. Казань, 1930. С. 219.
102
С начала 1905/06 учебного года сходки шли практически ежедневно и ино-
гда собирали тысячи человек. Так, 6 октября около 3 тыс. учащихся и сочув-
ствующих им горожан добивались возвращения уволенных весной студентов.
16 октября на главном корпусе водрузили красный флаг, у западных и вос-
точных ворот построили баррикады, которые исчезли лишь после примене-
ния конной полицией силы. 20-21 октября в результате столкновений погибли
и получили ранения около 40 человек17. На следующий день университет при-
шлось закрыть на неопределённое время.
Видя превращение аудиторий в революционную арену, казанский губер-
натор издал ряд постановлений, согласно которым полиции и войскам предо-
ставлялось право пресекать митинги, в том числе и в высшем учебном заведе-
нии. Совет, не имея возможности полностью воспретить студенческие сборы,
разрешал сходки при условии неучастия в них посторонних лиц. Вместе с тем
17 февраля 1906 г., опасаясь вооружённых столкновений, он принял реше-
ние не возобновлять занятия вплоть до осеннего семестра. Таким образом,
в 1905/06 учебном году лекции практически не читались18.
Между тем 20 февраля во время очередной служебной командировки в Пе-
тербург скоропостижно скончался Любимов. 7 марта в университете избрали
его преемника. В соответствии с Временными правилами 27 августа 1905 г.,
восстановившими выборность ректора, деканов и секретарей факультетов
и вернувшими инспекцию под контроль Совета, на голосование ставились кан-
дидатуры ординарных профессоров, получивших не менее 10 инициативных
записок. Но если за Загоскина их было подано 36, то за других претендентов -
М.Я. Капустина и П.А. Никольского - только 8 и 5. Поэтому в баллотировоч-
ный лист внесли всего одну фамилию, которую поддержало затем подавляющее
большинство профессорской корпорации (42 против 11)19. 28 апреля император
утвердил Загоскина в должности.
14-15 августа 1906 г. все участники совещания ректоров, созванного ми-
нистром народного просвещения М.П. фон Кауфманом, сочли возможным
в начале учебного года вновь открыть университеты для учащихся. При этом
Николай Павлович утверждал, что в Казани образовалась значительная группа
студентов-академистов, желавших учиться, а не заниматься политикой. «Наш
нравственный долг, - полагал он, - возобновить занятия. Тогда не будут го-
ворить о забастовке профессоров. Если занятия не пойдут, то не по нашей
вине»20.
В сентябре 1906 г. в открывшийся после вынужденного перерыва Казан-
ский университет поступило 1 500 прошений. С 18 марта 1906 г. в число сту-
дентов разрешалось принимать выпускников духовных семинарий, снимались
ограничения для приёма лиц, окончивших гимназии в иных учебных округах,
в качестве вольнослушателей допускались женщины21.
17
Исаков А.П., Исаков Е.П. Летопись Казанского государственного университета (история
в фактах, подтверждённых документами). Т. I. 1804-1945. Казань; Лондон, 2004. С. 216-218.
18
Очерки истории Казанского университета. Казань, 2002. С. 148. В последующие годы заня-
тия также неоднократно прерывались и восстанавливались с большим трудом.
19
ГА РТ, ф. 977, оп. Совет, д. 11309, л. 6.
20
Там же, д. 11308, л. 9-18.
21
Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX - начале ХХ века. М., 1991. С. 253-256.
См. также: Иванов А.Е. Студенчество России конца XIX - начала ХХ в.: социально-историческая
судьба. М., 1999.
103
Однако настроение студенчества осенью 1906 г. по-прежнему оставалось
революционным, и сходки регулярно проводились в течение всего 1906/07 учеб-
ного года22. На одной из них 16 октября постановили организовать Совет ста-
рост (или союзный совет) - беспартийную академическую организацию, ко-
торая оказывала бы материальную поддержку политическим преступникам из
бывших студентов.
20 декабря 1906 г. Кауфман принял делегацию казанских профессоров,
в которую помимо ректора входили Е.Ф. Будде и А.А. Пионтковский. Поль-
зуясь случаем, Загоскин изложил министру мнение либеральной профессуры
о студенческом движении. Он не только не отрицал политизированности сту-
денчества, но и признавал её естественной и неустранимой при том состоя-
нии, в котором находилось русское общество. Преследуя и отчисляя студентов
на этом основании, высшая школа, по мнению Николая Павловича, риско-
вала остаться без учащихся. Следовало, напротив, установить такой порядок,
при котором увлечения молодёжи не мешали бы академической жизни. Опыт
осеннего семестра в этом отношении казался ему обнадёживающим. Опасение
вызывало только мнительное вмешательство местной администрации, опираю-
щейся на ненадёжные сведения об университетских делах23.
Во время революции профессорская корпорация, которая отличалась до-
вольно сложными внутренними взаимоотношениями24, также раскололась по
партийному признаку.
«Левым» сторонникам
«Академического союза»25
противостояла группа из 17 «правых профессоров», образованная в феврале
1905 г. (Д.И. Нагуевский, М.И. Догель, Д.А. Корсаков, В.Ф. Залеский и др.).
Находясь в меньшинстве, правые активно демонстрировали своё несогласие
с действиями университетского руководства и в феврале-марте 1907 г. неодно-
кратно срывали заседания Совета. Загоскину оставалось только выражать «глу-
бокое сожаление по поводу партийной борьбы и партийных счёт, вносимых
в пределы университета как раз в ту тяжёлую пору его жизни, когда коллек-
тивные мысли и дело всех членов академической семьи, без различия полити-
ческих фракций и воззрений, должны были бы быть направлены на сохране-
ние не только достоинства, но и самого функционирования дорогого всем нам
высшего учебного учреждения»26. 3 сентября 1908 г. ректор обратил внимание
членов Совета на то, что в 1907/08 учебном году более половины заседаний не
состоялись из-за отсутствия кворума27.
22
Подробнее см.: Локтева А.Ю. Влияние политических партий России на студенчество Каза-
ни начала ХХ века. Дис. … канд. ист. наук. Казань, 2003.
23
Корбут М.К. Указ. соч. Т. 2. С. 241. Кроме того, Загоскин встречался с Кауфманом 21, 25
и 26 декабря, а 29 декабря 1906 г. принял участие в совещании ректоров под председательством
товарища министра О.П. Герасимова.
24
Об одном из острых конфликтов конца XIX - начала ХХ в. см.: Дело отставного профессо-
ра Казанского университета А.Н. Хорвата. Оскорбление на бумаге чести ректора К.В. Ворошилова.
С предисловием А.Н. Хорвата. М., 1904. Подробнее см.: Усманова Д.М. Профессора и выпускники
Казанского университета в Думе и Госсовете России. 1906-1917. Казань, 2002. С. 40-43.
25
19 января 1905 г. 342 учёных, профессоров и приват-доцентов российских университетов
опубликовали записку «О нуждах просвещения», требуя полного переустройства высшей школы,
политических свобод и созыва народного представительства. Эти принципы и идеи легли в основу
программы «Академического союза», первый учредительный съезд которого состоялся в марте.
Весной 1905 г. он объединял в своих рядах более 1 550, в августе - 1 650, в ноябре - 1 800 человек
(История Казанского университета. Казань, 2004. С. 223-224).
26
ГА РТ, ф. 977, оп. Совет, д. 11447, л. 37-40.
27
Корбут М.К. Указ. соч. Т. 2. С. 250.
104
Особую неприязнь у студенчества и либеральных коллег вызывал профес-
сор В.Ф. Залеский (1861-1922), с декабря 1905 г. - создатель и бессменный
председатель Казанского царско-народного русского общества. Этот «консер-
ватор, монархист, русский националист и юдофоб», как он сам себя харак-
теризовал, отличался чрезвычайно конфликтным характером28. На юридиче-
ском факультете открыто поддерживать его осмеливался только Догель. Левые
студенты бойкотировали его лекции и освистывали тех сокурсников, которые
решались их посещать. На сходке 16 октября они приняли решение не вносить
деньги через университетского казначея А.Т. Соловьёва (лидера казанского от-
дела «Союза русского народа») и не слушать Залеского. При этом собравшиеся
просили Совет отстранить обоих от исполнения их обязанностей.
В 1906-1907 гг. Залеский опасался посещать университет, оказавшийся во
власти разнузданной молодёжи, фактически перестал ходить на службу, игно-
рировал заседания Совета и другие общеуниверситетские мероприятия и читал
лекции у себя дома. Там же, в нарушение всех правил, принимались экзамены,
на которых присутствовали лишь Залеский и Догель. 29 мая 1907 г. на заседа-
нии совета юридического факультета трое из пяти профессоров высказались
за признание их результатов недействительными29. Однако Залеского поддер-
жал попечитель учебного округа, а в министерстве потребовали вторичного
обсуждения проблемы, и в ноябре 1907 г. большинством голосов (против вы-
ступил лишь профессор В.В. Ивановский) было решено в виде исключения не
оспаривать поставленные на дому оценки. Сторонники компромисса полагали,
что «было бы несправедливо поставить студентов, подвергшихся испытаниям
у профессора В.Ф. Залеского, в затруднительное положение, вследствие нару-
шения профессором определений факультета о порядке производства испы-
таний». В то же время члены совета юридического факультета постановили
считать прочитанные Залеским на дому курсы несостоявшимися, а гонорары,
внесённые за них, вернуть студентам, доведя до их сведения, что в дальнейшем
занятия, проходящие на профессорских квартирах, будут рассматриваться как
не имеющие отношения к университетским30.
В сентябре 1908 г. на курс Залеского «Энциклопедия и история философии
права» записались не более полутора десятка студентов, однако на его первую
лекцию пришли свыше 700 человек, на вторую - около 200. Профессору не
давали говорить, его антисемитские высказывания вызывали негодование, вы-
ражавшееся криком и свистом. Несмотря на шум, Залеский дочитал до конца
и ушёл под оскорбительные выкрики31. «Обзорные лекции», включённые За-
леским в данный курс, были посвящены таким сюжетам, как «либерализм»,
«парламентаризм», «франкмасонство», «иудейская золотая кабала», «о матери-
ализме и жизни духа», «учение славянофилов», «национальные конституции
(английская, германская, русская/самодержавие)» и т.п. Декану юридического
факультета Ю.Ф. Дормидонтову с трудом удалось убедить профессора на неко-
торое время приостановить эти чтения, пообещав защитить его от обструкции,
28
Владислав Францевич Залеский. Опыт характеристики. Харьков, 1914. С. 2. Подробнее
о столкновениях Залеского с одним из его «заклятых врагов» - кадетом Г.Ф. Шершеневичем см.:
Усманова Д.М. Депутаты от Казанской губернии в Государственной думе России. 1906-1917. Ка-
зань, 2006. С. 405-407.
29
ГА РТ, ф. 977, оп. Юридический факультет, д. 1130, л. 48-49.
30
Там же, л. 86-87.
31
Там же, ф. 1, оп. 5, д. 1104.
105
когда возникшее возбуждение пройдёт32. Впоследствии слушатели допускались
в аудитории на лекции Залеского исключительно по предварительной записи.
Загоскин при обсуждении этого «казуса» на заседании Совета старался не всту-
пать в открытый конфликт, проявляя такт и терпимость, несмотря на сильную
личную взаимную неприязнь и периодические публичные выпады со стороны
Залеского.
1 января 1908 г. Министерство народного просвещения возглавил А.Н. Шварц,
по инициативе П.А. Столыпина выступавший за «деполитизацию» средней
и высшей школы, против создания в учебных заведениях молодёжных ор-
ганизаций (не только революционных и либеральных, но и монархических)
и допуска в университеты женщин. При этом он отстаивал сохранение про-
центной нормы для евреев. 16 мая циркуляром министра при приёме в уни-
верситеты отменялись льготы для семинаристов, а женщинам воспрещалось
поступать в число вольнослушателей (этот запрет был отменён уже 29 октября).
Это вызвало острое недовольство общественности. Вместе с тем предписы-
валось установить «определённое количество студентов на всех факультетах,
отделениях и курсах в зависимости от вместимости аудиторий и действитель-
ной возможности беспрепятственных занятий во всех учебно-вспомогательных
учреждениях»33.
На протяжении 1908 г. Казанский университет, как и другие, сотрясали
студенческие волнения34. Пытаясь вынудить правительство отменить введён-
ные ограничения, радикальная молодёжь устраивала митинги и собрания, рас-
пространяла прокламации, бойкотировала занятия и экзамены, подвергала об-
струкции «отступников» из числа учащихся и «правых» профессоров. Наиболее
многочисленные сходки состоялись 17 и 18 февраля (на них сошлось до тысячи
протестовавших, из которых около 70 подверглись арестам), 29 февраля (её ор-
ганизовали в перерыве между двумя лекциями профессора Н.Н. Фирсова, со-
брав около 200 студентов), 31 марта (задержано и переписано 368 участников).
21 апреля беспорядки, инициированные сторонниками бойкота, закончились
вызовом полиции, задержавшей 162 человека. Агитация постоянно росла, по-
рождая агрессию, и вскоре, по донесениям ректора, служитель, пытавшийся
снять со стены очередную прокламацию, «едва не был избит студентами»35.
Впрочем, иногда Загоскину приходилось оправдываться перед начальством
за вполне невинные мероприятия. Так, в феврале 1908 г. в университете были
объявлены публичные лекции профессора Д.Н. Зейлигера по технической ме-
ханике. Однако полиция и администрация сочли, что тем самым возникает
«опасность вхождения улицы в университет». Ректор тщетно доказывал, что
данный курс задуман для поощрения «трудолюбия производительного класса
и распространения технических знаний», - его, как и другие публичные лек-
ции, запретили читать в университетских стенах36.
В 1908 г. положение Загоскина стало исключительно сложным. Его при-
зывы к «благоразумной» части студенчества и его обращение к полиции за
помощью в наведении порядка (в частности, для разгона сходки 29 сентября)
32
Там же, л. 31, 47-48.
33
Там же, ф. 977, оп. Совет, д. 11564а, л. 188 об.-192.
34
Практически ежедневные рапорты полиции о ситуации в университете см.: ГА РТ, ф. 1,
оп. 5, д. 1102-1105.
35
Там же, д. 1102, л. 31.
36
Там же, л. 50-55.
106
вызывали ещё большее негодование и протесты учащихся и подорвали попу-
лярность и авторитет ректора в левых кругах. Одна из сходок постановила «вы-
разить ректору порицание за неумение отстаивать права университета, требо-
вать от ректора отставку его»37. В «Открытом письме», датированном 30 октября
1908 г., отпечатанном гектографическим способом, говорилось: «Мы объявля-
ем Вам, что нравственно Вы окончательно дискредитировали себя в глазах сту-
денчества, и мы обращаемся к Вам как к обыкновенному представителю поли-
цейской насильственной власти»38. В других прокламациях «ректора-хулигана»
осуждали ещё резче: «Вызвав полицейскую свору и солдат, наши выборные
представители умывают руки, передавая расправу его опричникам»39. Учащих-
ся призывали протестовать «против такого поведения нашей университетской
администрации, которая деморализует студенчество»40. Завершить учебный год
удалось с большим трудом. К этому времени Николай Павлович испортил от-
ношения с попечителем учебного округа А.Н. Деревицким, сомневавшимся
в «лояльности» ректора и плохо скрывавшим недовольство его деятельностью.
Руководя университетом в обстановке перманентных массовых студенческих
сходок и забастовок, Загоскин старался сохранить шаткое равновесие, избе-
жать репрессий и кровопролития, не роняя авторитет казанской профессуры
и не доводя дело до нового прекращения учёбы на длительное время. Однако
он оказался между двумя непримиримыми сторонами, и его попытки лавиро-
вать между администрацией и молодёжью вызывали раздражение и у одних,
и у других.
Между тем ещё в конце 1907 г. в Казанском университете была произ-
ведена ревизия, которой руководил Г.К. Ульянов, занимавший пост ректора
в Варшаве в 1899-1904 гг. 30 июля 1908 г. чиновники, завершив «обозрение
делопроизводства», представили в министерство своё обширное заключение.
В нём утверждалось, что с ноября 1906 по ноябрь 1907 г. Загоскин «проявил
полное нерадение в отправлении должности, имевшее своим последствием ви-
димые беспорядки во внутренней жизни учебного заведения, и оказал бездей-
ствие власти, не принимая в надлежащее время всех указанных и дозволенных
законом средств, коими он имел возможность предупредить и своевременно
прекратить незаконные студенческие сходки с участием лиц, университету по-
сторонних, обсуждение на этих сходках вопросов политических» и т.п. Кроме
того, как председателю Совета, ему инкриминировалось то, что он не опроте-
стовывал постановлений, «в которых все случаи явного нарушения студентами
порядка в университете оставлялись без всякого расследования и наказания
виновных», а в своих докладах представлял положение дел «в виде неполном
и неверном, умаляя значение и размер происходящих в университете студен-
ческих беспорядков», не донося о них «своевременно, с возможною полнотой,
ни попечителю, ни министру»41. Материалы ревизии не позволяли привлечь
ректора к суду, но служили формальным основанием для неутверждения его
в случае переизбрания на новый срок. По мнению М.К. Корбута, её проведе-
ние являлось предвыборным манёвром правой профессуры42.
37
Там же, д. 1103, л. 14-16.
38
Там же, д. 1104, л. 194-194 об.; Корбут М.К. Указ. соч. Т. 2. С. 261.
39
ГА РТ, ф. 1, оп. 5, д. 1104, л. 151-151 об.
40
Там же, л. 167-168.
41
Там же.
42
Корбут М.К. Указ. соч. Т. 2. С. 258-259.
107
Тем не менее Загоскин демонстрировал готовность к компромиссу. 18 ав-
густа 1908 г. он принял участие в работе Особого совещания по вопросам,
связанным с постановкой дела в высших учебных заведениях Казани, в ко-
тором также заседали Деревицкий, вице-губернатор барон Н.А. Гревениц,
директор Ветеринарного института Г.П. Кириллов, прокурор Казанской су-
дебной палаты А.В. Степанов и полицмейстер А.И. Васильев. По настоянию
попечителя, Совещание решило ограничить допуск в университет вольнослу-
шателей и принимать их только при наличии свидетельства о благонадёжно-
сти, лишив каких-либо студенческих льгот и прав (в том числе возможности
участвовать в собраниях, сдавать экзамены и т.п.). Студенты впредь должны
были допускаться в университетские здания одетыми по форме и строго по
входным билетам с фотографией. Их собрания ограничивались двумя в день
во внелекционное время и с предварительной записью в книге предполагае-
мого предмета обсуждения, личных данных организатора и проч. Наблюдение
за законностью этих сходок и за всем, происходящим на них, возлагалось на
полицию. Все публичные лекции и мероприятия в стенах университета запре-
щались. Все землячества, советы старост и иные представительства распуска-
лись и уже не могли заниматься устройством концертов, спектаклей и прочих
увеселений, проводить денежные сборы и т.п.43 Но и такие уступки Загоскину
не помогли.
В марте 1909 г. истек трёхлетний срок, на который Николай Павлович
был избран ректором. На новых выборах, состоявшихся 4 февраля, за его пе-
реизбрание проголосовали 50 членов Совета против девяти. Это красноречиво
свидетельствовало о его авторитете среди коллег, включая и умеренно-правую
профессуру. Однако министр, ссылаясь на данные, обнаруженные ревизией,
отказался представить кандидатуру Загоскина на утверждение царя и просил
произвести новые выборы. Профессора могли лишь высказать сожаление о том,
что они лишены возможности и далее видеть Николая Павловича во главе уни-
верситета. По предложению Д.А. Корсакова и Н.Ф. Высоцкого ему выразили
глубокую благодарность «за высоко просвещённую и истинно гуманную дея-
тельность его в должности ректора». В то же время все признали «выходящим
за пределы компетенции Совета» обращение в министерство за разъяснением
причин неутверждения избранного ранее кандидата44. Характерно, что сменив-
ший его на посту ректора Дормидонтов трижды без проволочек утверждался
в должности - в 1909, 1912 и 1915 гг. Попытка же выбрать Загоскина прорек-
тором университета в 1910 г. вновь встретила сопротивление в министерстве45.
В 1910/11 учебном году Николай Павлович преподавал на Казанских выс-
ших женских курсах и даже стал их директором. Но уже осенью 1911 г. его
избрали членом Государственного совета от Академии наук и университетов
(вместо утратившего ценз А.А. Мануйлова). Заседавший в Государственном со-
вете с 1907 г. бывший казанский профессор А.В. Васильев вспоминал: «Для
Казанского университета и для Казани этот день был днём не только радости,
но и гордости. В Государственном совете открывалась для Николая Павлови-
ча возможность приложить и свои глубокие историко-юридические познания,
43
ГА РТ, ф. 1, оп. 5, д. 1104, л. 1-3 об.
44
Там же, ф. 977, оп. Совет, д. 11867, л. 15.
45
Исаков А.П., Исаков Е.П. Летопись Казанского государственного университета… Т. I.
С. 242-243.
108
и своё прекрасное и детальное знакомство с жизнью провинции в её многооб-
разных проявлениях»46.
На последнем заседании юридического факультета с участием Загоски-
на 20 октября 1911 г. исполнявший обязанности декана Ивановский заявил:
«Университет выборами Николая Павловича в члены Государственного совета
не может не гордиться, однако это сознание не заглушает в нас чувства сожа-
ления, что в лице хотя бы и временно покидающего Казань Николая Павло-
вича университет лишается талантливого профессора и старейшего товарища,
с которым факультет связан многолетними прочными узами». В ответ Николай
Павлович признал, что ему трудно навсегда порвать с учреждением, в стенах
которого он учился и преподавал более 35 лет. Поэтому ему хотелось сохра-
нить с ним связь, оставшись членом общеуниверситетского и факультетского
советов47.
Едва оправившись от перенесённой болезни и сложной операции (актино-
микоза), 26 октября Загоскин с семьёй переехал в Петербург. В Государствен-
ном совете он вошёл в Левую (академическую) группу (в ней состоял и Васи-
льев), был включён в ряд комиссий и энергично готовился к дебатам о реформах
в Финляндии и выделении Холмщины в отдельную губернию, неоднократно
посещая заседания Думы, посвящённые обсуждению этих проблем48. Товари-
щи возлагали на него большие надежды, ожидая ярких выступлений. Васильев
полагал, что «он говорил бы в Государственном совете, вероятно, и в защиту
приказчиков от обременения их продолжительным рабочим временем, и по
вопросу о мерах по ограничению пьянства, и по вопросу о преобразовании го-
родских училищ, и по многим другим вопросам городской жизни, с которыми
он познакомился в последнее время как гласный городской думы ещё ближе»49.
В конце декабря, на рождественские каникулы, Николай Павлович в по-
следний раз побывал в Казани. Ученики и друзья нашли его тогда замечательно
выглядевшим и вполне оправившимся от болезни. В лаконичных, но образных
и остроумных выражениях он создавал удивительно похожие портреты вид-
ных думцев и сановников, делился впечатлением от «чарующего воздействия»
А.Ф. Кони и Н.С. Таганцева. О Казани Загоскин говорил теперь с некоторым
разочарованием, его очаровал Петербург, представший перед ним истинно «ев-
ропейским» городом, в котором чувствовался особый ритм жизни. По словам
И.И. Крыльцова, провожавшего своего учителя 29 декабря, тот «положительно
рвался» в столицу, говоря, что «в Петербурге жизнь»50. Уезжая «в Европу», За-
госкин обещал вернуться в Казань на пасхальные каникулы. Однако 6 февраля
1912 г. в 6 часов утра на 61-м году жизни он скончался от воспаления лёгких.
Похоронили его на Малоохтинском кладбище Петербурга.
Казанская и столичная пресса откликнулась на смерть Загоскина серией
мемуарных статей его друзей, коллег и учеников51. Открывая ближайшее фев-
ральское заседание факультетского совета, Ивановский констатировал: «В лице
46
Камско-Волжская речь. 1912. 12 февраля. № 33.
47
ГА РТ, ф. 977, оп. Юридический факультет, д. 1240, л. 80 об.-81.
48
Крыльцов И. Памяти учителя // Камско-Волжская речь. 1912. 11 февраля. № 32.
49
Камско-Волжская речь. 1912. 12 февраля. № 33.
50
Там же.
51
Н.П. Загоскин (некролог) // Камско-Волжская речь. 1912. 8 февраля. № 29; Хвостов М.М.
Николай Павлович Загоскин и Казанский университет // Там же; Корсаков Д.А. Памяти Н.П. За-
госкина // Там же. 11 февраля. № 32; Крыльцов И. Памяти учителя // Там же; Профессор
109
Николая Павловича юридический факультет потерял не только солидного и та-
лантливого учёного, но и такого члена факультета, который всегда в особен-
ности ревниво старался сохранять достоинство факультета… он был глубоко
проникнут чувством коллегиальности и корректности… В лице Николая Пав-
ловича мы потеряли глубоко симпатичного товарища, сердечного и одинаково
благожелательного ко всем своим коллегам. Будучи в высшей степени отзывчи-
вым в отношении всех, кто имел случай к нему обращаться, Николай Павлович
в то же время обладал сильной волей и нравственной стойкостью, благодаря
которой переживаемые им душевные драмы он никогда не делал предметом
внимания посторонних и всегда неизменно казался жизнерадостным. В лице
почившего товарища мы лишились человека нравственного и гуманного. По-
мянем же его добрым словом и пожелаем, чтобы добрая память о нём навсегда
осталась в нашем университете и в особенности в нашем факультете»52. В марте
на заседании Юридического общества, посвящённом памяти Н.П. Загоскина,
с речами и воспоминаниям о нём выступили М.М. Хвостов и И.И. Крыльцов53.
Г.Г. Тельберг, ставший к тому времени профессором Томского университе-
та, предложил собрать и издать все труды Николая Павловича, рассыпанные
по различным провинциальным изданиям. Но данный замысел, несмотря на
общее сочувствие, так и не удалось реализовать. Возможно, эта задача будет
решена исследователями творчества Н.П. Загоскина, которых ждёт ещё много
интересных находок и открытий.
А.В. Васильев о Н.П. Загоскине // Там же. 12 февраля. № 33; Болдов М. Памяти Н.П. Загоскина //
Там же. 7 апреля. № 77.
52
ГА РТ, ф. 977, оп. Юридический факультет, д. 1273, л. 15-15 об.
53
Камско-Волжская речь. 1912. 20 марта. № 64.
110