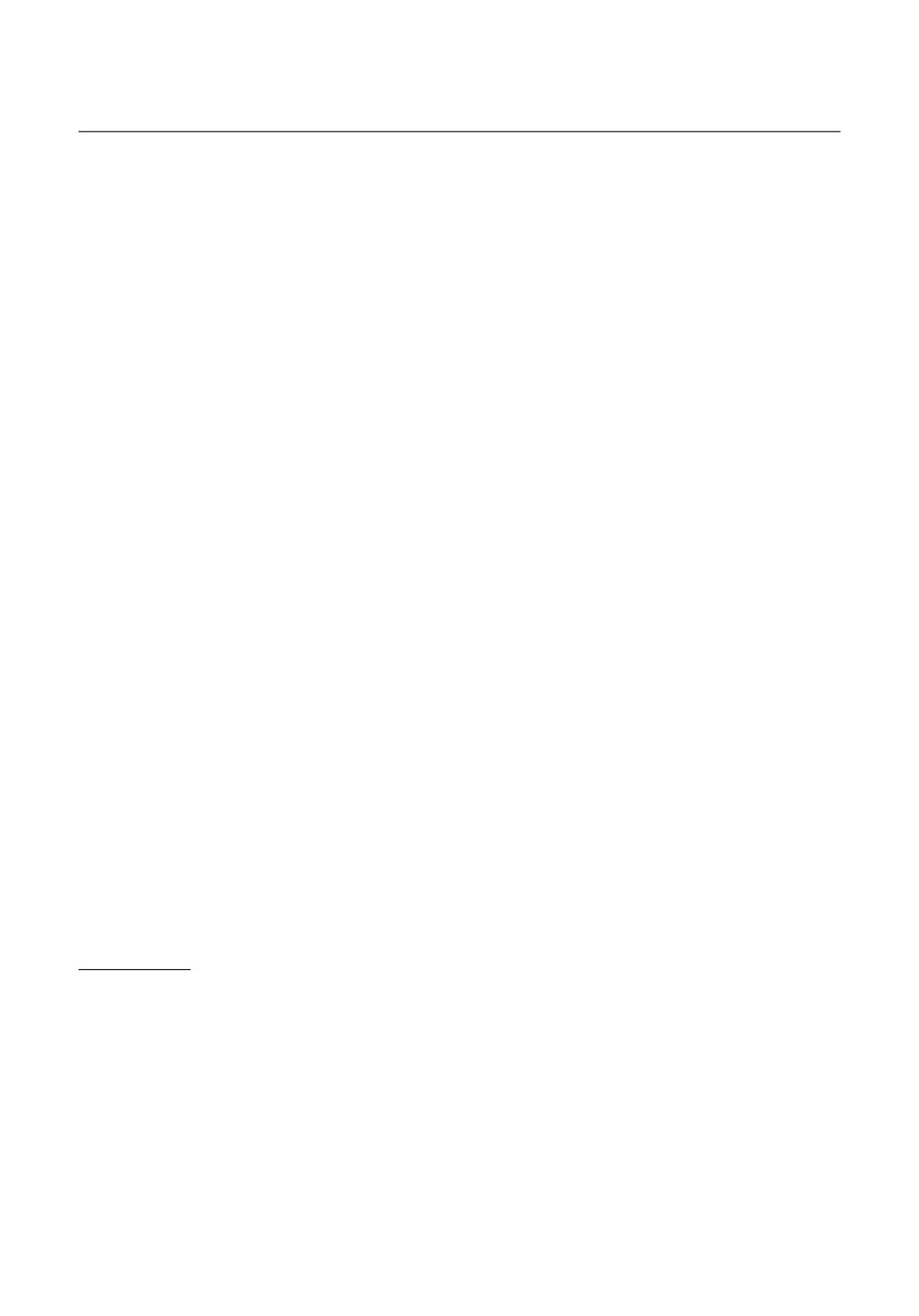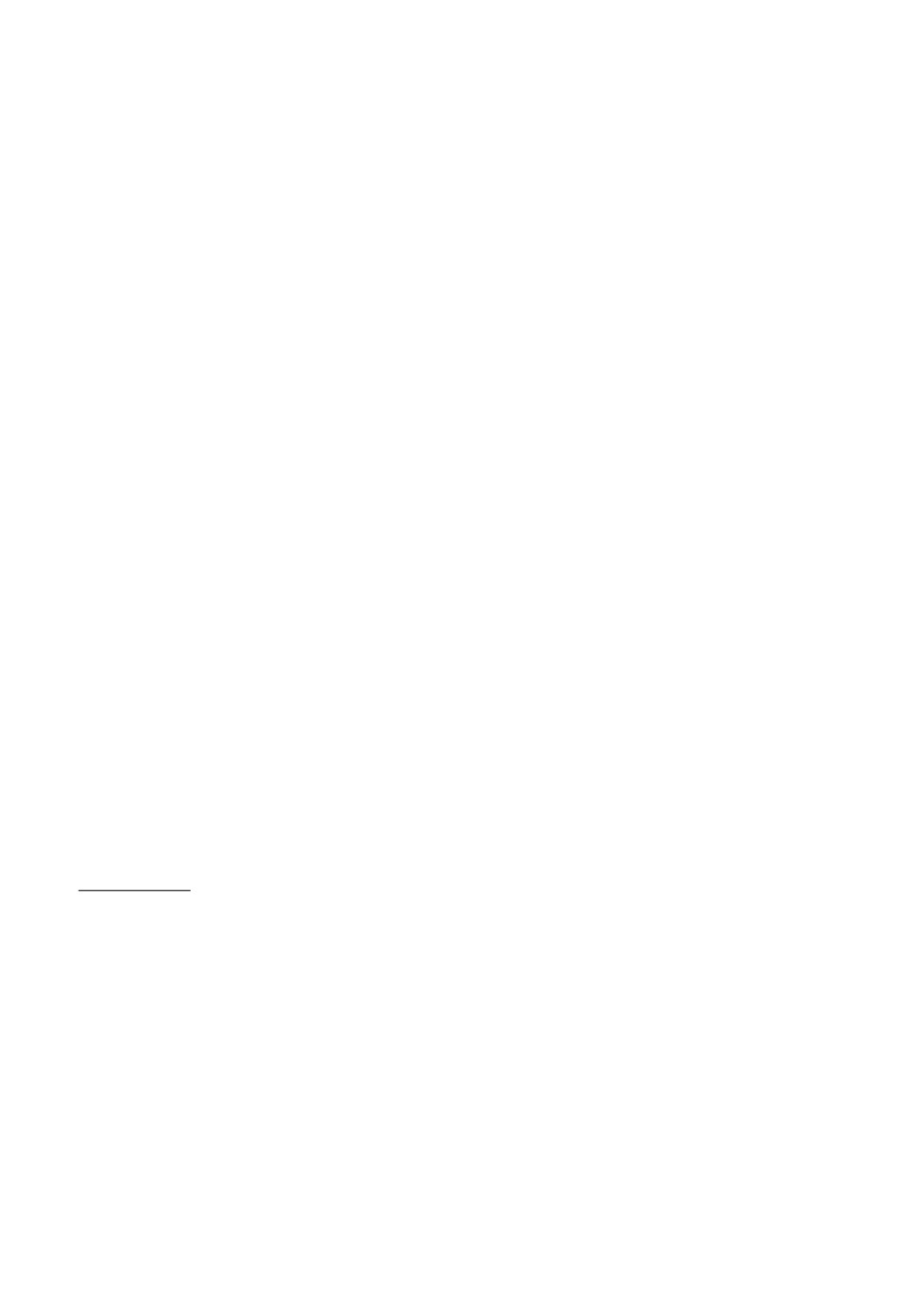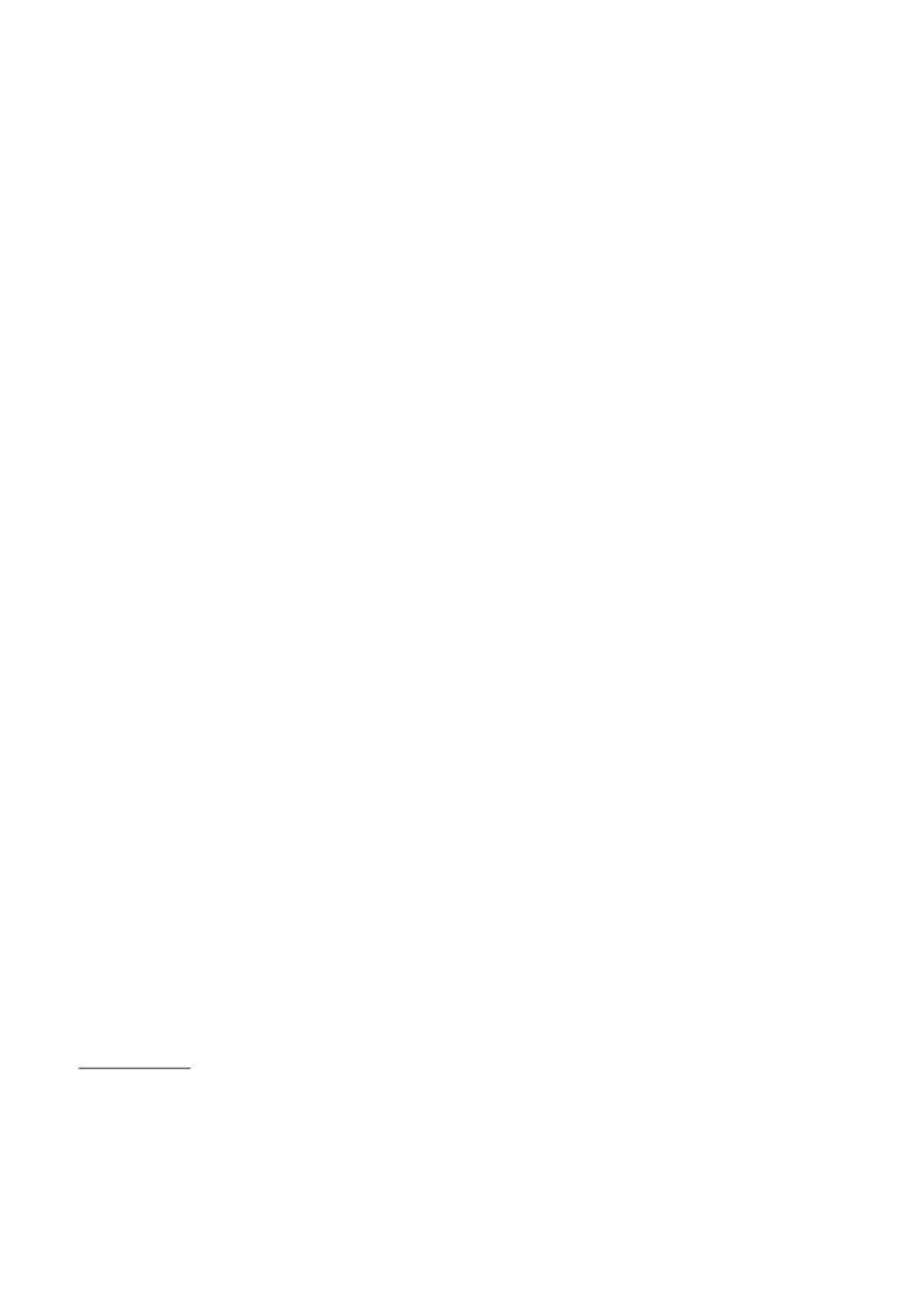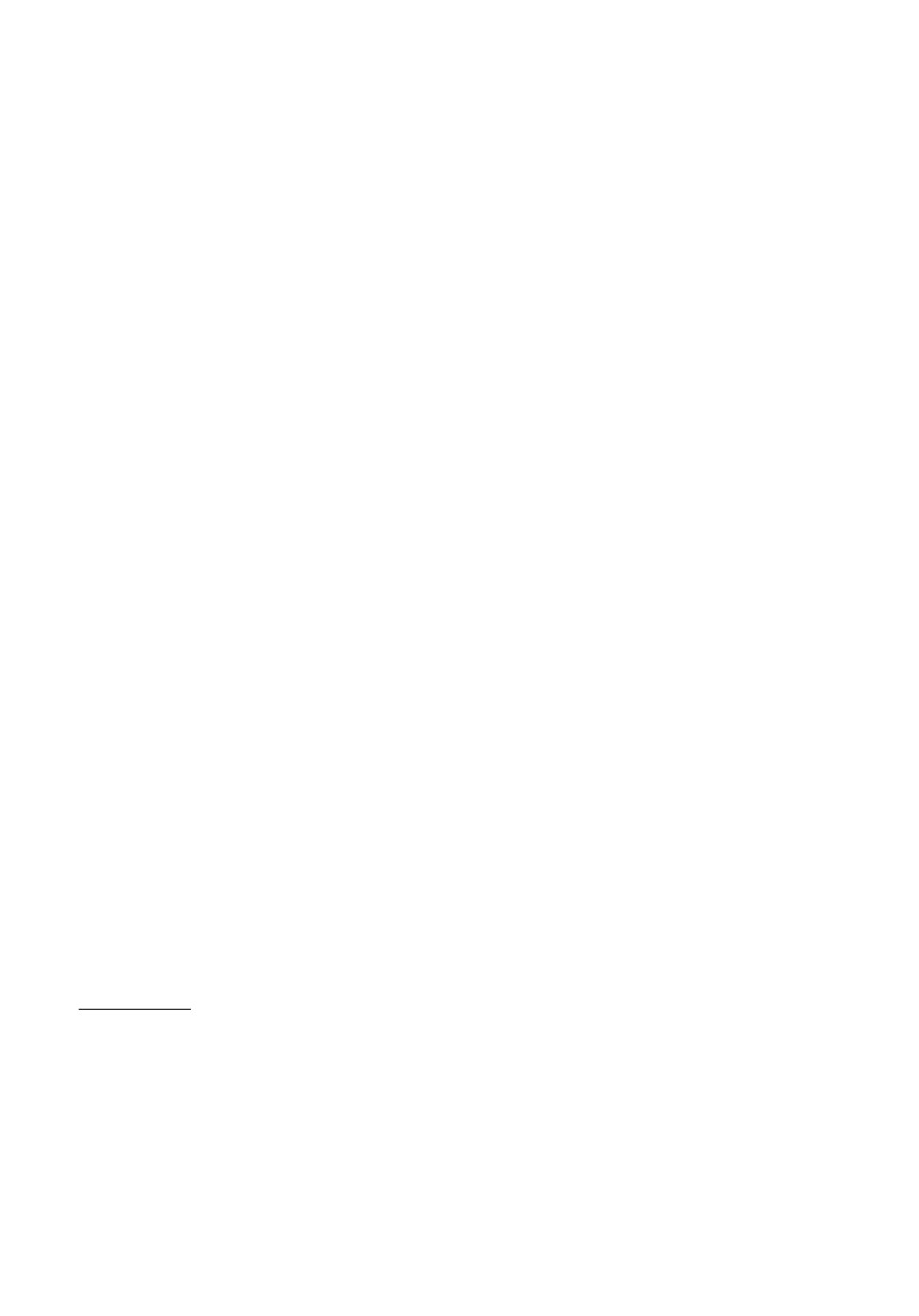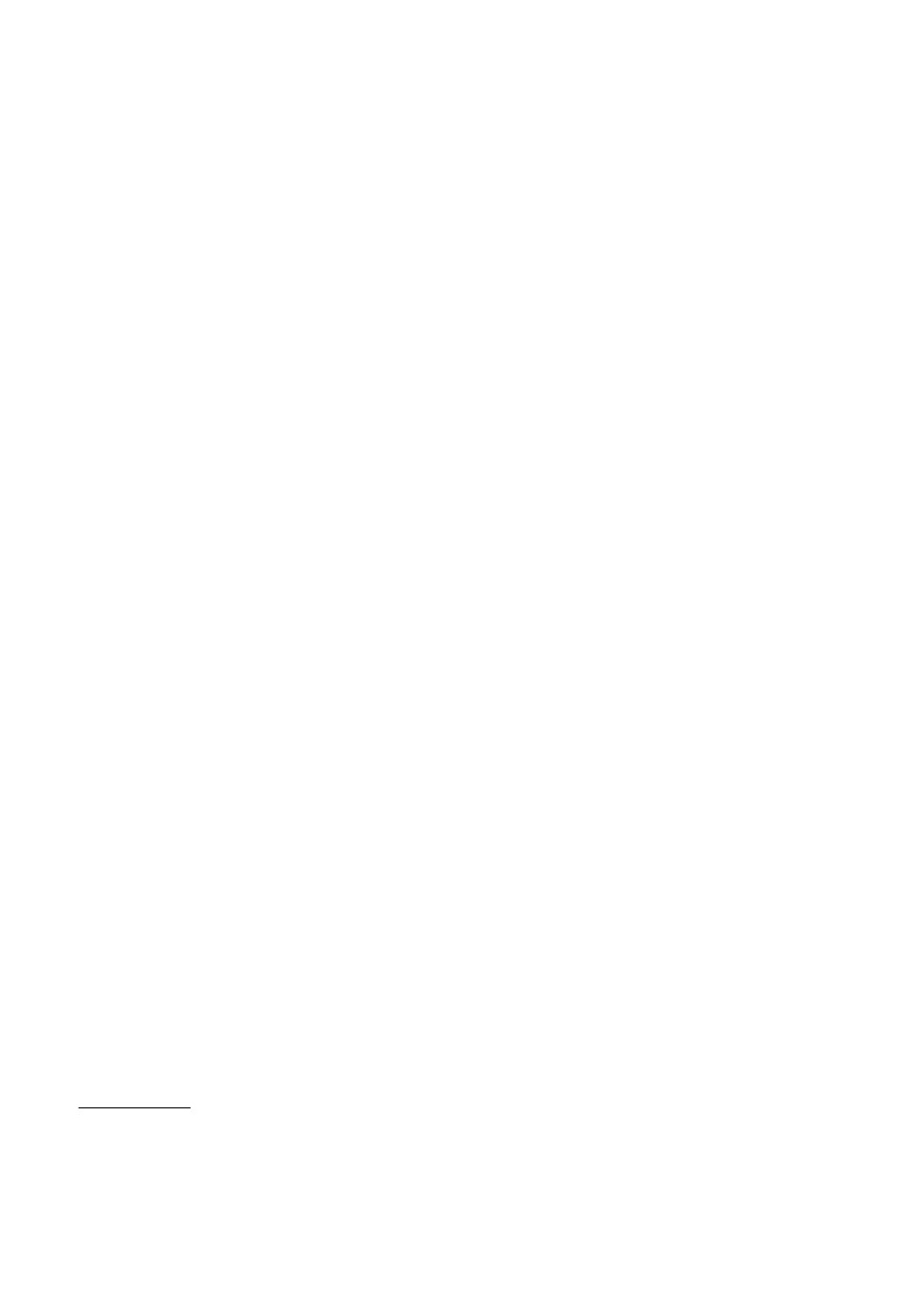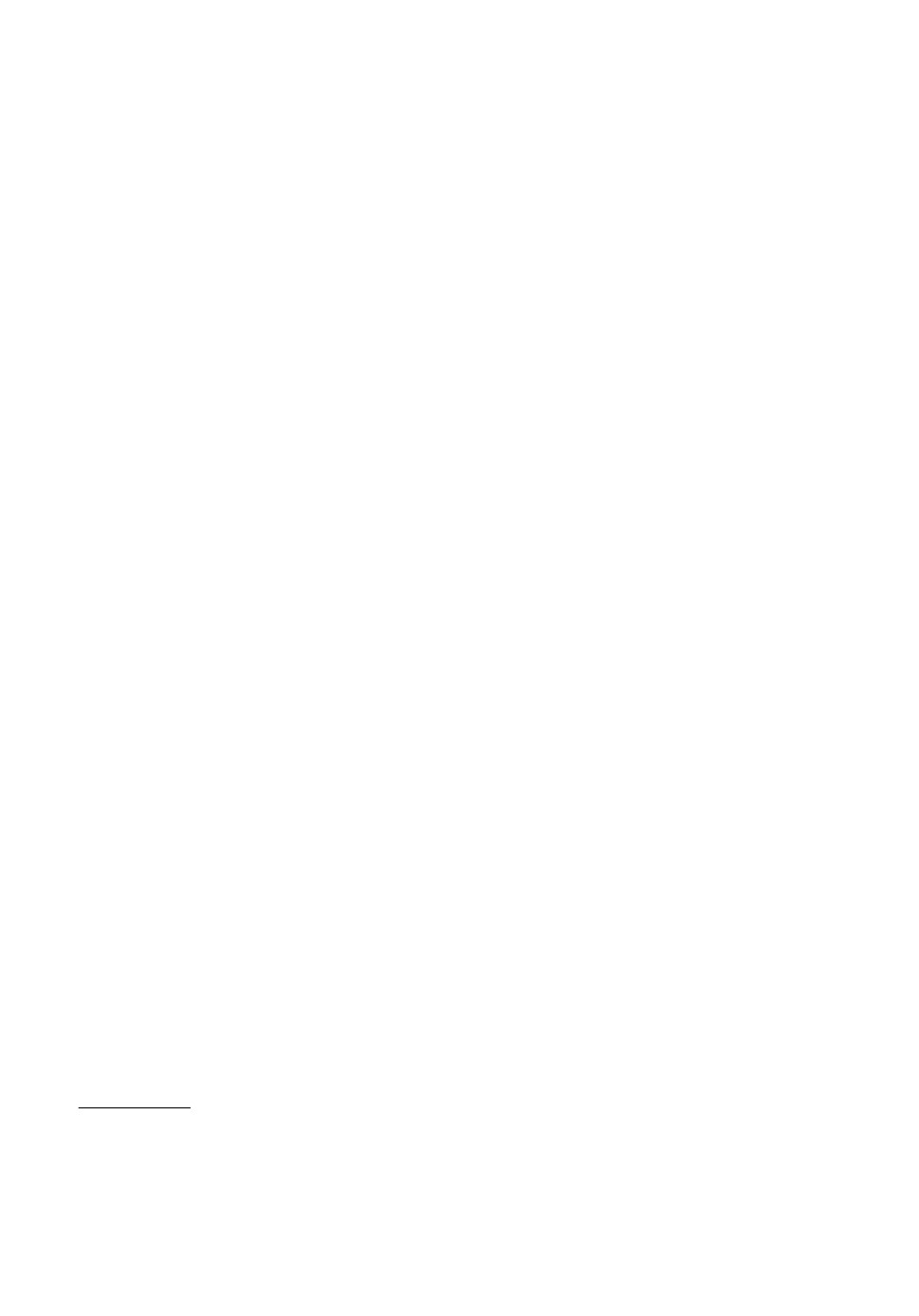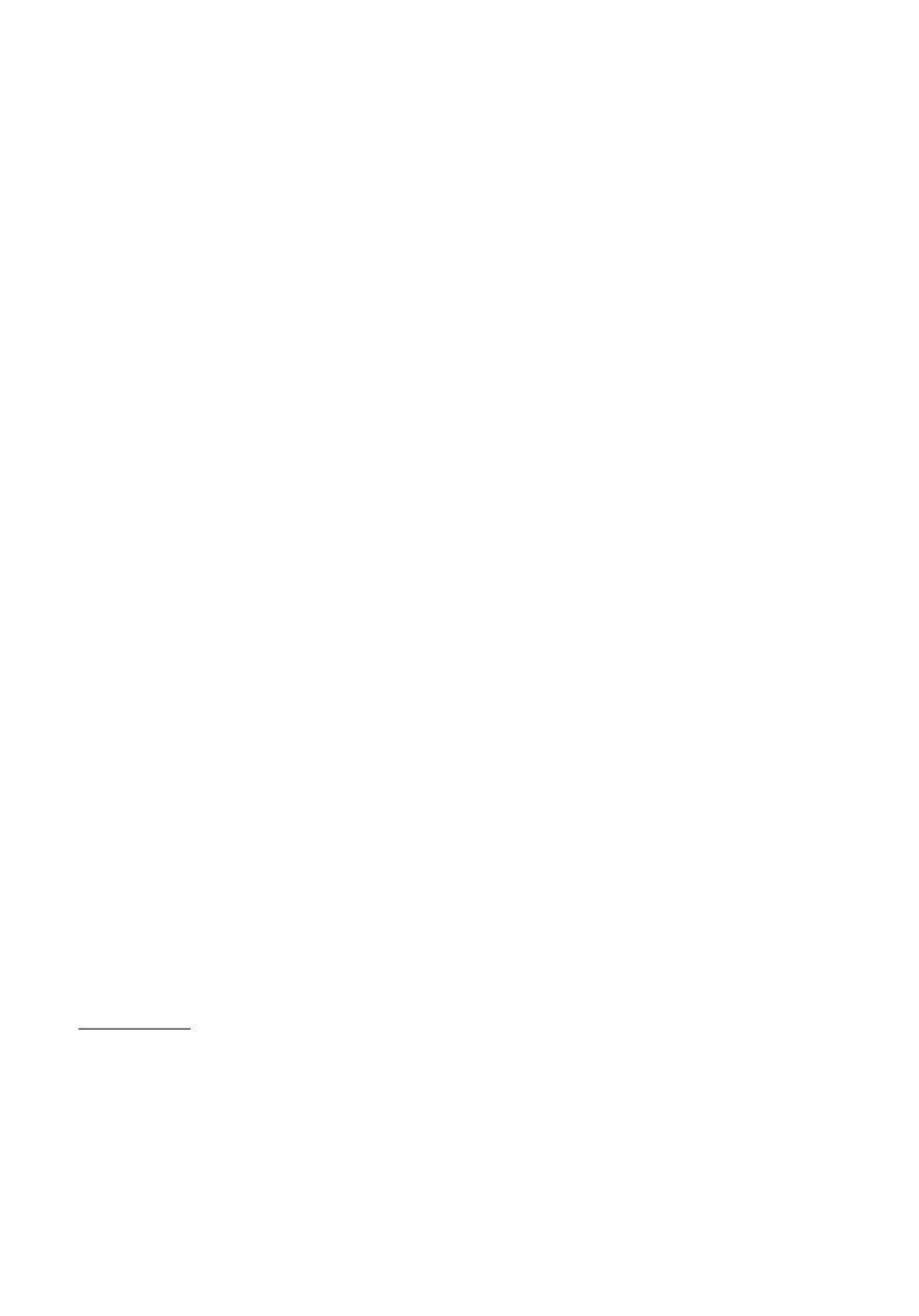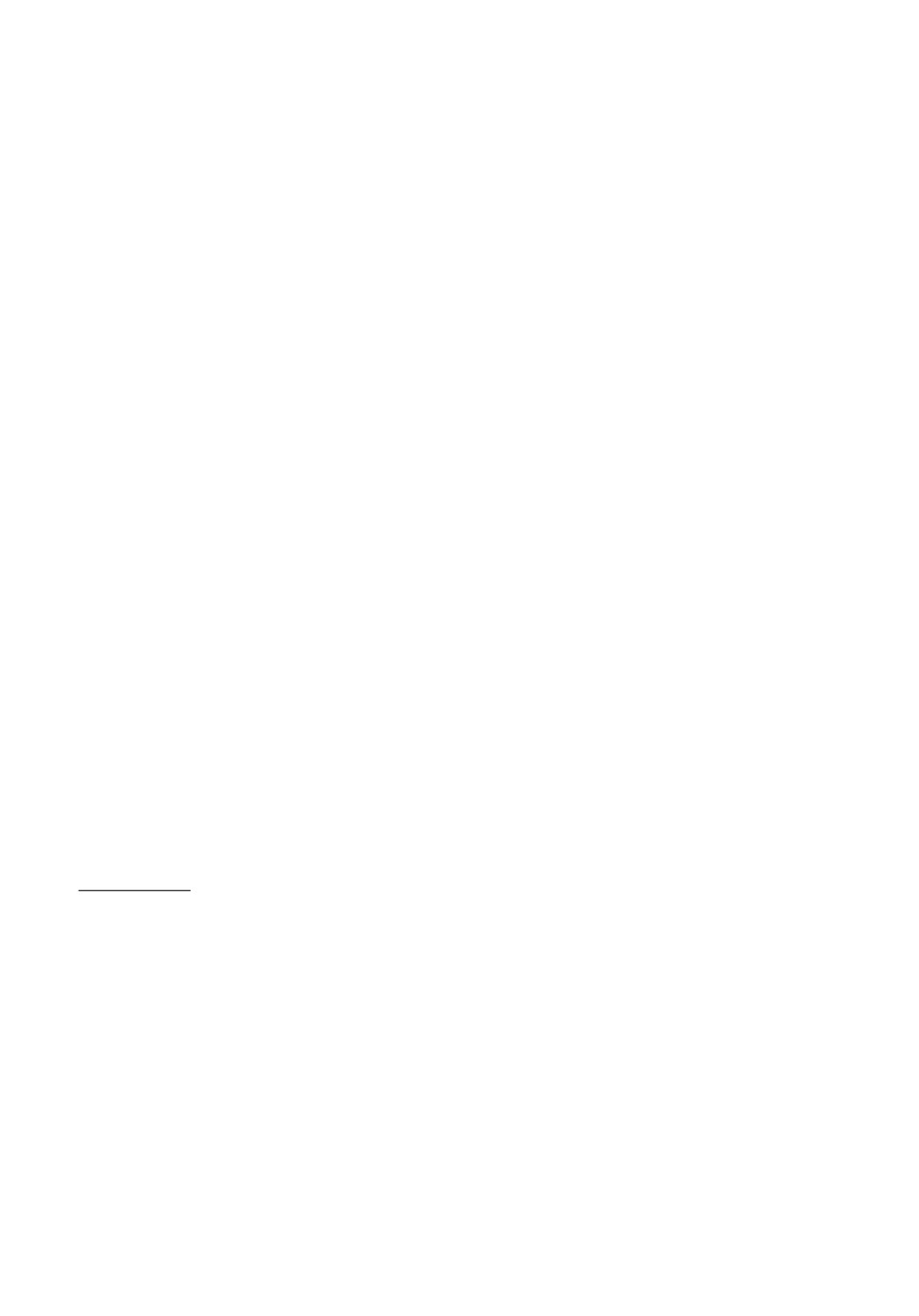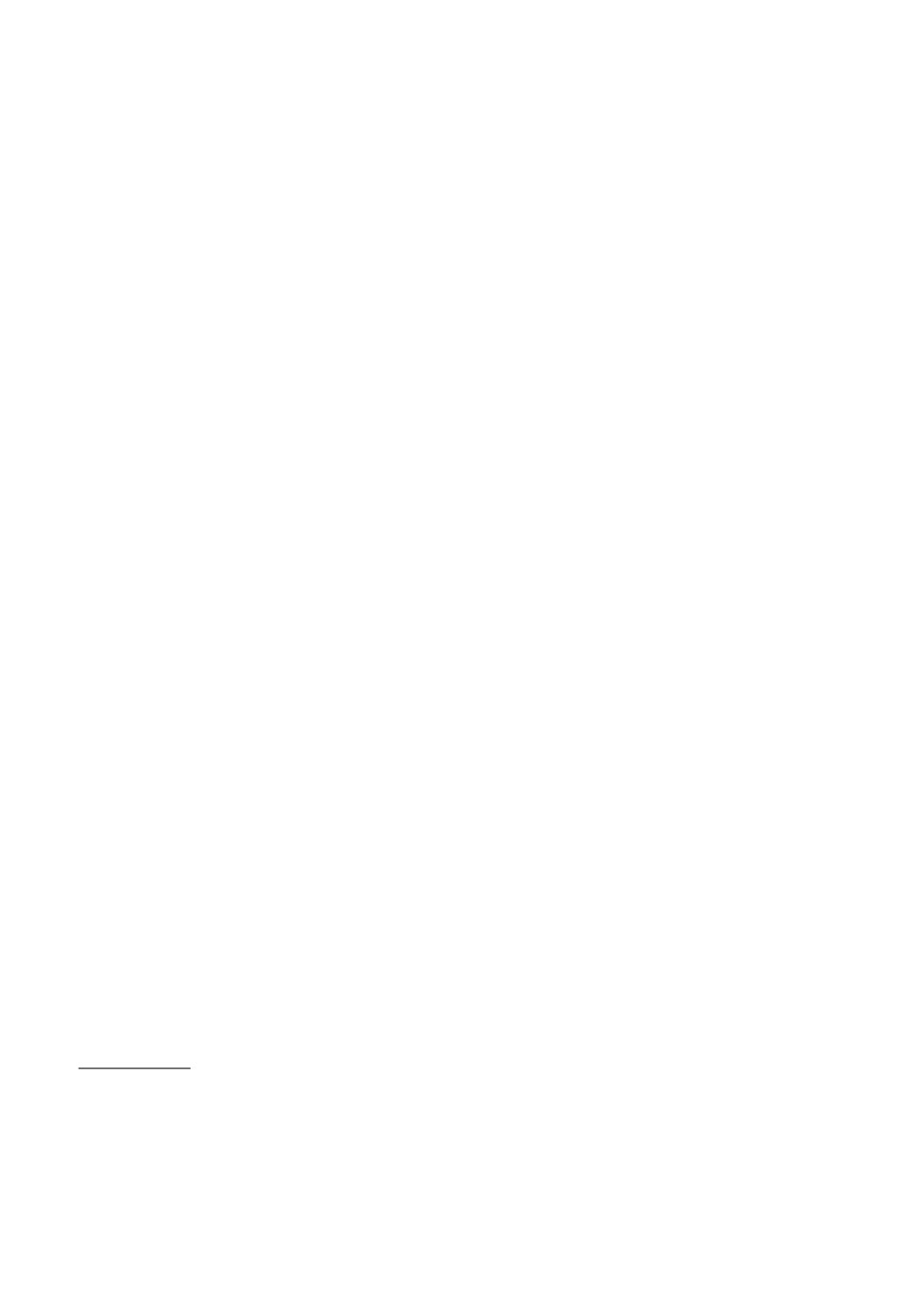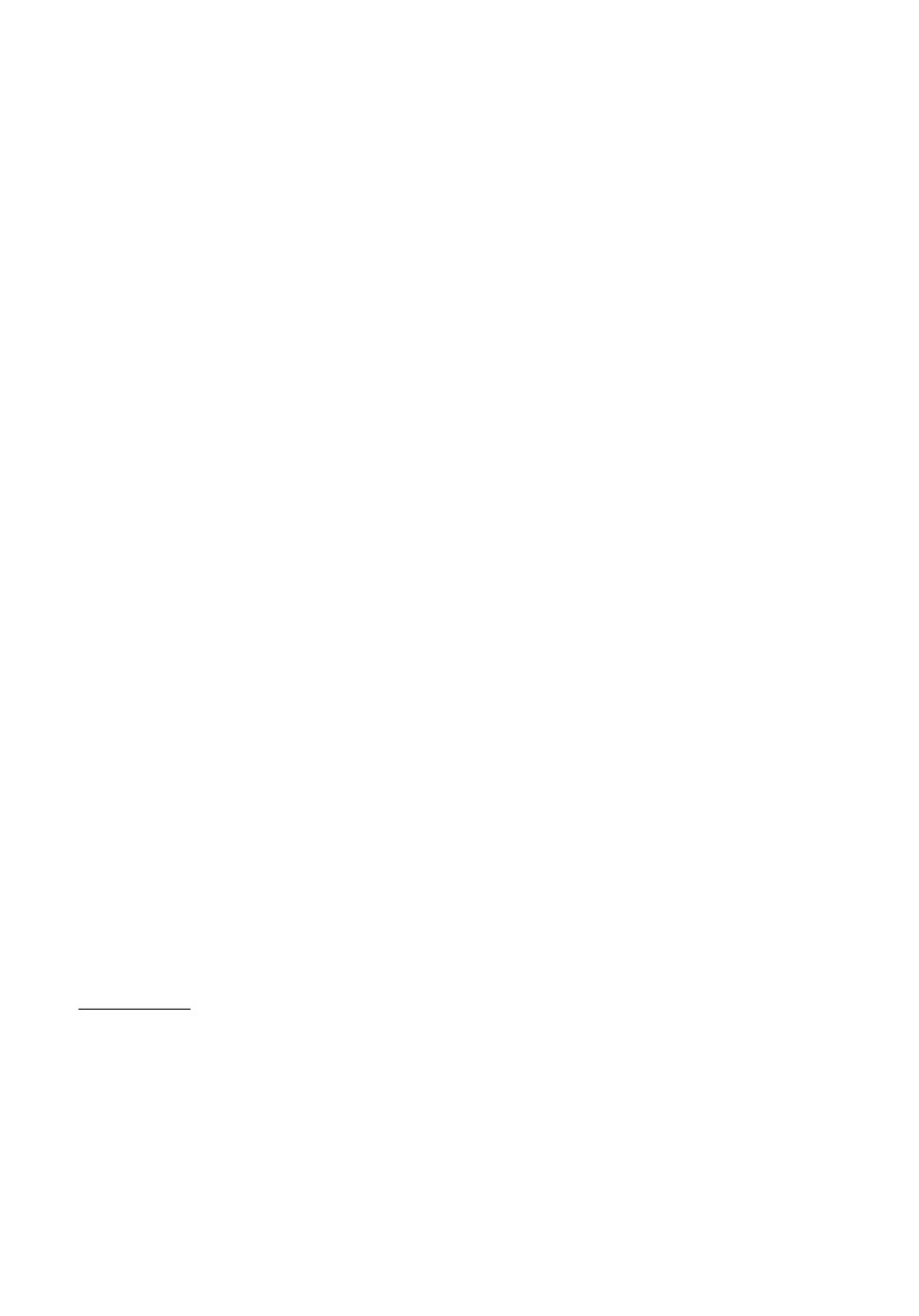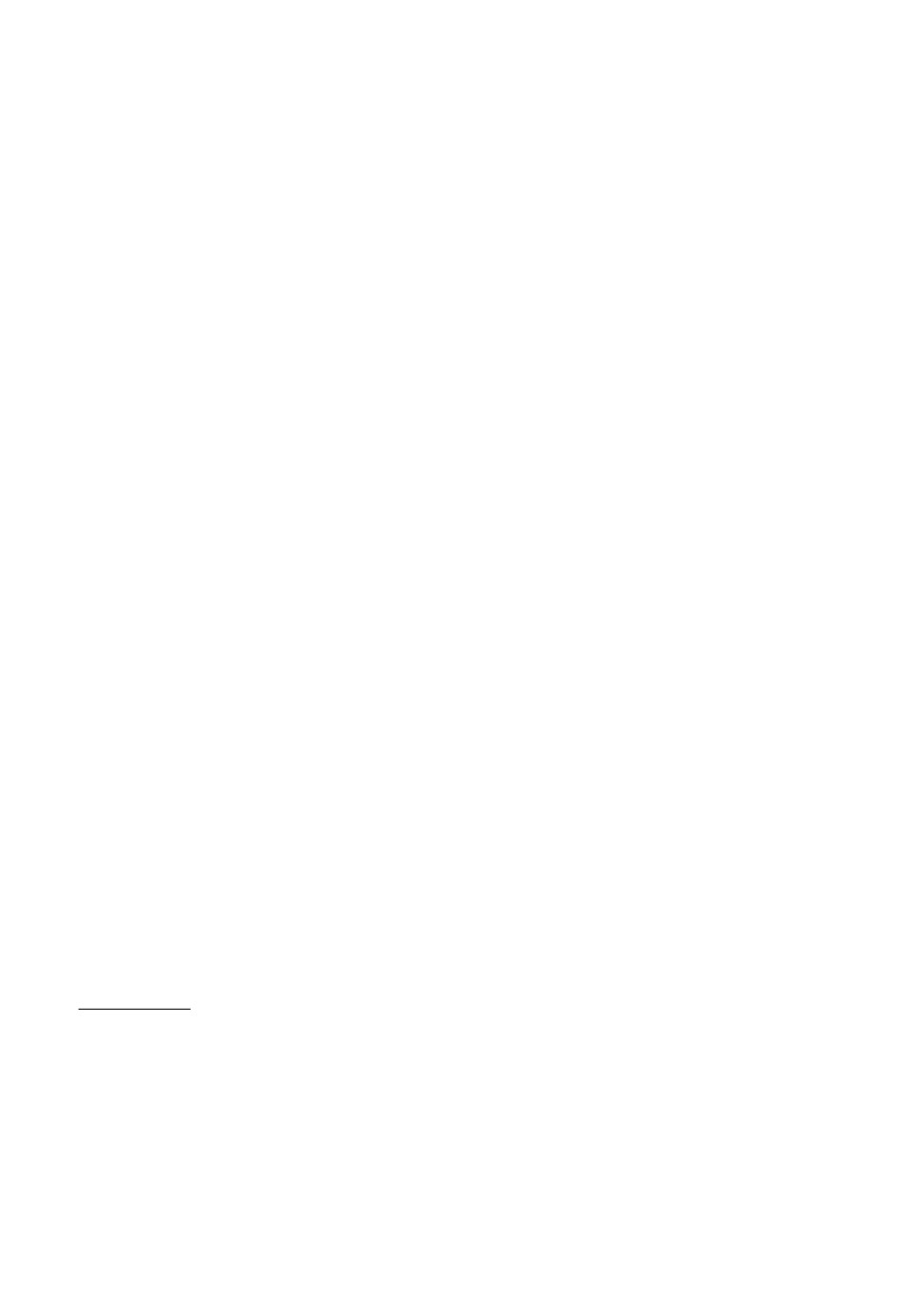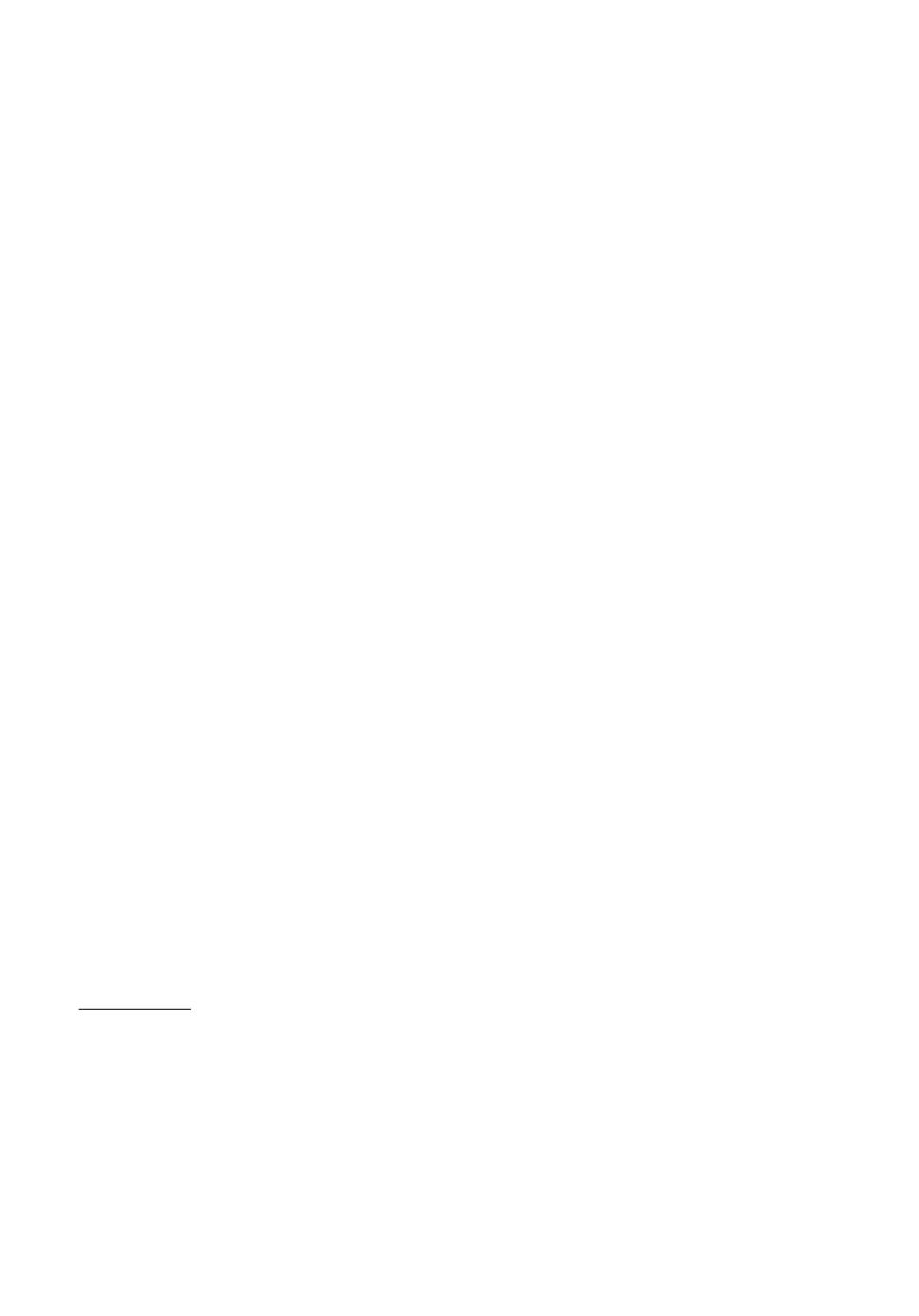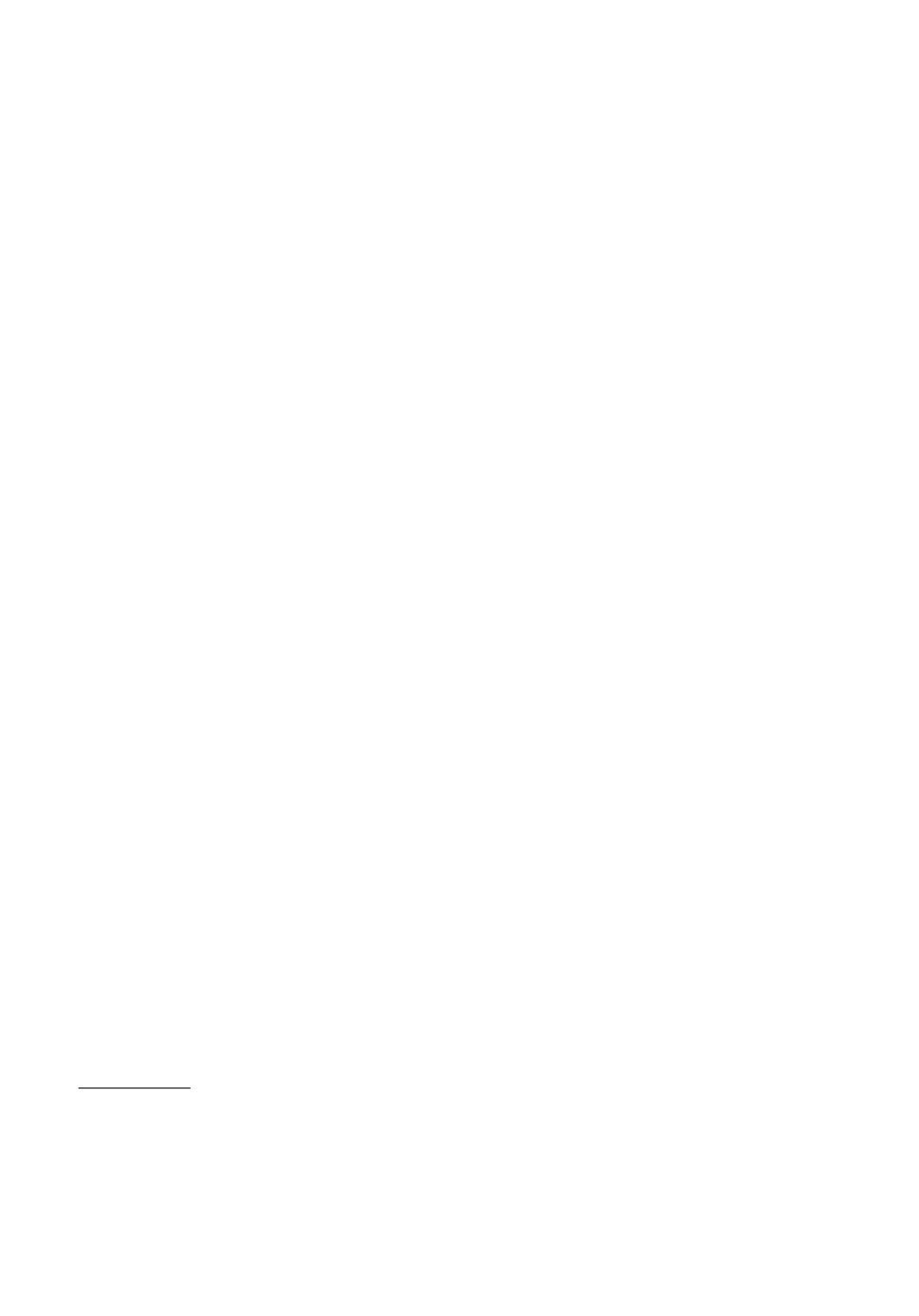Русский лес
Борьба с незаконными рубками леса на Европейском
Севере России в конце XVIII - первой половине XIX в.
(на материалах Вологодской губернии)
Олеся Плех
The fight against illegal logging in the European North of Russia
in the end of the 18th - first half of the 19th century
(on the materials of the Vologda province)
Olesya Plekh
(Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences, Moscow)
DOI: 10.31857/S2949124X23020098, EDN: BIREDA
Европейский Север России всегда славился запасами ценнейшей древеси-
ны. Государству он представлялся как «запасной магазин», который «с избыт-
ком и постоянно может снабжать различные части империи лесом», чему спо-
собствовали «многие реки, прорезающие этот край в разных направлениях»1.
Для населения региона, суровые климатические условия которого ограничива-
ли развитие хлебопашества, лес являлся важнейшим ресурсом жизнедеятельно-
сти, а связанные с ним промыслы составляли неотъемлемую часть хозяйствен-
ной культуры2. Между тем осознание необходимости бережного отношения
к этому природному ресурсу появилось далеко не сразу.
Впервые состояние лесного хозяйства обратило на себя внимание Петра I,
которого, впрочем, заботила прежде всего сохранность корабельных пород де-
ревьев. Однако инициированные им и его преемниками меры оказались недо-
статочны для обеспечения рационального лесопользования3. В царствование
Екатерины II предпринимались попытки внести в лесоустройство новшества,
основанные на научных знаниях. Но заведывание лесами на местах оказалось
в ведении казённых палат, а частным владельцам предоставлялось полное
право собственности на лесные угодья и разрешалась свободная торговля ле-
сом внутри и вне государства. В результате частные леса, освободившиеся от
государственной опеки, начали стремительно опустошаться. Положение дел
© 2023 г. О.А. Плех
1
Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. II. Ч. 3. Вологодская губерния /
Сост. П.К. Услар. СПб., 1850. С. 316.
2
Кроме заготовки леса и постройки разного рода барок и речных судов развивались дег-
тярное, пековаренное, смолокуренное, сажекоптильное, скипидарное, лесопильное производства.
Полученная продукция не только реализовывалась внутри страны, но и отправлялась за границу.
3
Подробнее см.: Врангель В.В. История лесного законодательства Российской империи
с присоединением очерка истории корабельных лесов России. СПб., 1841. С. 10-37; Шелгунов Н.В.
История русского лесного законодательства. СПб., 1857. С. 51-164; Истомина Э.Г. Лесоохрани-
тельная политика России в XVIII - начале ХХ в. // Отечественная история. 1995. № 4. С. 34-51;
Гребенщикова Г.А. Проблема сохранности корабельного леса в XVIII веке // Вопросы истории. 2007.
№ 12. С. 136-141; Лупанова Е.М. История закрепощения природного ресурса. Лесное хозяйство
в России 1696-1802 гг. СПб., 2017. С. 125-220.
111
осложнялось ещё и тем, что оставались неопределёнными границы казённых
и частных владений4. Всё это создавало благоприятные условия для противо-
правной деятельности5, наносившей значительный урон лесному фонду. В по-
следующие десятилетия борьба с этим явлением стала одной из важнейших
задач правительства.
В центре внимания настоящей статьи - незаконные рубки леса в Воло-
годской губ. в конце XVIII - первой половине XIX в., а также реакция на
них верховной власти и местных учреждений. В современной историографии
уделяется всё больше внимания подобным сюжетам, однако публикации, осно-
ванные на делопроизводственных материалах, по-прежнему единичны6. Между
тем исследование правонарушений, совершавшихся на Европейском Севере,
позволит заполнить многие лакуны в изучении правоприменительной практи-
ки в области охраны леса.
«Неистощимые запасы» древесины составляли главное богатство края7. Ка-
питан Генерального штаба П.К. Услар, участвовавший в 1840-х гг. в военно--
статистическом описании Российской империи, отметил, что «если бы можно
было окинуть взором Вологодскую губернию, то вся необъятная поверхность
её представилась бы нам в виде одного непрерывного леса»8. Он занимал,
по разным оценкам, от 36 до 40 млн га9, или более 95% её общей площади.
4
В ходе генерального межевания удалось снять только «окружные» межи.
5
В научной литературе утвердилась традиция негативной оценки лесоохранной политики
времён Екатерины II (см., например: Шелгунов Н.В. Указ. соч. С. 213-314; Чубинский В.Г. Исто-
рическое обозрение устройства управления Морским ведомством в России. СПб., 1869. С. 99;
Цветков М.А. Изменение лесистости Европейской России с конца XVII столетия по 1914 год.
М., 1957. С. 32-33; Тяпкин М.О. Государственная лесоохранная политика в Западной Сибири
в XVIII - начале ХХ в. Барнаул, 2019. С. 92-94). Однако ряд исследователей считают такой
подход не вполне обоснованным, полагая, что указы императрицы были нацелены прежде всего
на сохранение лесного фонда, а рубки обусловливались развитием торговли и промышленности,
несоблюдением законных требований подданными, отсутствием ресурсов для обеспечения ох-
ранных мероприятий, а также халатностью и взяточничеством чиновников, которым вверялся
надзор за лесными угодьями (см., например: Гребенщикова Г.А. Проблема сохранности корабель-
ного леса… С. 136-141; Лупанова Е.М. История закрепощения природного ресурса… С. 232-236;
Истомина Э.Г. Леса России: экологическая и социоэкономическая история (XVIII - начало
ХХ в.). М., 2019. С. 64-65).
6
Проблема незаконных рубок конца XVIII - первой половины XIX в. затрагивается главным
образом в ходе изучения государственной лесоохранной политики и истории лесного хозяйства
(см.: Молчанов Б.А. Законодательство об охране природы Европейского Севера России XVIII -
начала XX вв. Дис. … д-ра юрид. наук. Владимир, 2002; Каримов А.Э. Докуда топор и соха хо-
дили: очерки истории земельного и лесного кадастра в России XVI - начала XX века. М., 2007;
Насонова А.В. Правовое регулирование охраны природы в Российской империи (XVIII - начало
XX вв.). Дис. … канд. юрид. наук. М., 2012; Чураков Д.Б. Уголовно-правовая охрана леса в дорево-
люционном законодательстве // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации. 2016. № 2. С. 103-109; Лупанова Е.М. История закрепощения природного ресурса…; Исто-
мина Э.Г. Леса России…; Тяпкин М.О. Государственная лесоохранная политика…). Незаконные
рубки лесных насаждений как таковые редко выступают в качестве предмета исследования (см.,
например: Тяпкин М.О., Демчик Е.В. Характеристика самовольной порубки леса в исторической
ретроспективе // Известия Алтайского государственного университета. 2017. № 2. С. 145-152),
а архивные материалы, позволяющие оценить масштабы преступной деятельности, остаются прак-
тически неизученными.
7
По официальным данным, в Вологодской губ. находилось около 17-18% лесных ресурсов
Европейской части России (подробнее см.: Цветков М.А. Указ. соч. С. 90, 92).
8
Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. II. Ч. 3. С. 315.
9
Там же; Взгляд на Вологодскую губернию // Иллюстрация. 1847. № 27. Т. 5. С. 39.
112
«Господствующими» породами являлись сосна, ель, лиственница, кедр10. На
протяжении первой половины XIX в. все эти природные богатства оставались
практически необследованными и неизмеренными.
В научной литературе принято считать11, что к началу XIX в. Вологодская
губ. относилась к территориям, где леса «приведены в известность»12. Это пред-
ставление основывается на результатах работы, проделанной по запросу генерал--
прокурора А.Б. Куракина: 20 января 1798 г. вологодский губернатор Н.Д. Шетнев
получил предписание предоставить «обстоятельнейшее сведение о количестве
лесов, состоящих в губернии… дабы для сбережения всех лесов в России лучшие
предприняты были меры». Требовалось подготовить «ведомость» об адмиралтей-
ских казённых и корабельных, строевых, дровяных лесах, «к селениям казённым
примежёванных», и состоявших в помещичьих владениях («при пустошах и дру-
гих порозжих и отрезных по разным случаям от дач землях»)13. Иными словами,
запрашивалась информация о лесах, прилегавших к сёлам и землям, включён-
ным в хозяйственный оборот. Формулярные списки землемеров, исполнявших
это поручение, позволяют увидеть, что работа проводилась исключительно в гу-
бернской чертёжной, где хранились не отличавшиеся большой точностью опи-
сания лесных участков. Под руководством губернского землемера А.А. Точнева
все эти сведения попросту свели в две таблицы - о казённых и о частновладель-
ческих лесах14. Попытки выехать на место и выделить границы участков «в на-
туре» для уточнения данных даже не предпринимались. Тем не менее поручение
Куракина исполнили «самым поспешнейшим образом». К 10 марта ведомости
«сочинили»15, и хотя касались они лишь небольшой части лесного фонда гу-
бернии16, центральное правительство посчитало леса «приведёнными в извест-
ность» и не требовавшими дополнительного обследования17.
В последующие десятилетия необходимость картирования и описания лес-
ных массивов губернии становилась всё более очевидной. Но решение этой за-
дачи по-прежнему осложнялось многими факторами: бездорожьем, нехваткой
квалифицированных кадров, ограниченностью финансовых ресурсов, техниче-
ским несовершенством и эпизодичностью проводимых работ и проч. Совре-
менники отмечали, что даже к середине XIX в. «измерений, сообразных с тре-
бованиями науки, в Вологодской губернии произведено было весьма немного»,
«огромные [лесные] дачи… оставались необойдёнными, да и межевых ям, по
топкости грунта, утвердить не было возможности»18. Отсутствие точных данных
10
Взгляд на Вологодскую губернию… С. 39.
11
См., например: Истомина Э.Г. Леса России… С. 66; Лупанова Е.М. История закрепощения
природного ресурса… С. 310.
12
Этот тезис впервые озвучили дореволюционные исследователи (См.: Арнольд Ф.К. История
лесоводства в России, Франции и Германии. СПб., 1895. С. 215; Столетие учреждения Лесного
департамента. 1798-1898. СПб., 1898. С. 25).
13
Государственный архив Вологодской области (далее - ГА ВО), ф. 18, оп. 1, д. 18, л. 1-3.
14
РГИА, ф. 1349, оп. 4, 1803 г., д. 63, л. 119 об.-120, 122 об.-123, 127 об.-128, 132 об.-133.
15
ГА ВО, ф. 18, оп. 1, д. 18, л. 8.
16
Даже к середине XIX в. земли, занятые населёнными пунктами и пашнями, составляли
только 2% от общей площади губернии.
17
После обнародования указов от 12 марта и 26 мая 1798 г. на места направили землемеров
в «потребном числе» для описания казённых лесов, составления планов и генеральных карт. Гу-
берний, в которых леса считались «приведёнными в известность», эти мероприятия не касались.
Подробнее см.: Столетие учреждения Лесного департамента… С. 25.
18
Взгляд на Вологодскую губернию… С. 39; Военно-статистическое обозрение Российской
империи. Т. II. Ч. 3. С. 9.
113
о количестве и качестве лесов, вкупе с неразвитой системой лесоустройства
и охраны природных ресурсов, а также слабым надзором центральных учреж-
дений открывали широкие возможности для незаконной деятельности.
Способствовало этому и состояние лесного законодательства. Непродол-
жительный период царствования Павла I отмечен активным законотворче-
ством в области лесного управления. Именно в это время в центре внимания
оказалась проблема истребления казённых лесов в результате незаконных ру-
бок. Наблюдая в ходе инспекционных поездок за их масштабами, импера-
тор ограничил отпуск казённого леса для частных «надобностей» и запретил
его вывоз за границу19. Вологодской губ. ограничения на экспорт касались
в первую очередь: наличие здесь удобного водного пути для доставки леса
к Архангельскому порту обусловило широкий размах деятельности лесопро-
мышленников20. Незаконная добыча леса «для отпуска за море» «не встречала
почти никакого препятствия». И хотя производилась она в основном «только
по берегам рек, наиболее удобных к сплаву», и почти не затрагивала «заветной
глуши»21, вырубки не бросались в глаза из-за слабой заселённости восточных
уездов.
Не последнюю роль играли и местные чиновники, потворствовавшие ле-
сопромышленникам. Так, в мае 1797 г. удельный крестьянин Вельского уезда
И. Щучев подал на имя императора донос, в котором отметил, что с 1786 г. кре-
стьянами производятся «непозволительные» рубки «мачтовых и других казён-
ных лесов»22. В качестве заказчиков указывались купцы, дворяне и даже зем-
ский исправник. Следствие подтвердило факт преступления, однако показания
«рубщиков-крестьян» относительно количества похищенного леса и причин,
«побудивших к вырубке», оказались «разнообразными». Кроме того, следовате-
ли допрашивали крестьян без приведения к присяге, а такие показания теряли
доказательственную силу в суде. Дело затянулось, а 22 апреля 1801 г., сразу
после издания манифеста, объявившего амнистию «по делам, не заключаю-
щим в себе важных преступлений»23, Вологодская палата уголовного суда ос-
вободила подсудимых от «суда и следствия». Дело отправили на утверждение
в Сенат, который не согласился с таким решением и 19 декабря предписал
палате пересмотреть его. Поскольку «прощению» подлежали только «казённые
взыскания до 1 000 рублей», то следовало «привести в известность» количество
и стоимость вырубленного леса и, если ущерб превысит обозначенную сумму,
обязать рубщиков и заказчиков его возместить. В случае, если имущества по-
следних окажется недостаточно, взыскание налагалось на земских чиновников
и сельских начальников.
Дальнейшее движение этого дела являет собой яркий пример судебной
волокиты. В 1804 г. Вологодская уголовная палата запросила у Сената разъ-
яснения, какими указами нужно руководствоваться при определении размера
штрафа «за порубку», а новый приговор вынесла только 20 декабря 1813 г. (и то
19
См.: ПСЗ-I. Т. 25. № 18616, 18641, 18659, 18679, 19227.
20
Среди архивных материалов удалось обнаружить сведения о рубках леса в казённых и по-
мещичьих дачах Вологодской губ. за 1791-1792 гг. В общей сумме на законных основаниях выру-
били более 217 тыс. деревьев, что рассматривалось государством как весьма внушительное число
(ГА ВО, ф. 13, оп. 1, д. 344, л. 22-26).
21
Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. II. Ч. 3. С. 316.
22
ГА ВО, ф. 177, оп. 1, д. 55, л. 953.
23
ПСЗ-I. Т. 26. № 19814. С. 604.
114
лишь потому, что больше не было возможности тянуть с решением). Признав
значительные «упущения при следствии» и то, что точное количество выруб-
ленного леса выявить невозможно, казённый убыток определили в 179 890 руб.
С рубщиков-крестьян взять было нечего, поэтому взыскание наложили в пер-
вую очередь на заказчиков, в том числе 45 020 руб. с И.Г. Лукина (с 1790 г. за-
нимал должность земского исправника) и 50 000 руб. с дворянина М.М. Зубова.
Остальные деньги полагалось истребовать с прикосновенных к делу лиц - слу-
живших в 1786-1797 гг. чиновников и сельских начальников (среди них зна-
чился брат Зубова - бывший директор экономии Вологодской казённой пала-
ты Н.М. Зубов)24. Дело снова отправилось на утверждение в Сенат, где пять лет
пролежало без движения, а 15 марта 1819 г. вернулось на пересмотр со ссылкой
на манифест от 30 августа 1814 г., согласно которому «всякого рода взыскания»
по уголовным и казённым делам, длившиеся более 10 лет, подлежали проще-
нию25. В итоге приговором уголовной палаты от 29 декабря 1822 г. подсудимых
освободили26.
Представленный эпизод из судебной практики не только показателен, но
и типичен: схожим образом затягивались и другие дела, связанные с масштаб-
ными рубками леса, по которым в качестве подсудимых проходили должностные
лица. По всей видимости, «сотрудничество» лесопромышленников с чиновни-
чеством предоставляло возможность не только вести многолетнюю незаконную
деятельность, но и уходить от ответственности в случае её обнаружения.
В период правления Павла I государство задумалось также о предотвра-
щении истощения природных ресурсов27 и о поддержке нуждавшегося в лес-
ных угодьях населения, в особенности жителей северных регионов28. Одна-
ко слишком активное законотворчество имело и негативную сторону: указы,
устанавливавшие новые правила управления лесами, не синхронизировались
с действовавшим порядком на местах. Они предусматривали весьма ограни-
ченную численность лесных чинов, полномочия которых не получили чёт-
кой регламентации, более того, во многом пересекались с должностными
обязанностями других чиновников, которым также вверялся надзор в сфере
лесопользования.
Известно, что по инициативе императора в составе Адмиралтейств-коллегии
появился Лесной департамент29 и каждая губерния получила штат по лесному
управлению. Так, в Вологодской губ. появились обер-форстмейстер, которому
передавались «в точное ведение» все казённые леса на её территории, 4 фор-
стмейстера и 8 форстмейстерских учеников, а также лесные надзиратели. Пра-
вительство рассчитывало, что корпус обер-форстмейстеров и форстмейстеров
будет формироваться из лиц, сведущих в лесном деле. Однако в конце XVIII в.
таких людей в России практически не было, не существовало и профильного
учебного заведения, которое могло бы обеспечить подготовку кадров30. Как
следствие вакансии начали заполнять отставными военными чинами, которые
24
ГА ВО, ф. 177, оп. 1, д. 55, л. 953-957 об.
25
ПСЗ-I. Т. 32. № 25671. С. 909.
26
ГА ВО, ф. 177, оп. 1, д. 92, л. 1135-1229.
27
ПСЗ-I. Т. 25. № 18334, 18348, 18527, 18638, 18641, 18666, 18816, 18992, 18995, 19085, 19237;
Т. 26. № 19509, 19618.
28
Там же. Т. 25. № 18875, 18887, 19004, 19086, 19236; Т. 26. № 19262а.
29
Там же. Т. 25. № 18534. С. 255.
30
Столетие учреждения Лесного департамента… С. 25-27.
115
не только ничего не понимали в лесоводстве, но и не были знакомы с граждан-
ской службой. Не лучше обстояло дело и с лесными надзирателями, призван-
ными охранять казённый лес. Их число определялось обер-форстмейстером
«соразмерно с настоящею надобностию и с дозволения гражданского губерна-
тора». Выбирались надзиратели крестьянскими обществами из поселян «бли-
жайших к лесам казённых селений… через всякий год по очереди», т.е. охрана
леса вошла в число натуральных повинностей31. При всём этом местный надзор
и ответственность за соблюдение указов «о сбережении лесов» возлагались на
губернское правление и земские суды, а за «порядочным отправлением долж-
ности» обер-форстмейстера наблюдал гражданский губернатор32. Таким обра-
зом создавалась двойственность лесного управления, с трудом встраивавшаяся
в административную практику на местах.
Одной из первых проблем стала степень подчинённости обер-форстмей-
стеров33. Они состояли при губернаторах и должны были сообщать им обо всех
своих распоряжениях и выявленных нарушениях порядка лесоохраны, но при
этом губернскому начальству не подчинялись и напрямую взаимодействовали
с Лесным департаментом. Естественно, эта ситуация вызвала недовольство гу-
бернаторов. Прояснить её должен был указ от 18 марта 1799 г., запретивший
губернаторам требовать «от обер-форстмейстеров того, чтоб они о распоряже-
ниях, которые они по должности своей почитают нужными к произведению,
не прежде доносили Лесному департаменту, как по получении от них разре-
шений». Подчёркивалось, что губернаторы обязаны оказывать лесным чинов-
никам «всякое начальническое пособие», а обер-форстмейстеры - «немед-
ленно» доносить обо всём Лесному департаменту, «не дожидаясь» чьего-либо
одобрения34.
Не менее сложно выстраивалось взаимодействие и на низовом уровне.
Земскую полицию, наделённую широкими полномочиями, обязали проявлять
«неусыпное старание за целостью и охранением лесов»35. Но, находясь в под-
чинении губернской администрации, она не считала нужным оказывать содей-
ствие чиновникам, выполнявшим предписания Лесного департамента. В свою
очередь действовавшие в уездах форстмейстеры имели весьма ограниченную
компетенцию: наблюдали за сохранностью казённых лесов, но при обнару-
жении самовольных рубок не имели права самостоятельно принимать меры36.
Предполагалось, что в их «ведении»37 должны состоять лесные надзиратели
и пожарные старосты38, но те, являясь казёнными крестьянами, признавали
только власть земских исправников и подчиняться форстмейстерам отказы-
вались. Отсутствие должной конкретизации прав и обязанностей должност-
ных лиц, на которых возлагались задачи по охране леса и на губернском, и на
уездном уровнях, уже в скором времени обернулось чередой конфликтов. Кре-
31
ПСЗ-I. Т. 25. № 18429. С. 143.
32
Там же. № 18666, 18688, 18737, 18817, 18931, 18992.
33
Там же. № 18429.
34
Там же. № 18895. С. 590.
35
Там же. № 18666. С. 384.
36
Обо всех происшествиях и правонарушениях форстмейстеры обязаны были сообщать зем-
ской полиции, а в случае отсутствия её реакции - доводить до сведения губернского начальства.
37
ПСЗ-I. Т. 25. № 18429. С. 143.
38
Должность учреждена в казённых поселениях указом от 9 августа 1800 г. Пожарный ста-
роста избирался «чрез каждые три года из поселян трезвых и доброго поведения» (ПСЗ-I. Т. 26.
№ 19509. С. 256).
116
стьяне, действуя «по внушению земской полиции», не только не выполняли
распоряжения форстмейстеров, «но ещё и устращивали их побоями, дабы не
осмеливались ездить по лесу»39.
Не последнюю роль сыграло и то, что Александр I распорядился передать
в «ведение и распоряжение» волостных правлений леса, «в надел казённым
поселянам доставшиеся». Манифест от 2 апреля 1801 г. провозгласил, что кре-
стьяне получили право использовать их «как для собственного употребления,
так и на продажу»40. Таким образом, лесные дачи казённых крестьян (за ис-
ключением корабельных) изымались из управления Адмиралтейств-коллегии.
И хотя указывалось, что перед вступлением этого положения в силу требуется
привести угодья «в известность», разделив дачи на лесосеки, неконтролируе-
мые рубки начались практически сразу41. Как отмечалось в указе от 30 декабря
1801 г., «поселяне, получа в своё ведение леса… не токмо к селениям принад-
лежащие, но и собственно казённые и корабельные заповедные в казённых
даже рощах заклеймённые чрезмерно истребляют сечами и огнями на знатные
пространства, не внимая запрещениям форстмейстеров», а лесные надзиратели
и пожарные старосты вовсе «вышли из повиновения»42.
В сложившейся ситуации лесные чины могли действовать по-разному. Не
имея властных рычагов, они должны были приспосабливаться. Судебная прак-
тика свидетельствует, что при этом не все избирали законный путь. В Воло-
годской губ. в первое десятилетие XIX в. под судом оказались двое форстмей-
стеров. Один, М. Тимоев, «сам собою» выдавал крестьянам билеты на рубку из
казённых и примежёванных к их селениям дач «без платежа в казённый доход
денег», оправдываясь тем, что деревья вырубаются не на продажу, а для соб-
ственных нужд поселян (постройка домов, заготовка дров и т.п.)43. Возможно,
деятельность Тимоева не привлекла бы внимание обер-форстмейстера, если бы
не рапорт его коллеги И. Волсогорова44, обнаружившего, что только за январь-
февраль 1800 г. Тимоев выдал 14 билетов на рубку 5 890 деревьев45. Несмотря
на довольно значительный ущерб, чиновника уволили, не подвергнув строгому
наказанию, поскольку суд пришёл к заключению, что «сие им соделано не из
намерения какого-либо злоупотребительного, а единственно из невыразумле-
ния своей должности» и неспособности к её исправлению46. В 1804 г. дважды
судили уже Волсогорова - за попытки заставить «нерадивых» лесных надзи-
рателей исполнять свои обязанности. В первом случае крестьянин пожаловал-
ся, что форстмейстер схватил его за волосы и бил палкой по голове и плечам
«бесчеловечно»47, во втором - чиновник обругал и избил лесного надзирате-
39
Там же. № 20095. С. 873.
40
Там же. № 19812.
41
Там же. № 20095; Т. 27. № 20417.
42
Там же. Т. 26. № 20095. С. 873.
43
См., например: ГА ВО, ф. 177, оп. 1, д. 36, л. 275-294 об.; д. 48, л. 174-176 об.
44
После отставки с военной службы в 1799 г. Тимоева назначили яренским форстмейсте-
ром, а через год перевели на аналогичную должность в Великоустюжский и Никольский уезды.
Заступивший на его место Волсогоров обнаружил незаконно выданные билеты, о чём и сообщил
начальству (Там же, д. 36, л. 275-275 об., 282 об.).
45
Причём в трёх билетах отсутствовало указание на количество вырубаемого леса (Там же,
д. 36, л. 275 об.).
46
Там же, л. 293 об.
47
Там же, д. 16, л. 633-635.
117
ля в ответ на грубости48. Оба дела закончились вынесением «подтверждения»
впредь не допускать самоуправства.
Все эти проблемы не оставались незамеченными верховной властью. Пре-
сечь истребление лесов казёнными крестьянами пытались предписаниями
о скорейшем отводе участков волостным правлениям49. В 1803 г., когда стало
очевидно, что работа затягивается, приняли решение направить «особенных
чиновников» с «потребным числом землемеров» и учредить в ряде губерний
особые лесные комиссии50, в задачи которых входило размежевание казённых
и крестьянских лесов и «удовлетворение недостаточных поселян» землями
и прочими угодьями51. В 1804 г. губерниям, в которых «по причине худой по-
чвы» жители издревле имели «пропитание от лесного промысла и от смолоку-
рения», предоставили возможность свободно «пользоваться лесами не только
на домашний обиход, но и на промыслы»52. В связи с этим учреждённым лес-
ным комиссиям предписывалось, «не упущая времени», приступить к выделе-
нию участков для этих нужд. В Вологодской губ., обладавшей огромными лес-
ными массивами и значительным количеством казённых крестьян, комиссия
действовала «с великой медленностью»53. Сказывалась нехватка квалифициро-
ванных и способных к службе кадров. В частности, члены комиссии жалова-
лись на работу прикомандированных к ней землемеров, часто «обращавшихся
в пьянство»54.
Верховная власть попыталась разграничить сферы управления и выстро-
ить взаимодействие учреждений и служащих на высшем и местном уровнях.
В 1802 г. Лесной департамент подчинили министру финансов и Сенату55,
а обер-форстмейстеров с 1803 г. - губернаторам56. В 1811 г. департамент упразд-
нили, управление всеми казёнными имуществами перешло к учреждённому
в составе Министерства финансов Департаменту государственных имуществ57.
Таким образом, контроль за использованием и сохранностью казённых лесов
сосредоточился в руках министра финансов. Что же касается местного управле-
ния, то обер-форстмейстеры оказались в двойном подчинении - новый поря-
док не отменил действие указа, ставившего их в зависимость от губернаторов.
В целом Александр I продолжил курс, намеченный его отцом, несмотря на
то что одним из первых указов смягчил запретительные постановления (в част-
ности, снял ограничения на вывоз из России леса)58. Ещё в работах дореволю-
ционных историков отмечалось, что предпринятые в годы его правления меры
имели положительный эффект: «самовольные порубки уменьшились»59. Слож-
но сказать, так ли это, поскольку неясно, на чём основывалось суждение. По
документам видно, что в период войны, когда ослаб контроль за местным ап-
48
Там же, л. 659-661 об.
49
Там же, ф. 18, оп. 1, д. 118, л. 1-2 об.
50
В 1803 г. комиссии появились в качестве «опыта» в трёх губерниях - Санкт-Петербургской,
Казанской и Олонецкой, с 1804 г. - ещё в девяти губерниях, в том числе Вологодской.
51
ПСЗ-I. Т. 27. № 20898. С. 837-838.
52
Там же. Т. 28. № 21133а. Приложения. С. 2.
53
ГА ВО, ф. 18, оп. 1, д. 118, л. 6-34.
54
Там же, ф. 177, оп. 1, д. 36, л. 996-997 об.; д. 40, л. 1157-1160 об.
55
ПСЗ-I. Т. 27. № 20538. С. 382.
56
Там же. № 20849. С. 742.
57
Там же. Т. 31. № 24688, 24937.
58
Там же. Т. 26. № 19783.
59
Столетие учреждения Лесного департамента… С. 238; Шелгунов Н.В. Указ. соч. С. 249.
118
паратом управления, ситуация изменилась не в лучшую сторону. По окончании
заграничных походов проблема охраны казённого леса вновь заявила о себе.
Её решение виделось в установлении «ясных границ» между государственными
и частными владениями.
В сентябре 1816 г. циркуляром Департамента государственных имуществ
всем обер-форстмейстерам предписывалось обеспечить охрану лесов, оспари-
ваемых казённым ведомством и частными лицами, «ибо, без сомнения, всякой
хозяин предпочитает для экономических своих потребностей рубить сперва тот
лес в своём имении, на который считает право своё сомнительным, не имея
притом запрещения оным пользоваться». Требовалось «обо всех спорных у каз-
ны с частными людьми лесах… составить ведомость, дабы никакой спорный
лес не мог оставаться безгласным», с указанием на то, «какое каждый лес за-
нимает пространство», «с кем именно находится в споре», «в каком судебном
месте под рассмотрением дело находится», «у кого из спорющихся тот лес по-
ныне во владении». Рубки и отпуск леса из спорных участков запрещались до
принятия судебного решения (в первой инстанции на решение дела полагался
шестимесячный срок). «Присмотр» за спорными лесами поручался земской по-
лиции «совокупно с местным лесным управлением»60.
В годы войны незаконная добыча леса «для отпуска за море» не прекра-
щалась. Об этом свидетельствует переписка с местными учреждениями по по-
воду доноса крестьянина Великоустюжского уезда И. Попова, полученного
в 1817 г. В нём сообщалось, что «казённые крестьяне, по найму от устюж-
ских купцов… производят ежегодно в казённых дачах самовольную порубку
соснового леса, годного на корабельное строение, без всякой в казну платы,
и оный лес, распиливая на тёс и вытёсывая в брусья, отправляют в Архан-
гельск, а оттуда за море». Крестьянин указал и размеры ущерба: «Отпущено
ими в 1811 г. до 20 000 [деревьев], в 1812-м до 15 000, в 1813-м до 11 000,
в 1814-м до 12 000, в 1815-м до 13 000, в 1816-м до 17 000 и в 1817-м до 17 000,
а всего до 105 000 дерев, длиною от 3-х до 7-ми сажень, толщиною в отрубе
от 8-ми до 12-ти вершков». Обо всём этом Попов сообщил местному форст-
мейстеру, а тот - в Устюжский земский суд. Но никакой реакции не по-
следовало. Как оказалось, чиновники земского суда покрывали незаконные
рубки. В этой ситуации Попов подал донос в Устюжский уездный суд, а затем
губернскому обер-форстмейстеру. Понимая, что и в этот раз «никакого за-
прещения в порубке лесов не предвидится» и что весной для сплава 1818 г.
к Архангельску купцами уже заготовлено 28 тыс. деревьев, крестьянин решил
обратиться в Адмиралтейств-коллегию. Последняя перенаправила донесение
в Департамент государственных имуществ. Делом заинтересовался министр
финансов Д.А. Гурьев, который 29 июля 1818 г. предписал вологодскому гу-
бернатору И.И. Винтеру направить в Великоустюжский уезд доверенного чи-
новника «вместе с вологодским обер-форстмейстером и губернским казённых
дел стряпчим» с целью провести расследование61.
Как и следовало ожидать, местные чиновники пришли к выводу, что до-
нос неоснователен. Однако Департамент внимательно ознакомился с отчётной
документацией с мест и обнаружил, что в Архангельской и Вологодской губер-
ниях «ежегодная пропорция казённых лесов», выделяемая на продажу частным
60
ГА ВО, ф. 18, оп. 1, д. 330, л. 2-4.
61
Там же, д. 355, л. 1-2.
119
лесопромышленникам, в полном объёме не реализовывалась, при этом число
досок, вывозившихся за границу из Архангельского порта, из года в год увели-
чивалось62. Становилось очевидным, что незаконная добыча леса процветала не
только в Великоустюжском, но и в других восточных уездах Вологодской губ.,
откуда наиболее удобен сплав древесины к порту.
Всё это подтверждалось и другими частными донесениями. Так, новый
губернатор И.И. Попов (вступил в должность 4 июня 1819 г.) в ходе первого
осмотра губернии получил от отставного губернского секретаря П.Ф. Бибикова
донос на служащих Сольвычегодского земского суда, в котором среди преступ-
ных действий указывалось сокрытие незаконных рубок казённых лесов в 1815-
1816 гг.63 С деятельностью учреждения Бибиков был знаком не понаслышке,
поскольку некогда служил в его канцелярии, но в 1815 г. попал под суд за вы-
нос дел из присутствия и пьянство и в 1817 г. вынужденно вышел в отставку64.
Обидевшись на бывших сослуживцев, которые под присягой подтвердили его
вину, он решился на донос. По его утверждению, чиновники земского суда
подписывали билеты на сплав леса к Архангельску «без предварительного тем
дачам и вырубленному на них лесу местного свидетельства». Они знали о вы-
возе казённой древесины, но ставили отметки о том, что «владельцы дач в би-
летах поименованных таковые в тех местах имеют и написанное количество
точно вырублено в их дачах»65.
Расследование не привело к «открытию» злоумышленников, но губерна-
тор счёл действия следователей «несправедливыми» и уведомил об этом Сенат.
Последний 19 марта 1820 г. предписал Вологодскому губернскому правлению
провести повторное расследование «через особых чиновников», «исключая тех,
на кого Бибиковым сделаны доносы». На сей раз губернский стряпчий уголов-
ных дел М.И. Богданов и «лесные чиновники» пришли к выводу, что служа-
щие суда способствовали «незаконной рубке и сплаву леса», поскольку обна-
ружили среди тех частновладельческих дач, откуда якобы вывозились брёвна,
такие участки, где строевого леса никогда и не было. Палата уголовного суда
расценила действия подсудимых как ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей; выявить факты взяточничества не удалось. Приговор вынесли
29 февраля 1824 г. К этому времени двое из трёх подсудимых умерли, третьему
(земскому исправнику) в качестве наказания определили увольнение с запре-
том впредь занимать подобные должности66.
Пресечь преступления силами местных чиновников, которые, по всей ви-
димости, принимали самое активное участие в незаконной деятельности, не
представлялось возможным. Результаты расследований не позволяли увидеть
масштабы хищений, а судебные решения не внушали страха злоумышленни-
кам67. С целью предупредить незаконные рубки и усилить контроль за вывозом
древесины за границу 22 января 1820 г. был издан указ, разрешавший впредь
вырубать из казённых дач Архангельской и Вологодской губерний не более
50 тыс. деревьев ежегодно, «дозволив распиливать оные в доски и отпускать от
62
ПСЗ-I. Т. 37. № 28110. С. 25.
63
ГА ВО, ф. 177, оп. 1, д. 92, л. 511-544; д. 100, л. 197-217 об.
64
Там же, д. 69, л. 221-226.
65
Там же, д. 100, л. 197-197 об.
66
Там же, л. 197-217 об.
67
См., например: Там же, д. 117, л. 419-443 об.; д. 124, л. 76-94 об.
120
Архангельского порта»68. Земские суды и местных лесных чиновников обязали
в кратчайшие сроки описать все имеющиеся частновладельческие дачи, откуда
может сплавляться лес. Помимо прочего от вологодских лесопромышленни-
ков, намеревавшихся продать древесину за море, отныне требовалось сначала
уведомить об этом губернатора, которому затем предстояло поручить «доверен-
ному чиновнику обще с обер-форстмейстером освидетельствовать их лесные
дачи, в таком ли они состоянии, что можно вырубать из них предположенное
число дерев», а после вырубки - «освидетельствовать оные на местах земскому
суду с форстмейстером и понятыми и доносить о том губернатору, который
должен уведомлять Архангельскую таможню, кому из владельцев, какое число
лесов и досок отпустить дозволить можно»69.
Этот многоступенчатый порядок «освидетельствования» приживался мед-
ленно. Особенно трудной задачей для местных чиновников оказалось подроб-
ное описание частных владений, требовавшее больших организационных уси-
лий. Между тем Департамент госимуществ пытался отслеживать ход работы на
местах и внимательнейшим образом относился к поступавшей от вологодского
обер-форстмейстера отчётной документации, указывая на все замеченные на-
рушения «как со стороны гражданской, так и со стороны лесного управления»,
и требуя «немедленно привести в известность» частные леса в соответствии
с указом от 22 января 1820 г.70
В 1826 г. министр финансов Е.Ф. Канкрин инициировал изменения
в управлении лесным хозяйством: на местах учреждались лесничества, взамен
обер-форстмейстеров, форстмейстеров, форстеров и унтер-форстеров появи-
лись должности губернских, окружных, учёных и младших лесничих и под-
лесничих, а в составе казённых палат - лесные отделения. Сначала такое
устройство ввели «для пробы» в четырёх губерниях71, а затем распространили
на остальные72.
Несмотря на изменения, казённый доход от продажи леса значительно не
увеличился. Не прекратились и доносы на незаконные рубки, что стало одним
из оснований для назначения сенаторской ревизии. По обыкновению в ходе
«снаряжения» ревизии сенаторам передавали все жалобы и доносы последних
лет на служащих губернии, с тем чтобы на месте проверить их обоснованность.
Сообщений о хищениях леса на Вологодчине набралось немало. Участие в них,
по слухам, принимал сам губернатор Н.П. Брусилов. В частности, штаб-офи-
цер Корпуса жандармов подполковник А.Ф. Дейер в апреле 1827 г. сообщил,
что в Вологодском и Грязовецком уездах пошехонским купцом Шатихиным
в 1825-1826 гг. «сделана была большая порубка казённого леса». Предприни-
матель купил пустошь, где имелось «некоторое количество строевого леса»,
и «под сим предлогом» производил рубки из близлежащих казённых участков.
Позднее Дейер «точно узнал, что порубка сия весьма значительна», и подчер-
кнул: «Вообще говорят, что по этой части были всегда большие злоупотребле-
ния. Теперь лесные чиновники прибегли к покровительству губернатора, осо-
бенно бывший форштмейстер Баграков»73. Трудно представить, что крупные
68
ПСЗ-I. Т. 37. № 28110.
69
ГА ВО, ф. 18, оп. 1, д. 428, л. 3; д. 429, л. 50-51.
70
Там же, д. 443, л. 1-1 об., 4-6 об.
71
Санкт-Петербургская, Олонецкая, Казанская и Псковская губернии.
72
ПСЗ-II. Т. 1. СПб., 1830. № 415.
73
ГА РФ, ф. 109, оп. 3а, д. 1138, л. 6, 12-12 об.
121
лесозаготовки в примыкавших к губернскому городу маленьких по площади
и густонаселённых уездах, где сосредотачивались дворянские имения, могли на
протяжении нескольких лет оставаться незамеченными чиновниками и самим
губернатором.
В апреле 1830 г. император распорядился произвести общую ревизию Воло-
годской и Архангельской губерний. Предписывалось начать проверку с первой.
Ревизорами назначили сенаторов А.М. Корнилова и В.Ф. Мертенса74, которые
прибыли в Вологду 5 июня75. За проведённые в губернии полгода они совер-
шили общий осмотр, посетив уездные города, изучили материалы делопроиз-
водства, собрали и рассмотрели обращения населения (всего к ним поступило
690 жалоб)76. В ходе ревизии пристальное внимание обратили на работу лесно-
го отделения казённой палаты, что позволило выявить впечатляющий размах
незаконной деятельности.
Сначала ревизоров заинтересовали жалобы сольвычегодских крестьян, в ко-
торых указывалось на «выгон их по наряду для сплавки по р. Вычегде прого-
няемых комиссионерами лесов без всякой за то платы». В ходе расследования
подтвердилось не только это - открылись также массовые незаконные рубки,
нанёсшие казне значительный ущерб. Ревизоры предположили, что в преступле-
ниях участвовали не только вологодские, но и архангельские чиновники. Бумаги
на вырубку леса подписывал губернатор. Брусилов пытался убедить сенаторов,
что все разрешения выдавались только на законном основании и в соответствии
с процедурой, закреплённой в указе от 22 января 1820 г. Однако при вниматель-
ном рассмотрении документов выяснилось, что на некоторых частных лесных
участках количество вырубаемого леса в 8-10 раз превысило разрешённое зако-
ном. Так, «в лесной даче лальских мещан Абрамовой, Саватеевой и проч. найде-
но было, что из оной можно вырубить до 3,5 тыс. деревьев от 4,5 до 5 вершков,
а по свидетельству у корней… оказалось, что в сей даче вырублено 16,5 тыс.
деревьев от 5 до 11 вершков»77. В результате «приведения в известность» частно-
владельческих дач в начале 1820-х гг. на их территории выявили 172 860 деревь-
ев, «годных к заморскому отпуску»78, из которых с 1821 по 1831 г. на законном
основании можно было вырубить только 61 75079. Однако лесопромышленникам
выдали разрешения на 687 321, а позднее выяснилось, что из Архангельского
порта за эти годы «отпустили» 854 бруса и 2 159 806 досок80. Сенаторы пришли
к выводу, что в случае беспристрастной выдачи разрешений и соблюдения всех
необходимых процедур губернатор не мог не заметить эту неимоверную разницу,
тем более что частные дачи не были опустошены и находились «почти в том же
положении, как прежде»81. Это обстоятельство свидетельствовало, что Брусилов
либо сам причастен к преступлениям, либо халатно относился к своим обязан-
ностям. И в том и в другом случае его вина была очевидна.
74
РГИА, ф. 1405, оп. 28, д. 2513, л. 1, 10.
75
Там же, л. 51.
76
Там же, ф. 1341, оп. 32, д. 768а, л. 1-81 об.
77
Там же, л. 20 об., 21 об.-22.
78
ПСЗ-II. Т. 10. Отд. 1. СПб., 1836. № 8142. С. 426.
79
Ограничения имели целью предупредить оскудение лесных массивов.
80
Из 687 321 брёвен, за вычетом 854 пошедших на брус и брака среднего значения (фаут
в брёвнах составлял около 10%, в досках - 15%), могло получиться только 1 801 976 досок (РГИА,
ф. 1409, оп. 2, д. 5585, л. 61, 76-76 об.).
81
Там же, л. 61.
122
По завершении ревизии Мертенс и Корнилов инициировали создание в Ве-
ликом Устюге следственной комиссии для расследования злоупотреблений82.
Её цель заключалась в скорейшем «собрании надлежащих сведений, в местном
освидетельствовании владельческих дач и в отобрании показаний от промыш-
ленников и заготовлявших для них леса крестьян»83. Комиссия приняла от се-
наторов все материалы, которые им удалось собрать в двух губерниях, и начала
работу 15 июля 1831 г.84 За её деятельностью наблюдал министр финансов,
который спустя год, в октябре 1832 г., выразил обеспокоенность затянувшимся
производством и предложил министру юстиции возложить на губернского про-
курора ближайший надзор («посредством уездного стряпчего»), дабы побудить
к скорейшему окончанию дела85.
Комиссия выяснила, что масштабы вырубки лесов оказались гораздо боль-
ше, чем полагали сенаторы: из 79 частновладельческих дач, «заключающих
в общей сложности более 50 000 дес[ятин] лесу, исчислено оставшихся пней до
полутора миллиона». Следовательно, не имелось разрешающих документов на
рубку более половины деревьев. При этом чиновники пришли к любопытному
выводу: «Дачи были в таком состоянии, которое дозволяло владельцам делать
заготовки леса с избытком противу назначения для заморского отпуска». Ины-
ми словами, они вдруг обнаружили, что на частных землях деревьев, «годных
к заморскому отпуску», произрастало 1,5 млн вместо 170 тыс. по официальным
документам (т.е. почти в 9 раз больше!). Найти доказательства незаконной руб-
ки казённого леса комиссия не смогла: документы у лесопромышленников не
сохранились, а «все спрошенные рубщики и пильщики показали, что они без
позволения или тайным образом в казённых дачах порубок не производили»86.
Более того, в феврале 1833 г. «вовремя» сгорели архивы губернских учрежде-
ний, где хранилась документация по лесозаготовкам.
В 1834 г. Канкрин распустил комиссию, ссылаясь на то, что следствие
зашло в тупик, и выявить доказательства незаконных рубок не удалось, и пред-
ложил Комитету министров «оставить без последствий» обстоятельства, ка-
савшиеся частновладельческих дач. Николай I с этим не согласился87 и распо-
рядился «послать на место доверенного чиновника узнать истину». В январе
1835 г. в Вологду прибыл чиновник особых поручений Министерства финансов
Б.И. Крок, который, впрочем, ничего нового не открыл. Незаконные поруб-
ки казённых лесов подтвердились, но выявить их объёмы и виновных в них
82
В состав комиссии сенаторы назначили, как им казалось, «благонадёжных» лиц: отстав-
ного подполковника Рындина, чиновников 7-го класса Фомина и 10-го класса Макарова, а также
штаб-офицера Корпуса жандармов подполковника Кокушкина (Там же, л. 59 об.).
83
ПСЗ-II. Т. 10. Отд. 1. СПб., 1836. № 8142. С. 426.
84
ГА ВО, ф. 806, оп. 2, д. 3, л. 2; РГИА, ф. 1286, оп. 4, д. 426в, л. 3-3 об.; ф. 1405, оп. 2,
д. 5585, л. 69-71 об.
85
ГА ВО, ф. 806, оп. 2, д. 3, л. 2-3.
86
ПСЗ-II. Т. 10. Отд. 1. СПб., 1836. № 8142. С. 426-427.
87
Причины этого поступка можно объяснить известной принципиальностью императора, но,
на мой взгляд, более важен другой фактор. Согласие с мнением министра финансов означало
бы признание необоснованности выводов Мертенса и Корнилова, доказывавших, что в Вологод-
ской губ. «наиболее гнездится зло по лесной части» (см.: РГИА, ф. 1286, оп. 4, д. 426, л. 3-4, 7;
д. 426, л. 4). Учитывая обстоятельства, при которых завершилась сенаторская ревизия, такие итоги
расследования незаконных рубок были бы восприняты не иначе как порочащие честь сенаторов
и свидетельствующие об их некомпетентности (о ревизии Архангельской губ. см.: Ефимова В.В.
Генерал-губернаторы Европейского Севера: место и роль в системе органов государственной вла-
сти и управления Российской империи (1820-1830 гг.). СПб., 2018. С. 702-708).
123
не представлялось возможным из-за отсутствия документов и нежелания при-
частных лиц (рубщики, пильщики, сплавщики и т.п.), получавших от данного
промысла «большие выгоды», давать показания.
Однако чиновник уточнил выводы сенаторов относительно схемы незакон-
ной деятельности88: лесопромышленники одновременно вырубали лес в част-
ных дачах по билетам «к заморскому отпуску» и в казённых за попенные деньги
«под видом внутреннего употребления» в Архангельской и Вологодской гу-
берниях, а затем и та и другая древесина сплавлялась в порт и продавалась за
границу. Лесные чиновники и члены земских судов либо не производили сви-
детельства дач вовсе, либо производили не «с должной верностью», а потому
истинное число вырубленных деревьев значительно превышало разрешённое.
Рапорт Крока приняли к сведению, он послужил основанием для завершения
расследования в соответствии с мнением Канкрина. При этом Министерство
финансов поддержало идею запретить сплавлять в Архангельск лес, выруб-
ленный для внутреннего употребления, и увеличило «пропорцию» для замор-
ского отпуска на 25 тыс. деревьев89.
Любая сенаторская ревизия для «нечистых на руку» местных чиновников
являлась потрясением, поскольку никто не мог спрогнозировать её итоги. При-
езд сенаторов в 1830 г., как и возбуждавшиеся до этого уголовные дела об
истреблении леса, снижали масштабы вырубок. Анализируя данные, Мертенс
и Корнилов заметили, что, хотя «из года в год количество отпущенных брёвен
увеличивалось», в 1827 г., «когда происходили розыски о казённых лесах, чис-
ло сие уменьшено», в 1828 и 1829 гг. - «вновь до чрезвычайности увеличено»
и, наконец, в 1830 г. - «опять уменьшено»90.
К слову, начавшееся в 1827 г. расследование в отношении «вольных промыш-
ленников» также закончилось ничем. Министр финансов поручил его генерал--
губернатору Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний С.И. Миниц-
кому, который сначала дал следствию ход, но затем прекратил его, по мнению
сенаторов, «под ничтожным предлогом»: якобы «когда идёт дело о порубке из
казённых» дач, «не должно простирать притязания к частным владельцам». Вви-
ду того что сообщившие о незаконных рубках комиссионеры не смогли предо-
ставить «юридических доказательств», Миницкий счёл возможным закрыть дело
и лишь после «продолжительной и бесполезной переписки» соизволил отправить
его на рассмотрение в Архангельскую палату уголовного суда, которая, впрочем,
не имея материалов следствия, не касалась дела вплоть до приезда в город сена-
торов91. Во время ревизии Вологодское губернское правление демонстрировало
особое внимание к соблюдению порядка свидетельства вырубок. В 1831 г. впер-
вые по инициативе губернской администрации за нарушение установленных
правил предали суду чиновника - вельского исправника Л.А. Стофельса. Он
свидетельствовал лес, вырубленный из владельческой дачи, без участия лесниче-
го, за что по приговору уголовной палаты получил выговор и подтверждение92.
88
РГИА, ф. 1409, оп. 2, д. 5585, л. 61 об.-62.
89
ПСЗ-II. Т. 10. Отд. 1. СПб., 1836. № 8142. С. 427-430, 432.
90
В 1821 г. владельцам частных лесных дач выдали разрешение за подписью вологодско-
го губернатора вырубить на заморский отпуск 4 734 бревна, в 1822 г. - 5 тыс., 1823 г. - 14 650,
1824 г. - 68 955, 1825 г. - 95 443, 1826 г. - 91 654, 1827 г. - 35 473, 1828 г. - 122 597, 1829 г. - 174 297,
в 1830 г. - 74 518 брёвен (РГИА, ф. 1409, оп. 2, д. 5585, л. 60 об., 72).
91
Там же, л. 62 об.-63.
92
ГА ВО, ф. 177, оп. 1, д. 142, л. 53-55 об.
124
Ревизоры доставили немало волнений вологодским служащим. Так, устюж-
ский земский исправник А.И. Дружинин, узнав «неприятные вести» об откры-
тии следственной комиссии в Великом Устюге, «положил непременно выйти
в отставку до окончания дел оной»93, опасаясь увольнения по суду. Это не
помогло избежать разбирательства, но заставило задуматься о «доброй сове-
сти» и необходимости обратиться к Всевышнему с просьбой «о подкреплении
нас в минуту совращения с пути истинного»94. Донос о получении больших
взяток с лесопромышленников за продажу «казённого леса вместо своего» по
итогам расследования не подтвердился, сам Дружинин ни в чём не сознался
и в 1838 г. был оправдан95.
Находясь в губернии, Мертенс и Корнилов способствовали возбуждению
ряда уголовных дел. В первую очередь они обратили внимание на лесных чи-
новников, полагая, что значительные вырубки не могли осуществляться без
их ведома96. В случаях очевидного нарушения закона ревизоры инициировали
следственные действия, проводили допросы. Под суд попали сольвычегодский,
устьсысольский, яренский и грязовецкий окружные лесничие, члены устьсы-
сольских уездного и земского судов, в обязанности которых входила проверка
документации, выдача бумаг и свидетельство лесных дач, а также чиновники,
проводившие расследование незаконных рубок97. Однако вины подсудимые не
признали, а суд в целом отнёсся к ним благосклонно, не назначив строгих
наказаний. Уволили только сольвычегодского лесничего, и то лишь потому,
что на этом настоял Департамент государственных имуществ, признавший его
«неблагонадёжным к лесной должности»98.
На общем фоне выделяется дело против грязовецкого лесничего Н. Зубова.
По поручению сенаторов его действия расследовал чиновник 7-го класса Фо-
мин, который пришёл к выводу, что лесничий не осматривал вверенную ему
дистанцию, на донесения лесных надзирателей о незаконных рубках не реаги-
ровал, самовольных «порубщиков» к ответственности не привлекал, штрафные
деньги в пользу лесных доходов не взыскивал и т.п. Однако в 1833 г. дело
Зубова сгорело при пожаре. Губернское правление поручило новое расследо-
вание дворянскому заседателю Грязовецкого уездного суда, который уже не
смог открыть злоупотреблений. Он сообщил лишь о показаниях крестьян, что
при получении билетов на рубку леса для их домашних надобностей лесные
надзиратели всегда собирали за это для Зубова по 10 коп. с души. Но тут же
уточнил, что крестьяне не смогли доказать, что лесничий действительно полу-
чал эти деньги, к тому же они не вспомнили, кто именно производил сборы.
В марте 1839 г. палата уголовного суда полностью его оправдала, основываясь
на материалах повторного расследования99.
93
Там же, ф. 671, оп. 1, д. 46, л. 112 об.
94
Об этом можно прочесть в его дневнике (Плех О.А. «В нашем месте… с честностию и благо-
родством умрём с голоду»: размышления о службе провинциального чиновника 1820-х гг. на стра-
ницах его дневника // История России с древнейших времён до XXI века: проблемы, дискуссии,
новые взгляды. Сборник статей участников VIII международной научно-практической школы--
конференции молодых учёных (24-25 ноября 2020 г.). М., 2020. С. 158-167).
95
ГА ВО, ф. 177, оп. 1, д. 157, л. 580а-580б об.
96
РГИА, ф. 1409, оп. 2, д. 5585, л. 77 об.
97
ГА ВО, ф. 177, оп. 1, д. 142, л. 184-188, 525-535; д. 146, л. 511-517 об.; д. 160, л. 136-141 об.
98
Там же, д. 142, л. 184-188.
99
Там же, д. 160, л. 136-141 об.
125
Любопытным также выглядит дело по обвинению помощника грязовец-
кого окружного лесничего Васильевского. В 1830 г. его прикомандировали де-
путатом с лесной стороны к дворянскому заседателю губернской палаты уго-
ловного суда К.И. Белову, расследовавшему незаконные рубки казённых лесов
в Вельском уезде. По просьбе архангельского купца Онегина Васильевский
утаил из следственного дела бумаги, доказывавшие преступления, за что полу-
чил взятки на сумму 610 руб. от заказчика и причастных к делу лиц - вельского
подлесничего Петровского и поставщика леса Абрамова. В феврале 1831 г. Ва-
сильевский сознался в содеянном на допросе, но позднее, находясь в остроге,
попытался отказаться от своих слов и подал «извет» на Белова, который якобы
способствовал сокрытию преступления и вымогал деньги у Петровского. Суд
не принял это в расчёт и, основываясь на признании вины, в ноябре 1832 г.
приговорил его к двадцати ударам плетьми и ссылке на каторжные работы100.
Петровскому же удалось избежать суровой кары, несмотря на то что сенаторы
нашли его «собственноручное» письмо Васильевскому с просьбой «о закры-
тии истины по делу о злоупотреблениях его при сплаве лесов»101. Уголовная
палата «не увидела» доказательств «лиходательства», а прочие его «упущения»
по службе нашла маловажными и совершёнными без умысла. Сенат, не согла-
сившись с приговором, возвратил дело на пересмотр, но и в этот раз местные
судьи ограничились подтверждением Петровскому, «чтоб впредь при отправле-
нии должности был осмотрительнее»102.
Материалы уголовных дел, выявленные в ходе настоящего исследования,
показывают, что чиновники могли провести расследование так, чтобы винов-
ный избежал наказания либо отделался выговором или предупреждением.
В умелых руках даже многочисленные свидетельства утрачивали доказатель-
ственную силу (для этого, к примеру, достаточно было не привести свидетеля
к присяге). В такой ситуации, по сути, единственным основанием, которое
суд не мог проигнорировать, являлось чистосердечное признание, встречавше-
еся крайне редко. Сенат, ревизовавший отдельные дела103, пытался напомнить
о правосудии, возвращая оправдательные приговоры на пересмотр, но пере-
ломить ситуацию не мог. Делопроизводство лишь затягивалось и, в конечном
счёте, всё равно подсудимых освобождали. К примеру, пять уголовных дел,
возбуждённых по итогам работы следственной комиссии в Великом Устюге,
долго находились на стадии расследования и рассмотрения в судах первой ин-
станции, которые пришли к выводу, что незаконных рубок без билетов практи-
чески не проводилось, доказанные единичные случаи не нанесли значительно-
го ущерба казне, а виновные лица не установлены104. Затем эти дела поступили
на ревизию в уголовную палату, где были соединены в одно производство и за-
крыты решением от 28 декабря 1845 г. Подписанный губернатором приговор
100 Там же, д. 134, л. 1286-1290 об.
101 РГИА, ф. 560, оп. 7, д. 537, л. 3.
102 ГА ВО, ф. 177, оп. 1, д. 154, л. 119-123.
103 Сенат ревизовал дела с обвинительными приговорами, по которым чиновникам грозило
ограничение или лишение прав состояния, а также дела, начавшиеся с предложения ревизовавших
губернию сенаторов и по итогам их проверок. Приговоры по прочим делам вступали в силу после
их подписания губернатором.
104 Мнение никольских уездного суда и городской ратуши от 15 июня 1836 г., Тотемского
уездного суда от 31 августа 1836 г., Вельского уездного суда от 28 июля 1837 г., сольвычегодских
уездного суда и городового магистрата от 25 февраля 1838 г., устюжских уездного суда и городового
магистрата от 22 марта 1844 г.
126
направили в Сенат на утверждение. Там с ним не согласились, и в июне 1847 г.
дело вернулось на пересмотр с предписанием «присовокупить» к нему вновь
поступившие в уездные суды доносы о незаконных рубках. Спустя год уголов-
ная палата это распоряжение исполнила, но итог остался прежним: «Обстоя-
тельства на счёт злоупотреблений по заготовке лесов во владельческих дачах
с 1821 по 1831 г. оставить без последствий»105.
Определённый результат ревизия всё же дала: сменившие Брусилова106 гу-
бернаторы внимательнее относились к своим обязанностям по лесной части.
Но для пресечения незаконных рубок этого было недостаточно. Со своей сто-
роны местные суды по-прежнему не стремились строго наказывать чиновни-
ков. Так, в 1836 г. в губернскую администрацию поступило очередное доне-
сение о «самовольной вырубке сверх билетов» казённых лесов в Никольском
уезде разными помещиками и экономическими крестьянами. Вырубка оказа-
лась значительной, лес сплавляли к порту. Собранная по распоряжению губер-
натора следственная комиссия выявила получение взяток и прочие незаконные
действия не только лесных чиновников (подлесничего и чиновника Правления
Северного округа корабельных лесов), но и членов Никольского и Кологрив-
ского земских судов. Приговор был вынесен в 1840 г.: подсудимые не призна-
лись, а собранные комиссией материалы суд не принял как доказательство
вины и всех оправдал107.
В центральном правительстве к проблеме охраны и использования лесов
вернулись в середине 1830-х гг., во время обсуждения вопроса об учреждении
Министерства государственных имуществ. Его будущий глава П.Д. Киселёв,
в ходе обозрения ряда губерний лично убедившийся, что опустошение лесов
имеет огромные размеры, обозначил главные проблемы, которые требовали
принятия «безотлагательных и строгих мер»: злоупотребления лесных чинов-
ников, недостаток лесной стражи, «невведение правильного лесоводства», уста-
ревшие и неточные планы и описания казённых владений, неэффективный
надзор центра108. По его подсчётам, «ежегодные потери в казённых лесах от
пожаров и самовольных порубок исчислялись более чем на 4 м[лн] р[уб.] ас-
с[игнациями], а доход казны от лесов едва достигал до 600 т[ыс.] руб.»109. Ми-
нистерство появилось в конце 1837 г.110, с 1838 г. управление лесами изымалось
из ведения казённых палат. В Вологодскую губ. прибыл чиновник V отделения
Собственной его императорского величества канцелярии для ревизии государ-
ственных имуществ. Он выявил нарушения в порядке управления ими, требо-
вавшие «распорядительных мер» со стороны губернатора. В частности откры-
лось, что лесопромышленники многократно сплавляли лес и лесные изделия
по одним и тем же документам, поскольку на них никто не ставил отметки,
«что изделие было уже провезено». По одному сплавному билету получалось
105 В данном случае палата сослалась на мнение министра финансов, в соответствии с кото-
рым свернули работу следственной комиссии в Великом Устюге (см.: Там же, д. 242, л. 657-670).
106 В 1834 г. Брусилов вышел в отставку «для поправления расстроенного на службе здоровья».
После него губернией управлял С.И. Кузьмин, затем, с 1836 по 1840 г., - Д.Н. Болговский (Балак-
шин Р.А. На службе российской: правители Вологодского края со времён Екатерины Великой до
нынешних дней. Кн. 1. Вологда, 2009. С. 159, 165, 193).
107 ГА ВО, ф. 177, оп. 1, д. 163, л. 150-162 об.
108 Заблоцкий-Десятовский А.П. Граф П.Д. Киселёв и его время: материалы для истории импе-
раторов Александра I, Николая I и Александра II. Т. 2. СПб., 1882. С. 22, 50.
109 Там же. С. 50.
110 ПСЗ-II. Т. 13. Отд. 1. СПб., 1839. № 11189.
127
провезти товар до пяти раз, поскольку выдавался он сроком на год. Вологод-
ская казённая палата объясняла это недобросовестным поведением лесопро-
мышленников, на которых возлагалась обязанность возвращать использован-
ные документы через городничих, земские суды или лесничих. Для решения
этой проблемы Министерство государственных имуществ предписало ввести
двухмесячный срок действия сплавных билетов111.
Приём государственных имуществ осуществляла открывшаяся в Вологде
приуготовительная комиссия, которая среди прочего занималась сбором раз-
ного рода сведений, в том числе ведомостей о движении дел по незаконным
рубкам казённых лесов в уездных судах с 1835 по 1837 г.: всего поступило 89 та-
ких дел, из которых к середине 1838 г. удалось решить 67112. С 1839 г. МВД взя-
ло под контроль расследование «происшествий в корабельных рощах», требуя
от губернатора «учинить строгое распоряжение» о безотлагательном открытии
и предании должному взысканию виновных. В связи с этим губернское прав-
ление начало регулярно запрашивать у земских судов сведения о количестве
находившихся в производстве дел. Благодаря этому обнаружилась особенная
медленность никольских чиновников: нерешёнными числилось 40 дел о неза-
конных рубках (из них 26 - в корабельных рощах), некоторые из них длились
с 1830 г.113
В октябре 1842 г. губернаторы получили циркуляр, в котором сообщалось,
что император, обратив внимание на устройство лесов, повелел «строгими ме-
рами» побудить земскую полицию «к неотложному преследованию похитителей
леса и производству следствий о самовольных порубках», чтобы немедленно
привести к окончанию «дела о лесопохищениях». За их «накопление» отныне
вводилась личная ответственность начальников губерний. Со своей стороны
Киселёв предложил в каждом уезде, где «накопились следствия о самоволь-
ных порубках», назначить специального чиновника, «который бы постоянно
занимался производством оных до совершенного окончания, и наблюдать со
стороны губернских начальств за успешным ходом оных по путевым журналам
сего чиновника»114.
В целом открытие в Вологде 1 мая 1839 г. палаты госимуществ и окружных
управлений115, а также создание на местах военизированной лесной охраны
(корпуса лесничих) внесли заметное оживление в борьбу с незаконными руб-
ками. К суду начали массово привлекать избранных в волостные правления
крестьян за «самовольное дозволение порубки» казённым поселянам, незакон-
ные сборы денег при составлении приговоров на отпуск леса на домашние
надобности и прочие нарушения лесного законодательства116. В большинстве
своём эти дела начинались с доносов крестьян, недовольных действиями во-
лостных правлений. Подсудимые часто сознавались, по всей видимости, по
111 ГА ВО, ф. 18, оп. 1, д. 646, л. 1-2, 4-4 об., 15 об.-16.
112 Подсчитано по: Там же, д. 853, л. 1-38.
113 Никольский земский исправник объяснял остановку «всякого движения» по лесным делам
«некомандированием» со стороны окружного управления лесного чиновника, без которого суд не
имел права приступить к следствию (Там же, ф. 14, оп. 1, д. 977, л. 18, 33-42, 69-72).
114 Там же, ф. 300, оп. 1, д. 1, л. 2.
115 Там же, ф. 14, оп. 1, д. 929, л. 50.
116 Там же, ф. 177, оп. 1, д. 169, л. 1097-1098 об.; д. 271, л. 1374-1377 об.; д. 301, л. 1296-
1302 об.; д. 302, л. 524-532, 542-554 об.; д. 305, л. 464-472, 607-655, 811-829 об.; д. 306, л. 878-893,
1627-1635, 1647-1651; д. 325, л. 1252-1266.
128
«крестьянской простоте», за что получали довольно суровые наказания, хотя
суды нередко смягчали их, ссылаясь на «неведение своих обязанностей». Пала-
та государственных имуществ не упускала из виду и действия подчинённых ей
должностных лиц, отдавая под суд за нарушения порядка свидетельства лесных
участков и упущения при расследовании незаконных рубок117.
В то же время в судебной практике, касавшейся чиновников, значимых
изменений не происходило. Наглядным примером служит дело, начавшееся
с жалобы помещичьих крестьян чиновнику особых поручений Г.А. Перетцу,
в декабре 1843 г. приехавшему в Вельск по служебным делам. Согласно доносу,
на протяжении ряда лет служащие Кадниковского и Вельского земских судов
(исправники, непременные заседатели, становые приставы и др.) брали взятки,
в том числе при выдаче сплавных билетов и разрешений на рубку леса «на раз-
ные лесные изделия». Допрошенные в ходе расследования более 130 помещи-
чьих старост и крестьян подтвердили лихоимство и злоупотребления. Однако
палата уголовного суда увидела лишь канцелярские беспорядки и незначитель-
ные нарушения при выдаче сплавных билетов, совершённые не злонамеренно,
по неосторожности. Подсудимые во взятках не признались, и по этой части
в 1847 г. их полностью оправдали. За остальное они получили лишь выговор
без внесения в формулярный список. Доносчикам, «уважая крестьянскую про-
стоту и легкомыслие», предписали сделать «внушение». Их многочисленные
показания суд не счёл доказательствами лихоимства, аргументируя это тем,
что, во-первых, «некоторые» из них оказались «разнообразными», во-вторых,
«отобраны» без присяги и от лиц, прикосновенных к делу118.
Кроме того, по мнению суда, все доносы опровергались тем, что ещё
в 1841 г. чиновник особых поручений П.Д. Пузыревский-Пузан и советник
губернского правления И.Н. Новицкий производили следствие «о денежных
поборах членов земского суда», но никто «из помянутых крестьян» на подсу-
димых не жаловался119. Доносы тогда поступили только на становых приставов
Грязовецкого и Кадниковского уездов. Палата уголовного суда также вынесла
оправдательный приговор, поскольку никто из подсудимых вины не признал.
Сотские и старосты «ясных доказательств не представили», впоследствии поч-
ти все отказались от показаний, а тех, кто настаивал на взятках, опросили без
присяги и верить им как лицам, причастным к делу, было нельзя120.
Казалось бы, перед нами типичный для местного судопроизводства пример
разбирательства по лихоимству, если бы не приложенное к делу особое мнение
дворянского заседателя уголовной палаты И.А. Левашова. Он не согласился
с приговором, основываясь на том, что расследование по делу проводилось
дважды. В первый раз на место отправились Пузыревский-Пузан (в Грязовец-
кий уезд) и депутат от дворянства Д.И. Суворов (в Кадниковский). На до-
просах крестьяне единогласно показали сбор денег на подарки чиновникам.
По всей видимости, это не удовлетворило суд, который предписал Новицкому
дополнить дело некоторыми сведениями. Прибыв на место, он вопреки пору-
чению принялся «переисследовать» дело: допрашивал крестьян заново, причём
не приводя к присяге. Почти все отреклись от показаний. Левашов полагал,
117 См., например: Там же, д. 213, л. 819-822.
118 По логике суда, если крестьянин давал / передавал взятку либо участвовал в сборе денег, то
он являлся заинтересованным лицом.
119 ГА ВО, ф. 177, оп. 1, д. 227, л. 376-385.
120 Там же, д. 186, л. 1281-1291 об.
129
что этого не может быть, поскольку в первый раз допросы проводились по
всем правилам, в присутствии депутатов от дворянства и других чиновников.
Он подчеркнул, что Новицкого не уполномочивали на второе следствие, что
верить нужно, скорее, двум следователям, чем одному, и что при таких разно-
чтениях законом предписано проводить третье следствие, проверяющее первые
два. По мнению Левашова, чиновники полностью себя не оправдали. Двоих из
них уже неоднократно судили и штрафовали, их следовало уволить и впредь
не определять к должностям, а остальных как минимум оставить в сильном
подозрении. Кроме того, он протестовал против сурового наказания старост
и сотских, собиравших деньги, поскольку делали они это не самопроизволь-
но, а по вымогательству и под угрозами чиновников (их хотели приговорить
к наказанию розгами и «выдержанию на хлебе и воде»)121. С последним пун-
ктом палата уголовного суда согласилась: «уважая многолюдство, крестьянскую
простоту и учинение по легкомыслию», приговорила доносчиков к строгому
подтверждению.
Представленные примеры судебных решений как нельзя лучше иллюстри-
руют меткие замечания современников, что в дореформенный период в чи-
новных сферах «безнаказанность господствовала сверху донизу». «Каждый был
уверен, что в трудную минуту он найдёт себе “милостивца”, который поможет
ему выйти сухим из воды»122. Определённую роль в этом сыграло распростра-
нение взяточничества, но не меньшее значение имели личные связи и место
занимаемой подсудимым должности в системе местного управления. Рядовые
канцелярские служащие обладали гораздо меньшими возможностями повли-
ять на приговор, хотя суд в целом демонстрировал к ним благосклонность.
К примеру, в 1853 г. палата уголовного суда уволила с трёхлетним запретом
службы столоначальника Сольвычегодского земского суда Н. Рупышева, об-
винявшегося в превышении власти через удержание денег, взысканных им во
время производства следствия о «проплаве» в 1840-1843 гг. разными лицами
лесных изделий в Архангельск. Собственно, в отношении именно этого деяния
суд, приняв во внимание объяснения подсудимого и внесение им утаённых де-
нег в казну, посчитал корыстные мотивы недоказанными и оставил Рупышева
в подозрении. Уволили его за другое - грубости и ослушание непосредствен-
ного начальства123.
Приговоры палаты уголовного суда124 просматривались губернскими про-
курорами и утверждались начальниками губернии. Ни те ни другие, как прави-
ло, не протестовали против сложившейся практики рассмотрения дел о долж-
ностных преступлениях. По всей видимости, повлиять на ситуацию не мог
и Сенат, весьма ограниченный в способах воздействия на местный суд.
Работа Министерства государственных имуществ проходила не без труд-
ностей, особенно по части устройства и комплектования лесной стражи, но
к середине XIX в. она положительно отразилась на «охранении» лесов. Этому
способствовали не столько многочисленные запретительные постановления
121 Там же, л. 1289-1290 об.
122 Судебная реформа / Под ред. Н.В. Давыдова и Н.Н. Полянского. М., 1915. С. 205-206.
123 ГА ВО, ф. 177, оп. 1, д. 301, л. 851-874 об.
124 Для обозначения должностного преступления в законе использовалось понятие «следствен-
ное дело» и устанавливался особый порядок его рассмотрения. По общему правилу такие дела были
подсудны уголовным палатам. Преступления губернаторов, губернских предводителей дворянства,
председателей губернских палат и губернских прокуроров относились к подсудности Сената.
130
и законы о преследовании нарушителей лесного устава, сколько активизация
лесоустроительных работ на научных основаниях, «приведение в известность»
(описание и картирование125) казённых лесов, специальная подготовка лесни-
чих и развитие системы профильного образования, наконец, усиление контро-
ля и надзора над лесными промыслами, перемещением и реализацией древеси-
ны. Такой подход во многом отражал взгляды Киселёва. Министр понимал, что
развитие лесопромышленности необходимо, но также осознавал, что для этого
требуются «затраты денег и умственных способностей» (но «денег у нас мало,
а просвещения ещё менее», - отметил он в заметках126). В связи с этим в рабо-
те ведомства на первое место он выдвигал «не усиление средств к умножению
доходов от лесов», а «сбережение их от конечного истребления».
Конечно, верховная власть никогда не забывала и о казённом интересе.
Если уйти от ответственности за участие в незаконных рубках местным чи-
новникам удавалось, то взыскание убытков суд не игнорировал. К примеру,
в 1853 г. в Архангельске при свидетельстве грузов и судов обнаружилось, что
пошлины взысканы не в полном объёме. Сенат «усмотрел», что Кадниковский
и Тотемский земские суды в 1847-1850 гг. выдали в общей сумме 24 билета
на сплав речных судов с заниженными размерами пошлины, и предписал гу-
бернскому правлению провести расследование. В итоге 13 служащих указанных
судов за неправильную выдачу билетов попали под следствие. Они объясняли
произошедшее тем, что промышленники ввели их в заблуждение. Уголовная
палата хотя и признала такое оправдание «не заслуживающим уважения», но
приговорила их только к выговору за «невнимание к исправлению должностей»
и, постановив взыскать убыток с судостроителей, отметила, что если последние
окажутся несостоятельными, то недостающие деньги будут истребованы с под-
писавших билеты чиновников127.
Итак, в истории управления природными ресурсами период с конца XVIII
до середины XIX в. является знаковым. Именно в это время проблема истре-
бления лесов в результате хищнической эксплуатации обратила на себя долж-
ное внимание верховной власти, которая пыталась выработать принципы веде-
ния лесного хозяйства, соблюдающие баланс между общественным и частным
интересом.
Долгое время казённый лес воспринимался как «запасной магазин», при-
званный обеспечивать государственные нужды (в первую очередь, корабле-
строение). С этой точки зрения ставка делалась не на развитие рационального
лесопользования, а на охрану природных ресурсов. Действуя путём издания за-
претительных постановлений, государство рассчитывало, что появление на ме-
стах ограниченного числа лесных чиновников сможет обеспечить надлежащий
надзор. Однако на бескрайних просторах Европейского Севера при фактиче-
ском отсутствии подробных и точных карт это не представлялось возможным.
125 По сведениям, собранным губернским лесничим, к
1848 г. в губернии находилось
235 казённых дач (29,4 млн десятин), 424 дачи, приписные к казённым селениям (1,1 млн деся-
тин), 58 дач, неразмежёванных с казёнными селениями (1,5 млн десятин), 365 заказных корабель-
ных рощ (258 тыс. десятин), 11 въезжих дач (92 тыс. десятин), 4 приписные к заводам (115 тыс.
десятин), 12 примежёванных к удельным селениям (463 тыс. десятин), 57 общих (74 тыс. десятин)
(Брадке И.И. Краткое статистическое описание лесов Вологодской губернии и производимых в них
промыслов // Вологодские губернские ведомости. Часть неофиц. 1846. № 39. С. 403-404).
126 Заблоцкий-Десятовский А.П. Граф П.Д. Киселёв и его время… С. 178.
127 ГА ВО, ф. 177, оп. 1, д. 325, л. 149-214.
131
Более того, происходившее в Вологодской губ. наглядно показало, что интере-
сы населения, лесопромышленников и местного чиновничества не совпадали
с намерениями центра. Население, основу которого составляли казённые кре-
стьяне, издавна относилось к окружающему их лесу как к своей собственности,
используя его и в личных целях, и для развития промыслов, приносивших
немалый доход. Местные служащие в условиях ухудшавшегося материального
обеспечения и довольно слабого контроля видели в казённом лесе источник
нелегального дохода. В свою очередь, промышленники, ориентированные на
«заморский отпуск леса», умели договориться и с теми и с другими: чинов-
ники подписывали документы, не обращая внимания на то, в каких объёмах
и откуда сплавлялась древесина, а крестьяне нанимались на лесозаготовки. Всё
это способствовало незаконной деятельности, о размахе которой правительство
едва ли могло судить по периодически поступавшим доносам и жалобам. Уви-
деть масштабы незаконных рубок не позволяли и результаты расследований,
а судебные приговоры, оправдывавшие обвиняемых, не внушали страха перед
законом.
В 1820-х гг. подход государства начал постепенно меняться: лес стал рас-
сматриваться как источник пополнения бюджета, а незаконные рубки - как
непосредственный ущерб казне. В связи с этим предпринимались усилия по
«приведению в известность» границ и состояния частных лесов, учрежда-
лись лесничества, вводился многоступенчатый порядок
«освидетельствова-
ния» участков при рубках, предусматривавший персональную ответственность
должностных лиц. Однако сенаторская ревизия 1830 г. обнаружила несостоя-
тельность системы управления и неэффективность механизмов надзора: неза-
конные рубки не прекратились, напротив, деятельность лесопромышленников
развернулась ещё шире. Становилось очевидным, что навести порядок на ме-
стах без кардинальных изменений невозможно.
Создание в 1837 г. Министерства государственных имуществ, сопровождав-
шееся качественно иной организацией лесопользования и лесоохраны, поспо-
собствовало сокращению злоупотреблений. Деятельность ведомства продемон-
стрировала смену приоритетов: «извлекая из лесов следующий казне доход,
сохранить оные, введением доброго хозяйства, от истребления и истощения»128.
Осознанная политика включала в себя меры по улучшению устройства и учёта
казённых лесов, создание корпуса лесничих, усиление подчинённости местных
органов центру, подготовку квалифицированных кадров и т.д. Всё это оставля-
ло чиновникам меньше возможностей для участия в незаконной деятельности,
однако на судебную практику в их отношении не повлияло.
128 Столетие учреждения Лесного департамента… С. 110.
132