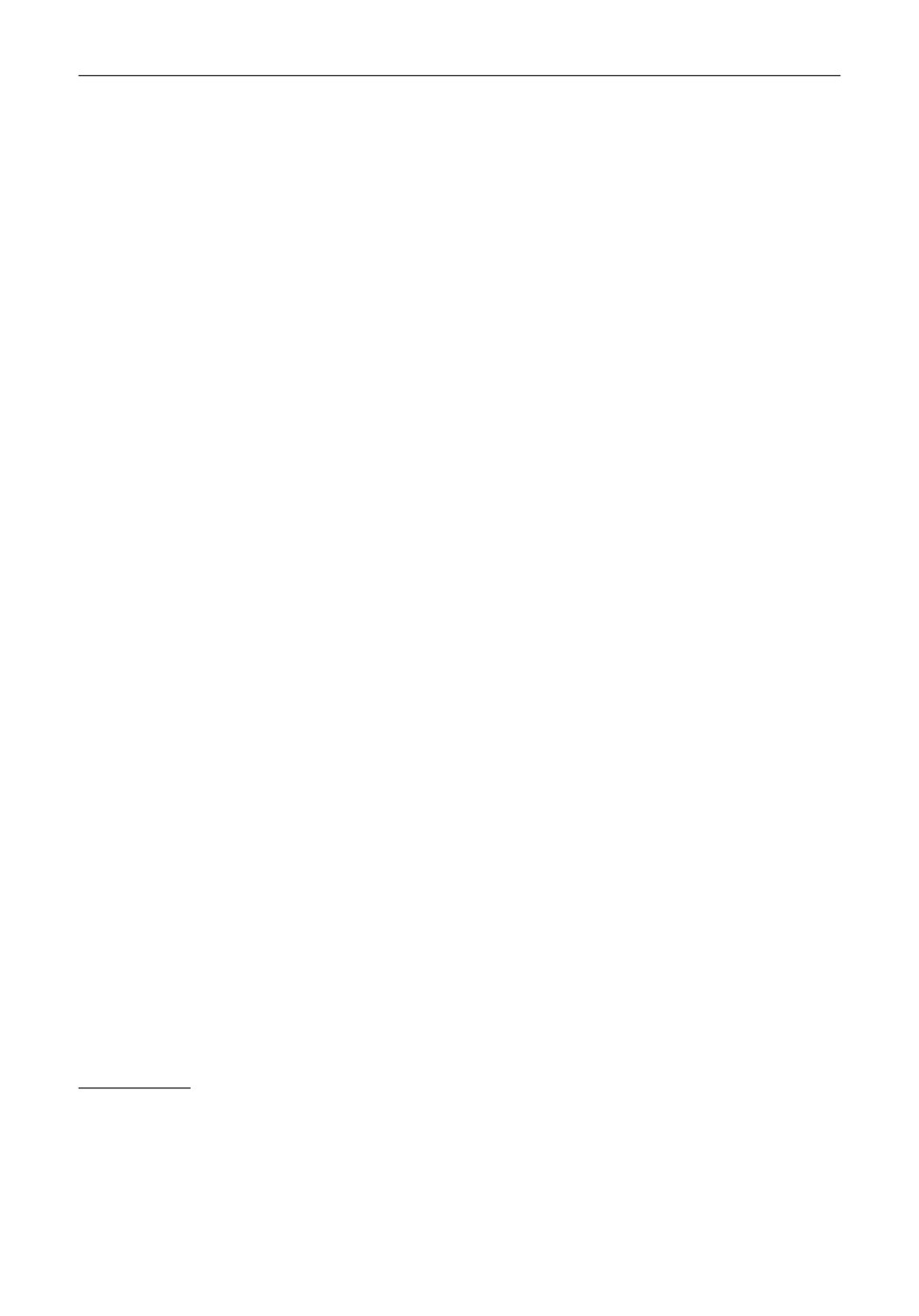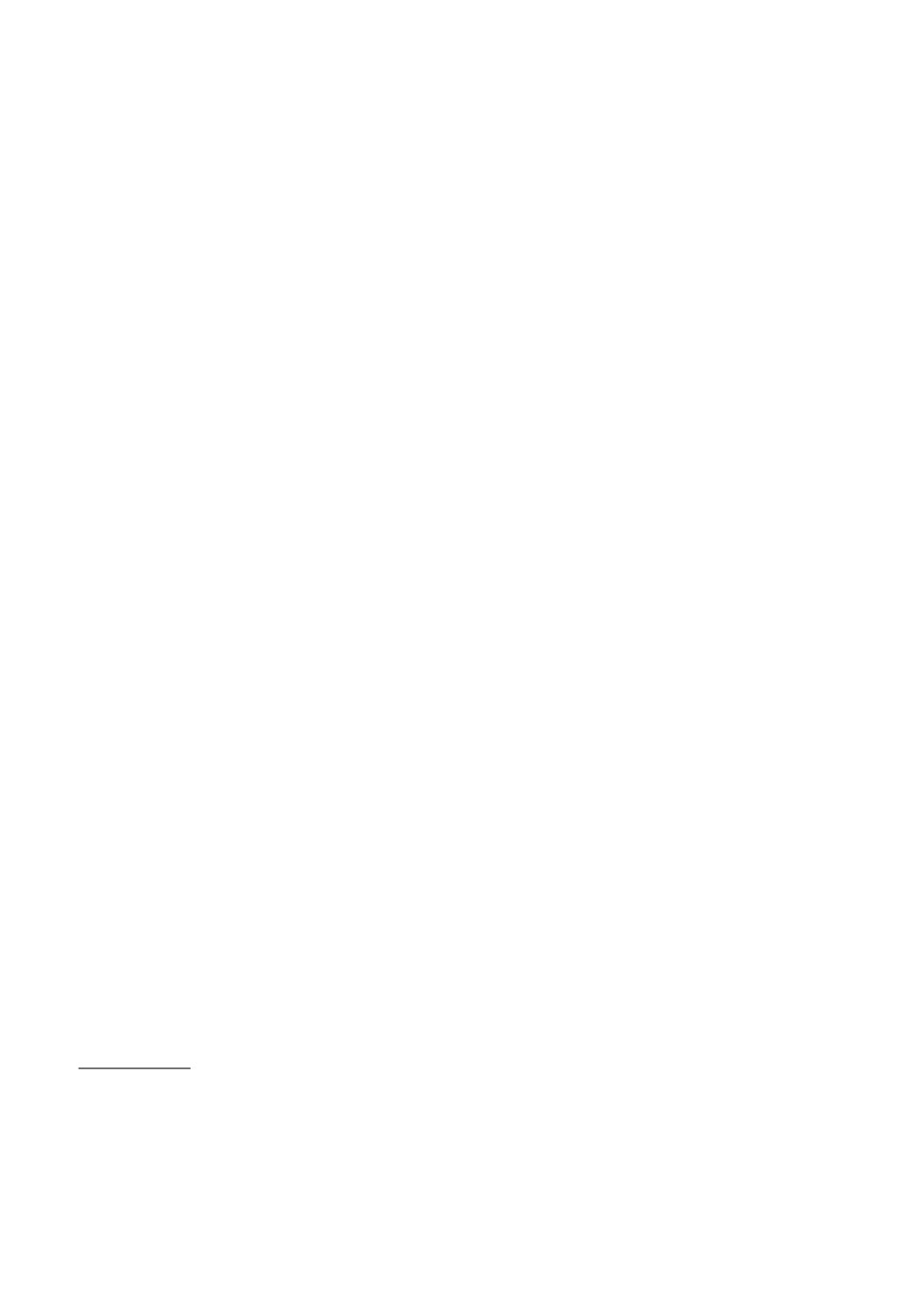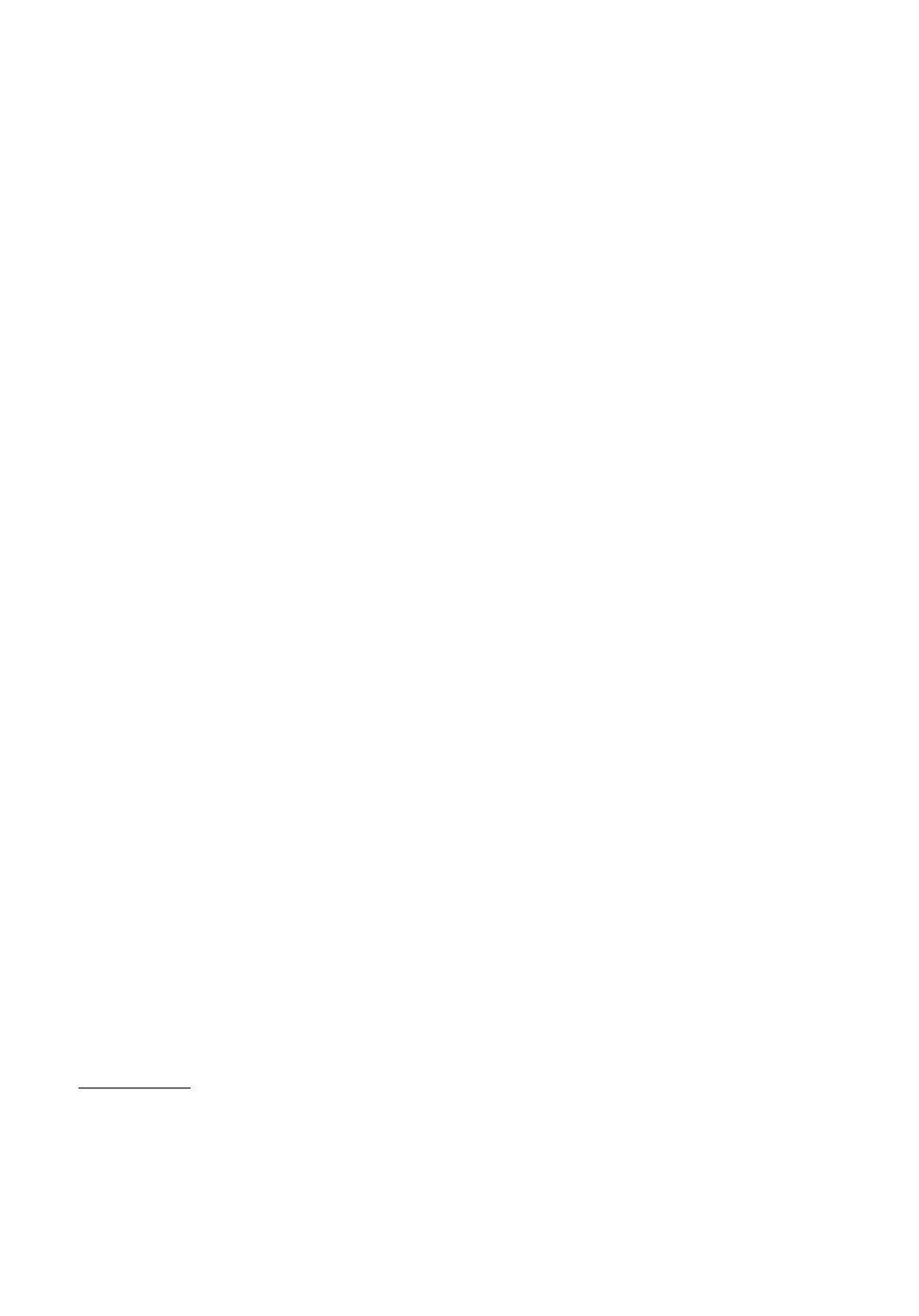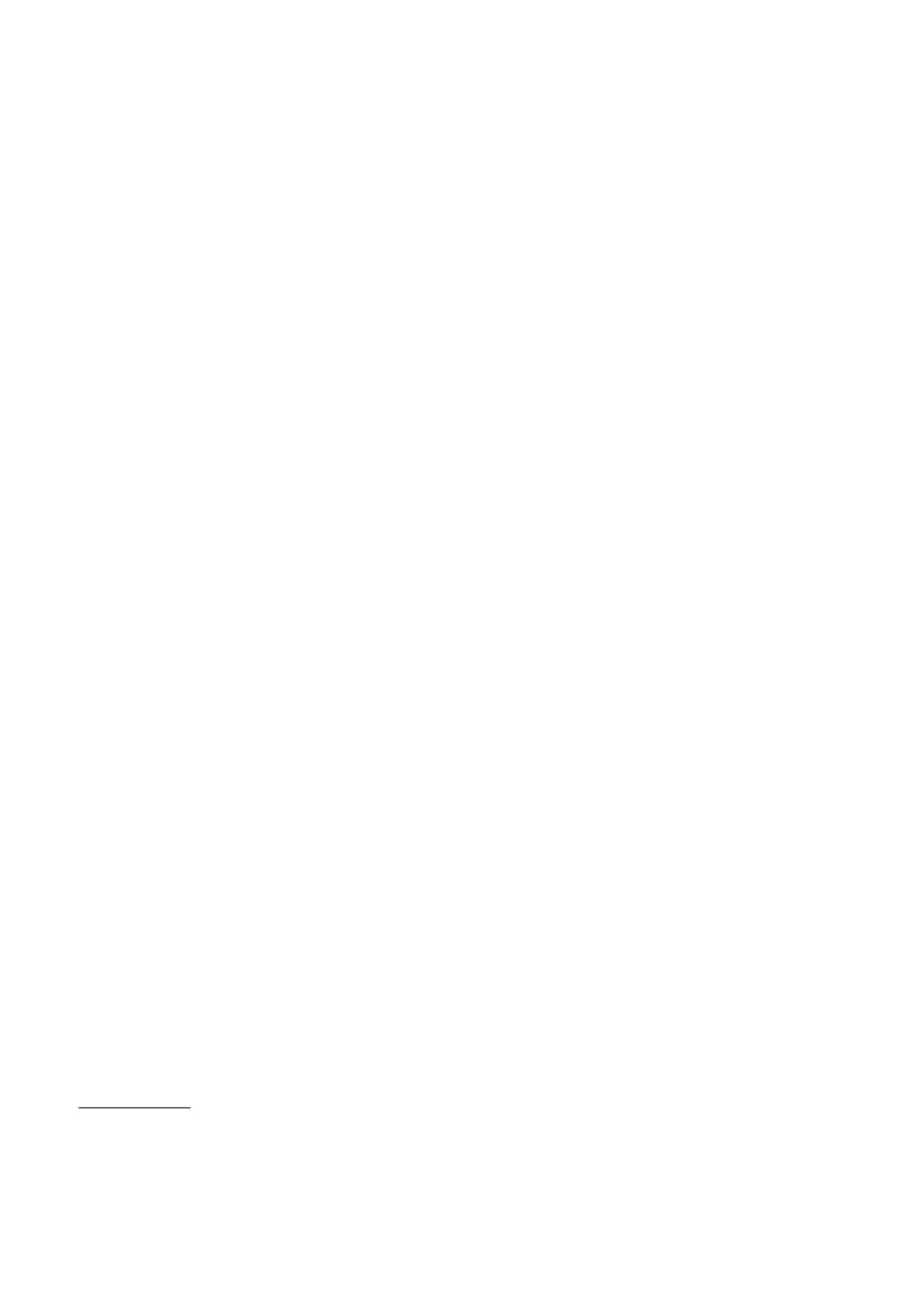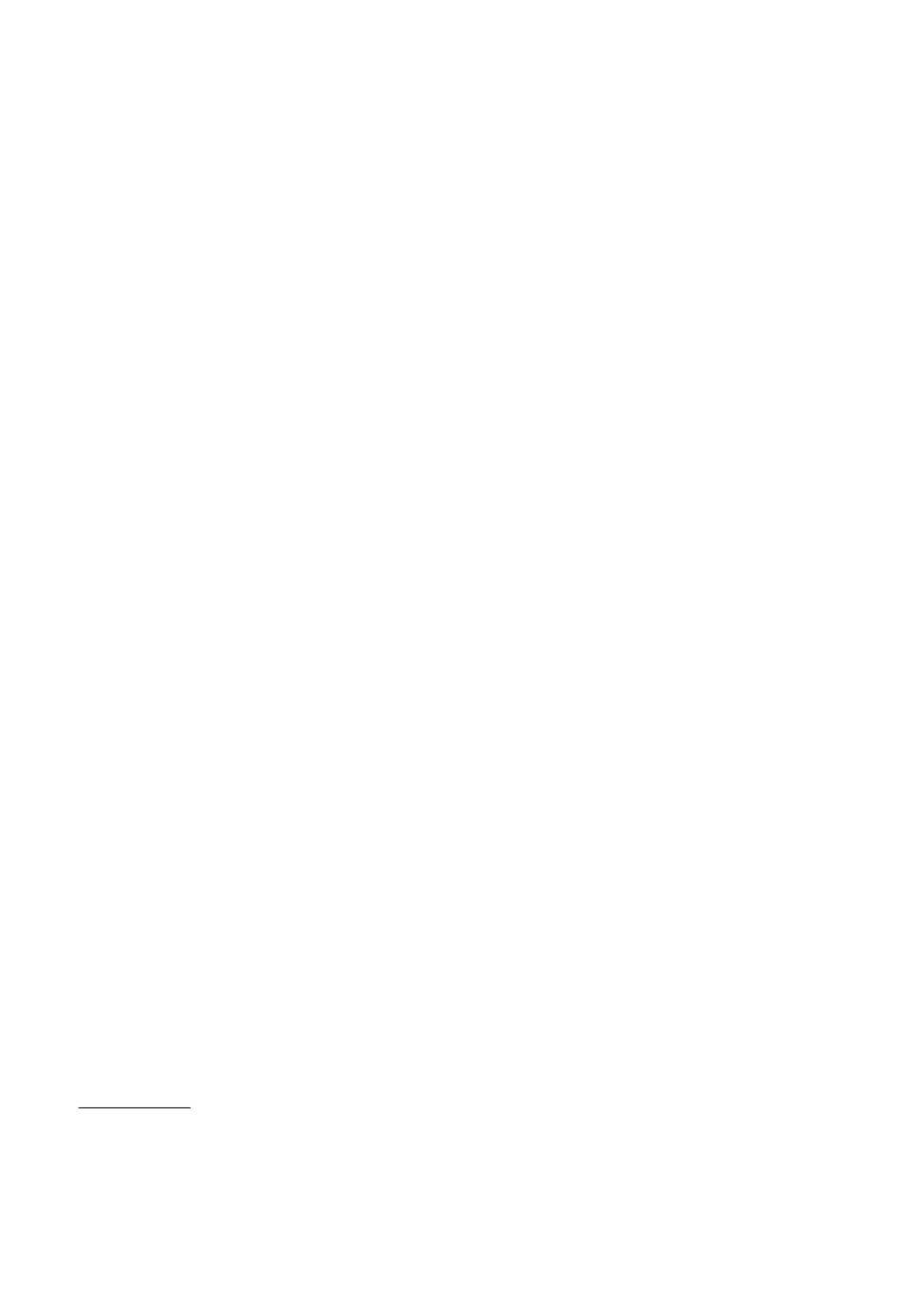«Русификация» советской архитектуры в 1930-1940-х гг.:
идеология, теория, практика
Илья Печёнкин
«Russification» of the Soviet architecture in 1930-1940s:
ideology, theory, practice
Ilia Pechenkin
(Russian State University for the Humanities, Moscow)
DOI: 10.31857/S2949124X23020128, EDN: BIXJCK
Архитектура советского периода чаще всего рассматривается как носитель
и проводник идеологии пролетарского интернационализма. С этой точки зре-
ния и романтический неоклассицизм первых лет революции, и авангардные
поиски лидеров ВХУТЕМАСа, и творения постконструктивистов, пытавшихся
в начале 1930-х гг. заново изобрести ордер, и советское палладианство, несмо-
тря на все противоречия между ними, всё же вписываются в трактовку истории
архитектуры как чуждой соблазнов великорусского национализма, так много
значившего для эпохи последних Романовых. Как в советской, так и в пост-
советской историографии постулируется разрыв между дореволюционным пе-
риодом и первыми десятилетиями советской власти: «Русское национальное
зодчество ХХ века было насильственно вычеркнуто из нашей истории после
прихода большевиков к власти»1.
Взгляд через такую оптику влияет и на изложение биографий архитекто-
ров того времени. Характерный и яркий пример - публикации, посвящённые
А.В. Щусеву, который не только входил в архитектурный ареопаг сталинской
эпохи, но и выступал деятельным сторонником внедрения в советскую архитек-
туру русских национальных мотивов. Последнее обстоятельство создавало для
биографов проблемы в свете необходимости противопоставления до- и после-
революционного периодов его деятельности. Так, в книге К.Н. Афанасьева
повествование разделено на две части. Глава «Традиции древнерусской архи-
тектуры в творчестве Щусева» помещена в дореволюционный раздел, тогда как
разговор о крупнейшем творении мастера в национально-выразительных фор-
мах - Казанском вокзале - ведётся в советском, первая глава которого названа
«Перепланировка Москвы. Казанский вокзал. Конструктивизм»2.
Афанасьев задался благородной целью выявить образ Щусева-конструк-
тивиста, что было невозможно ранее. Но из необходимости заполнения лакун
знания не следует допустимость забвения вещей, прежде вполне очевидных.
Прижизненная характеристика именовала Щусева
«непревзойдённым ма-
стером… в области исторических форм русского национального зодчества»3.
© 2023 г. И.Е. Печёнкин
Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 21-512-15002.
1
Крашенинников А.Ф. В.Н. Максимов. Зодчий русского национального стиля. 1882-1942.
М., 2006. С. 56.
2
Афанасьев К.Н. А.В. Щусев. М., 1978.
3
Соколов Н. Мастера советской архитектуры // Архитектура СССР. Сборники Союза совет-
ских архитекторов. Вып. 17-18. М., 1947. С. 86.
161
Это плохо согласуется с утверждением о полном забвении в СССР «русского
национального зодчества». Отношение к национальным традициям (и в част-
ности к традициям русской архитектуры) выстраивалось значительно сложнее.
Это тема, заслуживающая самостоятельного вдумчивого исследования, поэто-
му в данной статье я лишь намечу его контуры и акценты.
Летом 1930 г. на XVI съезде ВКП(б) генеральный секретарь ЦК партии
И.В. Сталин выдвинул ставшую установочной формулу советской культуры -
национальной по форме и социалистической по содержанию. Акцент делался
на необходимости развития национальных культур народов СССР, а «уклоня-
ющихся в сторону великорусского шовинизма» оратор раскритиковал за непо-
нимание «марксовой диалектики»4. Дальнейшее развитие событий показало,
насколько гибкой могла быть линия партии в зависимости от условий кон-
кретного политического момента. Феномен возрождения в сталинский период
некоторых традиций, свойственных дореволюционной России, ярко описан
В.З. Паперным5. Исследователь массовой культуры тех лет Д. Бранденбергер
убедительно показал, как и зачем начиная с середины 1930-х гг. конструирова-
лось русское национальное самосознание. В преддверии неизбежной большой
войны и ввиду скромных успехов советской социальной инженерии пришлось
задействовать известные ещё с царских времён рецепты мобилизации общества
вокруг идеи Отечества и национальных ценностей6.
Важнейшей вехой стало принятие в 1936 г. новой Конституции, чему со-
путствовало широкое обсуждение её проекта, призванное показать наличие
сплочённого на основе коммунистической идеологии советского общества.
Однако, как отмечает О. Великанова, дискуссия не выявила «ни консенсу-
са, ни единства, ни устоявшейся идентичности». Напротив, власть увидела
«расколотое, разнородное общество с несопоставимыми ценностями и мен-
талитетом гражданской войны»7. Его консолидация стала насущной задачей,
и искусство виделось мощным орудием пропаганды новых идеалов. Правда,
первенство принадлежало его зрелищным разновидностям8. Архитектура при-
сутствовала в кадре и на театральных подмостках в виде декораций. Однако
включению национальных русских форм в творческую палитру мастеров этого
времени препятствовало плохое знание отечественной архитектурной тради-
ции. Исследования древнерусских памятников, начатые в середине XIX в. с це-
лью конструирования «русского стиля», подверглись критике уже в 1900-х гг.
К примеру, А.Н. Бенуа назвал этот пласт культурно-исторического наследия
«порождением грубиянства и невежества», не достойным внимания художе-
ственной молодёжи9. В этом и подобных ему пассажах нашла отражение пози-
4
Политический отчёт Центрального комитета XVI съезду ВКП(б) 27 июня 1930 г. // Сталин И.В.
Сочинения: в 18 т. Т. 12. М., 1949. С. 367, 370.
5
См.: Паперный В. Культура Два. М., 2006.
6
См.: Бранденбергер Д. Сталинский руссоцентризм: советская массовая культура и формиро-
вание русского национального самосознания (1931-1956 гг.) / Авториз. пер. с англ. Н.Г. Алёши-
ной, Л.Н. Высоцкого, Л.Ю. Пантиной. М., 2017.
7
Великанова О. Конституция 1936 года и массовая политическая культура сталинизма.
М., 2021. С. 332.
8
К примеру, сам за себя говорит список кинолент, вышедших на экраны в конце 1930-х гг.:
«Пётр I» (1937-1938), «Александр Невский» (1938), «Руслан и Людмила» (1938), «Минин и Пожар-
ский» (1939), «Суворов» (1940).
9
См.: Бенуа А.Н. Материалы для истории вандализма в России // Мир искусства. Хроника.
1903. № 12. С. 118.
162
ция круга ценителей и художников, чьими усилиями формировалось движение
дореволюционной неоклассики. Едва ли не все советские архитекторы старше-
го поколения были связаны с этим кругом или, во всяком случае, с этим сти-
левым направлением. После революции некоторые из них обратились к кон-
структивизму (В.А. Щуко, братья Веснины), но последующее возвращение их
и их учеников к неоклассике оказалось органичным.
Кроме того, за интерес к русской исторической архитектуре можно было
поплатиться. В частности, в январе 1934 г. ОГПУ арестовало ряд сотрудни-
ков Центральных реставрационных мастерских по обвинению в дискредитации
советской власти и пропаганде русского национализма. Поводом стали фо-
тоснимки разрушаемых памятников зодчества. Среди арестованных оказался
искусствовед М.А. Ильин, впоследствии один из классиков изучения истории
русской архитектуры10. Таким образом, к середине 1930-х гг. национально са-
мобытные формы оказались вытеснены из повестки профессиональных дис-
куссий. Для их актуализации требовались специальные усилия - и они после-
довали. Развернулась кампания апологии русской архитектуры. Уже в 1936 г.
в органе Союза советских архитекторов и главном профессиональном издании
об этом виде искусства, журнале «Архитектура СССР», появилась рубрика «Ар-
хитектурное наследство». Его пропаганда с каждым годом набирала обороты.
Говоря о причинах трудностей, возникших в деле «русификации» советской
архитектуры 1930-х гг., отмечу, что классика в её античном или ренессансном
изводах была зодчим понятнее и ближе также и с сугубо практической точки
зрения. Противоречие между требованиями урбанизации и грёзой о «русском
стиле» возникло уже в конце XIX в. Председатель Петербургского общества
архитекторов И.С. Китнер задавал риторический вопрос: «Как же подчинить
этим формам (формам допетровской архитектуры. - И.П.) и даже размерам
прежней эпохи нашу современную жизнь и устройство нашего жилища?»11.
Русские палаты XVI-XVII вв. в роли прототипов для современных домов, го-
стиниц, театров и т.д. смотрелись гораздо менее убедительно, чем дворцы эпо-
хи итальянского Ренессанса или барокко. Поэтому «русскость» в постройках
современников Китнера могла реализоваться преимущественно на уровне де-
корации фасада. Их советские коллеги в конце 1930-х гг. последовали тем же
путём, о чём свидетельствует, например, семиэтажный дом А.Г. Мордвинова
на Большой Полянке в Москве с фасадами, воспроизводящими декоративные
мотивы церкви Благовещения в Каргополе12, или оставшийся на бумаге проект
жилого дома на улице Чкалова. В последнем случае архитектор Л.М. Поляков
решил задачу «русификации», увенчав боковые повышенные объёмы здания
декоративными ажурными «коронами», явственно напоминавшими заверше-
ние башен Новодевичьего монастыря.
Были, впрочем, и попытки найти компромисс между национальным
и классическим, вернее, выявить в русских традиционных мотивах заключён-
10
Просим освободить из тюремного заключения (письма в защиту репрессированных) / Сост.
В. Гончаров, В. Нехотин. М., 1998. С. 128-132.
11
О значении изучения древних русских памятников для современного зодчества. Доклад
профессора К.М. Быковского // Труды I съезда русских зодчих в С.- Петербурге, 1892 г. СПб.,
1894. С. 10.
12
Седов В.В. Два жилых дома архитектора Мордвинова и возрождение русской темы в архи-
тектуре Сталинского времени // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 2018. № 3.
С. 146.
163
ную в них классичность. В качестве примера можно привести переоформление
залов первого этажа Государственного Исторического музея, произведённое
в 1936-1937 гг. А.К. Буровым при участии художника Л.Ф. Жегина13. Архитек-
тор утверждал, что стремился в этой работе «вскрыть подлинные корни рус-
ской архитектуры, показать, что народные мотивы в ней переплетались с ан-
тичными традициями»14.
Именно лозунг освоения классического наследия, в основе которого лежа-
ла античность, стал ключевым для архитектуры 1930-х гг. На I съезде советских
архитекторов Щусев выступил с докладом «Советская архитектура и классиче-
ское наследство». Обрушившись с критикой на современные формы (включая
конструктивизм), он заявил, что советская архитектура является наследницей
«всего самого прогрессивного, правдивого и прекрасного, что было создано
в прошлом»15, связав классическое искусство древней Эллады с народным
эпосом, актуальным для сталинского СССР героическим нарративом и темой
важности фольклорных традиций. Использование последних оратор трактовал
широко, упомянув, например, о постройке А.О. Таманяном театра в Ереване,
Л.В. Рудневым - Дома правительства в Баку, о собственной работе над здани-
ем Института Маркса-Энгельса-Ленина в Тбилиси, для отделки которого он
привлёк местных чеканщиков, «которые им известными способами прочекани-
ли серебром и золотом стальные ручки дверей»16.
Но для избранной темы примечательно другое соображение Щусева: «Мо-
сква - город розового кирпича, белого камня и металла. Москве можно при-
дать такой же сверкающий колорит, какой имеет Венеция»17. Стоит отметить,
что в 1914 г. по его проекту в садах Джардини, где проводится Венецианская
биеннале, построили выставочный павильон Российской империи, стилистику
которого можно условно описать как «московскую». Таким образом, переклич-
ка между двумя культурными центрами выступала для зодчего важной творче-
ской темой. Но цитата 1937 г. резонирует с фразой Бурова, или, точнее, весь
текст Бурова, написанный «по горячим следам» съезда архитекторов, дышит
идеями Щусева. Романовский национализм, спешивший утвердить на зарубеж-
ной площадке архитектурную самобытность России, отошёл в прошлое, и сама
Москва как архитектурный феномен была интересна только сквозь призму ви-
зуального сходства с Венецией. Для того чтобы выявить архитектурное лицо
советской столицы, её нужно уподобить одному из знаменитейших мировых
городов.
Три года спустя Щусев выступил с программной статьёй «Национальная
форма в архитектуре». Необходимость оправдывать разговор о традиции ссыл-
ками на классику отпала, с первых же строк говорилось об актуальности созда-
ния - в соответствии со сталинской формулой - «архитектуры национальной
по форме и социалистической по содержанию». Другое важное новшество со-
стоит в том, что разговор о поиске национальной формы, начатый в 1937 г.,
теперь открывался обсуждением опыта «русского стиля» XIX в. Уделив ме-
13
Майстровская М.Т. Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля.
М., 2016. С. 623.
14
Буров А. После архитектурного съезда // Советское искусство. 1937. № 33 (17 июля). С. 3.
15
РГАЛИ, ф. 674, оп. 2, д. 31, л. 6. Благодарю Ю.Д. Старостенко за помощь в отыскании
архивных материалов.
16
Там же, л. 17-18.
17
Там же, л. 16.
164
сто критике построек К.А. Тона, Щусев столь же уничижительно отозвался об
И.П. Ропете с его «петушиным стилем», и пожалел о том, что А.Н. Померан-
цев в здании ГУМа «совершенно не учёл обязывающее ко многому соседство
Кремля и храма Василия Блаженного». Резюмируя, он писал: «В своих поисках
национальных форм советские архитекторы не должны опираться на все эти
опыты холодной академической стилизации… Они обращаются к подлинному
архитектурному наследству народов СССР, которое, однако, до сих пор, к со-
жалению, ещё очень слабо изучено. С тщательного изучения древнерусского
зодчества, его культовых и бытовых сооружений нам и следует начинать»18.
В апреле 1939 г. в Москве прошёл декадник по русской архитектуре, при-
званный, согласно вступительному слову председателя Московского отделения
Союза архитекторов Н.Я. Колли, «научить широкие круги советского народа
любить русскую архитектуру, её памятники», потому что «глубокий интерес
к изучению великого прошлого русского народа дал уже свои зрелые плоды
в различных областях советской социалистической культуры»19. Доклады, зачи-
танные в ходе мероприятия, составили сборник, продолжением которого стала
серия «Памятники русской архитектуры», издававшаяся в 1941-1949 гг. Оче-
видно, что адресовались эти публикации не только и не столько «широким
массам», сколько профессионалам, а первый советский учебник по истории
русской архитектуры для студентов появился только в 1951 г., как бы подыто-
жив этот десятилетний путь20.
Результаты, однако, проявились уже на рубеже 1930-1940-х гг., причём
интерес возник не только к источникам «русского стиля», но и к опыту его
конструирования в прошлом. 5 июля 1940 г. И.П. Антипов успешно защитил
кандидатскую диссертацию по теме «Опыт освоения исторической русской ар-
хитектуры в XIX - начале ХХ вв.». Текст работы обнаружить пока не удалось,
но известна статья, видимо, представляющая собой тезисное изложение со-
держания. Пожалуй, наиболее существенный аспект этой публикации в том,
какое место отведено в истории «русского стиля» Щусеву. «В конце XIX и на-
чале ХХ вв., в эпоху всеобщего увлечения эклектикой и стилизацией, - писал
Антипов, - только редкие мастера пытались заимствовать у прошлого не одни
внешние формы. Здесь необходимо прежде всего отметить работы акад[емика]
арх[итектуры] А.В. Щусева. Примыкая в основном к романтикам нового сти-
лизаторского толка, А.В. Щусев оставался на общем фоне во многом всё же
самостоятельным и оригинальным… Если эклектики конца XIX века пользо-
вались только языком циркуля и линейки, высушивая и схематизируя сочные
и живые фрагменты памятников XVII века, то у Щусева те же формы приобре-
тают упругость, пластическую выразительность и осязаемость… Щусев как бы
подводит итог попыткам архитекторов XIX века создать “национальный стиль”
в русской архитектуре»21.
В данной публикации Щусев едва ли не впервые представлен творцом пра-
вильного «русского стиля», а его эталонным произведением назван Казанский
вокзал в Москве (сразу несколько фото которого включены в иллюстративный
18
Щусев А. Национальная форма в архитектуре // Архитектура СССР. 1940. № 12. С. 53, 54.
19
Русская архитектура. Доклады, прочитанные в связи с декадником по русской архитектуре
в Москве в апреле 1939 г. / Под ред. В.А. Шкварикова. М., 1940. С. 3, 5.
20
История русской архитектуры. Краткий курс / Гл. ред. С.В. Безсонов. М., 1951.
21
Антипов И. Русское архитектурное наследство и его развитие в новейшей архитектуре //
Архитектура СССР. 1941. № 2. С. 51-52.
165
ряд статьи). Строившийся вплоть до начала 1940-х гг., вокзал имел уникаль-
ный статус советской постройки в национальных русских формах. Сам Щусев
использовал формальные находки вокзальных фасадов в оставшемся невопло-
щённым проекте нового здания Третьяковской галереи, созданном в середине
1930-х гг. при участии архитектора А.В. Снигарёва.
Но не канонизированный опыт Щусева и не историко-теоретические шту-
дии стимулировали обращение к «русской теме», а большая война с внешним
противником. После 22 июня 1941 г. патриотическая риторика, построенная
вокруг идеи великого национального прошлого, которое способно опреде-
лять настоящее и будущее, обрела реальный, всем понятный смысл. «Мировое
значение русского зодчества по-новому раскрылось в эти дни перед нами, -
говорилось в редакционной статье первого военного выпуска «Архитектуры
СССР». - Нам сделались особенно дороги памятники этого зодчества - драго-
ценное наследие русской культуры»22.
Изучение стенограмм заседаний Кабинета теории и истории Академии ар-
хитектуры СССР за 1940-е гг. показывает, что тема самобытности русского
зодчества всецело захватила научную мысль. В частности, 5 марта 1941 г. про-
фессор Н.И. Брунов, легко переносясь в воображении из одной точки Евразии
в другую, доказывал, что тюркские жилища Алтая, курганы Киевской обл.,
надгробия на территории Монголии и рязанские избы обладают несомненным
архитектурным родством. Признав таковое, можно понять генезис русских ша-
тровых церквей с восьмериком: «Тип шатра является исконной формой и ис-
кать его нужно… у скифов». «Когда варяги доехали до Киева, - продолжал
Брунов, - то они нашли не пустое место, а культуру, развивавшуюся много
тысячелетий». Далее докладчик заметил, что у киевского Софийского собора,
имеющего 5 нефов и 12 глав, формирующих пирамидальный силуэт, нет ана-
логов в византийской архитектуре, а значит, искать истоки этой композиции
надо в местных традициях - например, в скифских курганах23. В отстаива-
нии идеи архитектурной «автаркии» Древней Руси его поддержал профессор
И.Э. Грабарь, указавший, что версия проникновения шатра в древнерусскую
архитектуру из западного готического искусства принадлежит к разряду домыс-
лов24. Своего рода «резюме» сказанному в предвоенном марте Брунов сфор-
мулировал на более поздней сессии Кабинета (10 февраля 1944 г.): «Русская
художественная культура… не ниже, а выше многих соседних культур, [таких]
как византийская, не говоря уже о Западной Европе»25.
Идею о скифах как предках славян, и русских в частности, подхватил Щу-
сев, декларировавший на заседании 28 февраля 1944 г., что «скифский период
истории славянства должен войти в историю русской архитектуры». Пафос его
выступления состоял в необходимости не только изучать народное искусство,
но и «создавать новую архитектуру, показывая врагу, что у нас есть велико-
го». В дискуссии по докладу историк архитектуры Н.Н. Воронин заметил, что
«очень острая волнующая тема: создание русской национальной архитектуры»
зависит от решения вопроса о взаимоотношении каменного и деревянного зод-
чества на Руси. При этом он открыто проводил параллели между современ-
22
Архитекторы в дни Великой Отечественной войны // Архитектура СССР. Сборники Союза
советских архитекторов. Вып. 1. М., 1942. С. 2.
23
РГАЭ, ф. 377, оп. 1, д. 219, л. 8, 25, 28, 42.
24
Там же, л. 29.
25
Там же, д. 25, л. 8 об.
166
ностью и концом XIX в., призывая обратиться к трудам И.Е. Забелина и с их
помощью увидеть корень самобытности отечественной архитектуры в дереве
как её основном строительном материале26.
К слову, академическая сосредоточенность на теме шатра как признака
русской самобытности в зодчестве неслучайна. Попытки обнаружить нацио-
нальную архитектуру в прошлом, по-видимому, уже в начале 1940-х гг. про-
изводились с прицелом на отыскание аргументов для оправдания высотности.
Церковь Вознесения в Коломенском (1532), почитаемая сегодня большинством
историков архитектуры как первый русский каменный храм с шатровым завер-
шением, может служить отдалённым прообразом вертикальных композиций
московских зданий, которые на уровне замысла появились в 1930-х, а на рубе-
же 1940-1950-х гг. уже активно строились.
Забегая вперёд, надо сказать, что форсирование «высотной» темы в контек-
сте разговора о русской национальной традиции принесло результаты, сформи-
ровав в профессиональной среде устойчивую теоретическую конвенцию. Цен-
ным источником для выяснения таковых служат кандидатские диссертации.
В одной из них читаем: «Форма построения архитектуры, диктуемая ведущей
градостроительной ролью Дома Советов, должна быть основана на великих
традициях национальной русской архитектуры, примером чего служат ведущие
сооружения новой социалистической Москвы - высотные здания, возводимые
по личному указанию товарища Сталина»27. Сходный пассаж содержит дис-
сертация, защищённая годом позже: «Нам представляется, что при проекти-
ровании зданий местных Советов прежде всего следует стремиться к высотной
архитектурной композиции как наиболее выразительной и оправданной наци-
ональными требованиями русской архитектуры»28.
Великая Отечественная война (сама эта формулировка, впервые явленная
на страницах «Правды» в июне 1941 г., наполнена национально-историческими
смыслами29) поставила перед архитектурным сообществом новые задачи. Это,
во-первых, создание мемориальных сооружений, призванных прославить пав-
ших воинов, а во-вторых, проекты восстановительного строительства. Говоря
о первых, надо сказать, что национальная тема в них решалась, как правило,
через отсылки к архаическим погребальным сооружениям (в частности, курга-
нам, о которых говорил Брунов). Одним из редких исключений служит проект
Пантеона партизан, представленный М.Ф. Оленевым в 1943 г. Это центриче-
ское сооружение с шатровым верхом, которое грузными пропорциями напо-
минает скорее средневековый тосканский баптистерий. Здание предполагалось
каменным, с росписью «травным» русским орнаментом по фасаду.
Экономические трудности военного времени сделали актуальным повсе-
местное использование такого традиционного для России строительного мате-
риала, как дерево. В 1942 г. в серии «Памятники русской архитектуры» вышла
богато иллюстрированная монография С.Я. Забелло, В.Н. Иванова и П.Н. Мак-
26
Там же, д. 26, л. 1 об.-3 об.
27
Тихонова А.А. Вопросы архитектуры здания Дома Советов областного города средней поло-
сы РСФСР. Дис. … канд. арх. М., 1951. Цит. по: Косенкова Ю.Л. Советский город 1940-х - первой
половины 1950-х годов: от творческих поисков к практике строительства. М., 2009. С. 271.
28
Капустина А.Т. Архитектура зданий местных Советов. Дис. … канд. арх. М., 1952. Цит. по:
Косенкова Ю.Л. Советский город 1940-х - первой половины 1950-х годов…
29
См.: Будницкий О.В. Изобретая Отечество: история войны с Наполеоном в советской про-
паганде 1941-1945 гг. // Российская история. 2012. № 6. С. 157-169.
167
симова о русском деревянном зодчестве30. В этой связи любопытны опыты по
внедрению дерева в проекты мемориальных сооружений. Так, в эскизе памят-
ника над братским захоронением, предложенном В.С. Андреевым на Товари-
щеском соревновании Московского отделения Союза советских архитекторов
в 1942 г., основным элементом композиции являлся восьмигранный, крытый
лемехом шатёр, цитирующий венчания деревянных церквей Русского Севера,
но с пятиконечной звездой вместо креста31.
Всё тот же архитектор Оленев предельно сблизился с народной традицией
в серии проектов надгробных знаков воинам (1943), напоминающих старо-
обрядческие голубцы, но без креста и с символикой родов войск. В недрах
Центрального военпроекта рождались эскизы бревенчатых
«мемориальных
стен», которые должны были устанавливать на местах сожжённых деревень
и братских захоронений (архитекторы М.М. Дзисько и Н.И. Гайгаров, 1944).
Стоит упомянуть также проект «временной триумфальной арки», исполненной
по технологии бревенчатого сруба (архитектор Л.Н. Павлов, 1944). Все эти
предложения остались нереализованными, но национальная тема педалирова-
лась в разделах проектной деятельности, стоявших ближе к решению утилитар-
ных задач. К таковым относились проекты фасадов стандартных одноэтажных
домов, представленные на конкурс, объявленный Комитетом по делам архи-
тектуры при СНК СССР в 1944 г. Стены предполагалось собирать из мелких
шлакоблоков заводского изготовления. Условия конкурса в качестве основы
для решения фасадов и деталей прямо предписывали архитектуру народного
жилища, а также национальные приёмы её декорации (проекты разрабатыва-
лись для трёх союзных республик - РСФСР, УССР и БССР). Ведущим эле-
ментом стал оконный наличник, принятый многими участниками конкурса за
«единицу стандартизации». Его спроектировали состоящим из модульных эле-
ментов, замена или перемена которых местами в композиции придавала детали
«различное архитектурное выражение»32.
Наглядно феномен экономичной «русификации» утилитарных построек
военных лет можно наблюдать на примере посёлка Главного управления аэро-
дромного строительства НКВД СССР, построенного рядом с подмосковной
станцией Обираловка (ныне г. Железнодорожный) в 1944 г. Сложенные из бру-
са двухэтажные здания, спланированные по коридорной системе, снабжались
оконными наличниками и другими накладными деталями, а также росписями
в условно «русском» стиле. Разработкой декораций занималась мастерская па-
триарха советской архитектуры И.В. Жолтовского.
На заключительном этапе войны в идеологической сфере сложилась си-
туация, которую можно счесть парадоксальной. По мере освобождения окку-
пированных территорий и приближения фронта к западной границе страны
происходила интернационализация состава Красной армии, в котором росла
доля украинцев, белорусов, представителей народов Прибалтики. Ввиду этого
армейские «пропагандистские издания… в 1944 г. снизили в 2 раза по сравне-
нию с 1943 г. количество публикаций о героическом прошлом русского наро-
30
Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское деревянное зодчество. М., 1942.
31
Из истории советской архитектуры 1941-1945 гг. Документы и материалы / Отв. ред.
К.Н. Афанасьев. М., 1978. С. 33.
32
Борисовский Г. Архитектура сборных домов // Архитектура СССР. Сборники Союза совет-
ских архитекторов. Вып. 7. М., 1944. С. 12-19; Из истории советской архитектуры 1941-1945 гг
С. 125.
168
да»33. Тезис Сталина о недопустимости великорусского шовинизма как будто
обретал дополнительную актуальность. С другой стороны, произнесённый им
же на кремлёвском приёме 24 мая 1945 г. тост «за здоровье русского народа»
содержал характеристику последнего как наиболее выдающейся нации из всех,
входящих в состав Советского Союза34.
В послевоенной риторике начинает фигурировать словосочетание «русский
стиль», которого прежде старались избегать или заменять эвфемизмами. Если
в 1940 г. Щусев писал о «национальной форме», а год спустя Антипов позво-
лил себе определение «русское архитектурное наследство», то в 1945 г. вышла
публикация Ильина, без обиняков озаглавленная «Русская национальная архи-
тектура и проблема русского стиля». Как отмечалось выше, в 1934 г. искусство-
веда репрессировали по обвинению в националистической пропаганде. Деся-
тилетие спустя пропаганда «русского стиля» оказалась делом государственной
важности.
Ильин подчеркнул непреходящую актуальность проблемы, которой посвя-
щена его статья: «Со времени Петра делались неоднократные попытки возро-
дить приёмы и формы древнерусского зодчества», и «этот факт говорит о жиз-
ненности исканий русской национальной архитектуры». После ставших уже
ритуальными инвектив в адрес сторонников эклектики, не сумевших найти
верное решение этой задачи, следует важная оговорка: «Лишь немногие зда-
ния, построенные в этом стиле, могут считаться подлинными архитектурно--
художественными произведениями, как, например, Казанский вокзал Щусе-
ва, “Ссудная казна” Покровского»35. Щусев и В.А. Покровский - те, на ком
оборвалась история дореволюционного «русского стиля». Постоянство статуса
первого как ориентира не удивляет: он вместе с Жолтовским, Щуко, Таманя-
ном и И.А. Фоминым вошёл в плеяду старейшин, начавших ещё до революции
и обладавших «гораздо большей, чем у их непосредственных предшественни-
ков, силой и образностью архитектурного языка»36. Покровский к этой обой-
ме не относился и вообще имел зыбкую репутацию, обусловленную званием
архитектора Высочайшего двора и полным отходом от проектно-строительной
практики после 1917 г. Он скончался в Ленинграде в 1931 г. На фоне роста
в СССР заинтересованности историческими стилями Академия архитектуры
СССР приобрела у вдовы зодчего часть его творческого архива37. Ильин, несо-
мненно, знал эти материалы и предпринял довольно смелую попытку поста-
вить полузабытого Покровского вровень с признанным корифеем.
Как и предшественники, автор посетовал на слабую изученность русского
архитектурного наследия, но акцент сделал на дефиците знания, полезного
с практической точки зрения. Оно «дало бы в руки современного архитектора
ключ к пониманию приёмов мастерства древнерусского зодчего, помогло бы
ему использовать древнерусское наследие для создания современной, совет-
33
Синицын Ф.Л. Проблема национального и интернационального в национальной политике
и пропаганде в СССР в 1944 - первой половине 1945 года // Российская история. 2009. № 6. С. 40.
34
Известия Советов депутатов трудящихся СССР. 1945. № 121. 25 мая. С. 1.
35
Ильин М. Русская национальная архитектура и проблема русского стиля // Архитектура
СССР. Сборники Союза советских архитекторов. Вып. 9. М., 1945. С. 31.
36
История русской архитектуры. Краткий курс. С. 303.
37
См.: Иванова Т. Художественное наследие В.А. Покровского в собрании Государственного
научно-исследовательского музея архитектуры им. А.В. Щусева // Русский храм-памятник в Лейп-
циге. Сборник научных трудов. СПб., 2015. С. 133-143.
169
ской, и в то же время национальной русской архитектуры». Одновременно
он предостерёг от копирования и указал, что «зависимость от вдохновивших
архитектора источников будет ощущаться первое время, но чем дальше, тем
меньше мы должны их чувствовать». Своеобразие русской архитектуры Ильин
изложил так: «Благодаря пластическим свойствам внутреннего пространства
всё здание было проникнуто одним общим, всеохватывающим единством.
И если мысленно пробежать путь пространственных решений древнерусских
зданий - от первых крестово-купольных храмов с их столбами до сомкнутых
сводов XVII в., - то нашему взору предстанет богатейшая картина простран-
ственных систем… Сводчатое покрытие обладает огромной силой воздействия.
Создаваемое им внутреннее пространство влияет на человека не менее, чем
архитектура внешнего объёма»38.
Замечу, что прямой перенос древнерусских форм в современную практику
становился невозможным и по другой причине. Новые архитектурные задачи,
новые типы проектируемых сооружений требовали обобщения и упрощения
деталей. Это видно на примере фасадов гостиницы «Ленинградская» в Москве
(архитекторы Л.М. Поляков, А.Б. Борецкий, 1949-1954) - наиболее «русского»
по оформлению из семи построенных сталинских небоскрёбов. Нельзя не от-
метить схематизм и условность трактовки национальных мотивов XVII в. в её
декоре по сравнению с расположенным по соседству Казанским вокзалом.
Ещё дальше от подражания историческим образцам оказалась архитекту-
ра станции Московского метрополитена «Серпуховская» (ныне «Добрынин-
ская»), в проектировании которой, наряду с архитекторами М.А. Зелениным,
Л.Н. Павловым и Я.В. Татаржинской, участвовал и Ильин. Решение перрон-
ного зала посредством чередования перспективных арок и арочных ниш мень-
шего радиуса выглядит воплощением принципа, изложенного в статье 1945 г.:
форма предельно абстрагирована и в то же время ассоциативно связана с обра-
зами древнерусских памятников. Переклички с фасадами домонгольских хра-
мов несомненны, но конкретных цитат не видно.
Станцию сдали в эксплуатацию 1 января 1950 г. На проектировщиков об-
рушилась жёсткая критика за безыдейность и формализм39. Несмотря на это,
станция оказалась одним из интереснейших памятников сталинской архитекту-
ры - и, одновременно, поставила точку в истории попыток её «русификации».
В середине 1950-х гг. поиски «русского стиля» завершились вместе с эпохой
доиндустриальных технологий строительства и «архитектурных излишеств»,
когда в стилизованных под царские палаты интерьерах упомянутой гостиницы
«Ленинградская» обнаружились черты «фальшивой буржуазной помпезности
и необузданного украшательства»40.
Подводя итог, следует констатировать, что внедрение русских наци-
ональных форм в советскую архитектуру не носило характера продуманной
политики. Этот процесс больше напоминал серию спорадических импульсов
в моменты наибольшей потребности в мобилизации общества, действенным
инструментом которой являлась пропаганда национальных ценностей. Ответ
на вопрос, состоялся ли советский «русский стиль», должен быть отрицатель-
ным: в количественном отношении «русицизмы» Сталина выглядят значитель-
38
Ильин М. Русская национальная архитектура… С. 31, 33.
39
Шапошников Ю. Достоинства и недостатки архитектуры новых станций метрополитена //
Архитектура СССР. 1952. № 4. С. 2-3.
40
Руднев Л. О формализме и классике // Архитектура СССР. 1954. № 11. С. 31.
170
но скромнее «русицизмов» Александра III. Именно поэтому даже в заключи-
тельном для сталинской эпохи 1954 г. по-прежнему раздавались сетования на
то, что «архитекторы редко обращаются к [русским] национальным мотивам»41.
Внятно запрос власти на «русификацию» архитектуры сформулирован так
и не был, более того, официальной доктриной оставался интернационализм.
Лишь по косвенным признакам (тематика диссертационных работ и докладов
в Академии архитектуры СССР; условия конкурсов, объявлявшихся правитель-
ственным Комитетом по делам архитектуры; утверждавшиеся проекты зданий)
можно заключить, что поиски «русского стиля» санкционировались на самом
высоком уровне.
Помимо плохой идеологической подготовленности кампания по констру-
ированию «национальной архитектуры» с самого начала натолкнулась на те
же трудности, которые встали на пути поборников «русского стиля» в конце
XIX в.: слабую изученность русского архитектурного наследия и невозможность
приспособить его к нуждам современного строительства. Советские теорети-
ки архитектуры так и не сумели сформулировать принципы нового «русско-
го стиля», оставаясь на уровне деклараций о значимости народной традиции,
а с 1941 г. - ещё и особой важности всего русского. Изучение стенограмм
заседаний Кабинета теории и истории Академии архитектуры СССР указыва-
ет на отсутствие предметной дискуссии о принципах освоения национального
наследия.
На этом фоне интерес представляет попытка Ильина, предпринятая во
второй половине 1940-х гг. как в теоретической, так и в практической плоско-
сти. Соблюдя все ритуалы (т.е. указав на порочность «русского стиля» царских
зодчих и воздав хвалу Щусеву как исключению из их числа), искусствовед вы-
двинул идею созидания русской национальной архитектуры, избегая при этом
копирования форм исторических памятников. Мысль эту нельзя назвать новой:
уже в начале ХХ в. критика полагала идеалом национального стиля архитекту-
ру, которая «не является подражанием чему-либо определённому»42. Но в со-
ветском контексте Ильин впервые описал, как должна выглядеть современная
постройка в «русском стиле». Новаторство этого подхода, благодаря таланту
архитектора Павлова, раскрылось в решении станции «Серпуховская». Однако
вскоре сама установка на «русификацию» утратила актуальность, и этот опыт
остался практически невостребованным.
Действительным же результатом попыток создания «русского стиля» нуж-
но счесть рождение в СССР новой области знания. Базируясь на материалах
дореволюционных исследований, архитектуроведы середины столетия внесли
значительный вклад в фактологию, обеспечив науке о древнерусском зодчестве
достаточно высокий статус и перспективу развития.
41
Дмитриев А. О национальном в архитектуре // Архитектура СССР. 1954. № 3. С. 31.
42
Курбатов В. О русском стиле для современных построек // Зодчий. 1910. № 30. С. 312.
171