Доклады Российской академии наук. Науки о Земле, 2021, T. 501, № 1, стр. 34-42
Валанжинский умеренно-щелочной магматизм Рассохинского и Арга-Тасского террейнов (северо-восток России)
С. Н. Сычев 1, 2, 3, *, О. Ю. Лебедева 1, 2, А. К. Худолей 1, 2, член-корреспондент РАН С. Д. Соколов 3, А. В. Рогов 2, В. С. Маклашин 2, П. А. Львов 2
1 Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербург, Россия
2 Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского
Санкт-Петербург, Россия
3 Геологический институт Российской академии наук
Москва, Россия
* E-mail: s.sychev@spbu.ru
Поступила в редакцию 13.05.2021
После доработки 07.06.2021
Принята к публикации 08.06.2021
Аннотация
По результатам U–Th–Pb (SIMS)-метода определения возраста цирконов из магматических тел трахитов и трахидолеритов верхнеагынджинского комплекса, расположенных в пределах Рассохинского островодужного и Арга-Тасского океанического террейнов, сделан вывод о валанжинском возрасте их образования. По возрасту и составу изученные валанжинские вулканиты Рассохинского и Арга-Тасского террейнов близки к вулканитам основания Алазейско-Индигирской зоны. Пространственное положение валанжинских трахитов и трахидолеритов вдали от основного поля распространения вулканитов Алазейско-Индигирской зоны не позволяет рассматривать их как надсубдукционные образования андийской окраины, а позволяет предположить, что их образование было связано с растяжением в пределах этой зоны. Тектоническая позиция магматических тел валанжина позволяет интерпретировать их как комплексы, сшивающие два разных в геодинамическом отношении террейна.
Рассохинский (Рассошинский) островодужный и Арга-Тасский океанический террейны расположены в западной части Верхояно-Чукотской складчатой области, в пределах Верхояно-Колымской складчатой системы, простираются в северо-западном направлении и граничат на юго-западе с Омулевским террейном пассивной континентальной окраины [1]. Рассохинский террейн сложен кембрийско-ордовикскими и девон-раннеюрскими вулканогенными и осадочными образованиями, Арга-Тасский – базальтами и сланцами позднего палеозоя–раннего мезозоя [2]. Комплексы Рассохинского и Арга-Тасского террейнов перекрыты с угловым несогласием средне-позднеюрскими вулканитами Уяндино-Ясачненского пояса (рис. 1). В верховьях реки Агынджа и на реке Рассоха присутствуют вулканические тела, рассекающие ордовикские и пермские породы, возраст которых ранее считался близким ко времени образования вмещающих толщ [3, 4]. Настоящая работа содержит новые оценки возраста цирконов, полученные U–Th–Pb-методом (SIMS), позволившие впервые для данной территории установить раннемеловой возраст магматических тел трахитов и трахидолеритов верхнеагынджинского комплекса, сформировавшихся на постамальгамационных стадиях развития коллажа террейнов Северо-Востока России.
Рис. 1.
Расположение вулканитов валанжинского возраста в пределах Рассохинского и Арга-Тасского террейнов на схеме тектонического районирования (по [4], с изменениями). 1–5 – Региональные подразделения: 1 – Омулёвский террейн (терригенно-карбонатные среднеордовикско-нижнекаменноугольные отложения); 2 – Рассохинский террейн (кембрийско-ордовикские и девон-нижнеюрские вулканогенные и осадочные образования); 3 – Арга-Тасский террейн (глубоководные базальты и сланцы верхнего палеозоя, а также девонские палеорифтовые образования); 4 – Уяндино-Ясачненский вулканогенный пояс (средне-верхнеюрские вулканиты); 5 – Ожогинская впадина (палеоген-неогеновые осадочные отложения); 6–9 – Магматические образования: 6 – гранитоидные массивы; 7 – субвулканические тела трахитов и трахидацитов; 8 – покровы трахитов; 9 – дайки трахидолеритов и долеритов; 10 – геологические границы; 11 – региональные разрывные нарушения и их номера (1 – Гармычанский разлом, 2 – Булкутский надвиг, 3 – Арга-Тасский разлом); 12 – точки опробования и их номера. КОМ – Колымо-Омолонский микроконтинент, АИВЗ – Алазейско-Индигирская вулканическая зона, РМ – Рассохинский (Рассошинский) массив.
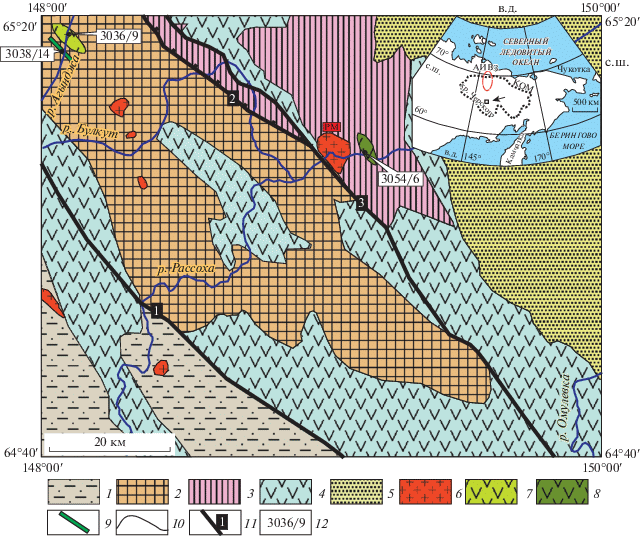
Изученные магматические тела в районе реки Агынджа на геологических картах 80-х годов относились к средне-позднеордовикским и позднесилурийским образованиям [3, 4]. Нами при геолого-съемочных работах на потенциально золото-медно-порфировых объектах в верховьях реки Агынджа и в районе Рассохинского (Рассошинского) гранитного массива были опробованы породы повышенной щелочности для выяснения их возраста и петрологических характеристик. В каньоне р. Агынджа вскрывается вулканогенно-осадочный разрез, прорванный многочисленными телами щелочных пород основного и среднего состава [5]. Вмещающие осадочные породы охарактеризованы палеонтологически и имеют средне-позднеордовикский возраст [6]. К востоку от Рассохинского массива все покровные образования ранее относились к позднему палеозою [3, 4].
Образцы для исследований отобраны из субвулканического тела трахитов (обр. 3036/9) мощностью около 30 м, расположенного в нижней части каньона, вблизи контакта с конгломератами, и из дайки трахидолеритов (обр. 3038/14) мощностью около 1 м, находящейся в 400 м выше по течению от каньона. В левом борту р. Рассоха, в 2.5 км ниже по течению от устья ручья Готический обнаружен покров трахитов мощностью около 600 м; из средней части покрова отобрана проба (обр. 3054/6).
U–Th–Pb (SIMS)-определение возраста цирконов осуществлялось на вторично-ионном микрозонде SHRIMP-II в Центре изотопных исследований (ЦИИ) ВСЕГЕИ.
Отобранные вручную зерна цирконов были имплантированы в эпоксидную смолу вместе с зернами цирконовых стандартов TEMORA и 91500. Далее зерна цирконов были сошлифованы и приполированы приблизительно на половину своей толщины. Для выбора участков (точек) измерений на поверхности зерен использовались оптические (в проходящем и отраженном свете) и катодо-люминесцентные изображения, отражающие внутреннюю структуру и зональность цирконов.
Измерения U–Th–Pb-отношений на SHRIMP-II проводились по методике, описанной в статье [7]. Интенсивность первичного пучка молекулярных отрицательно заряженных ионов кислорода составляла 4 нА, диаметр пятна (кратера) составлял 18 мкм. Обработка полученных данных осуществлялась с использованием программы SQUID. U–Th–Pb-отношения нормализовались на значение 0.0668 для отношения 206Pb/238U, приписанное стандартному циркону TEMORA, что соответствует возрасту этого циркона 416.75 млн лет [8]. Погрешности единичных анализов (отношений и возрастов) приводятся на уровне 1σ, погрешности вычисленных конкордантных возрастов и пересечений с конкордией приводятся на уровне 2σ. Построение графиков с конкордией проводилось с использованием программы ISOPLOT/EX.
Результаты приведены на рис. 2 и в табл. 1.
Рис. 2.
Диаграммы с конкордией и морфологические формы цирконов. а – субвулканическое тело трахитов; б – дайка трахидолеритов; в – покров трахитов; г –цирконы из магматических тел с местоположением точек локального анализа, которые приведены в табл. 1.
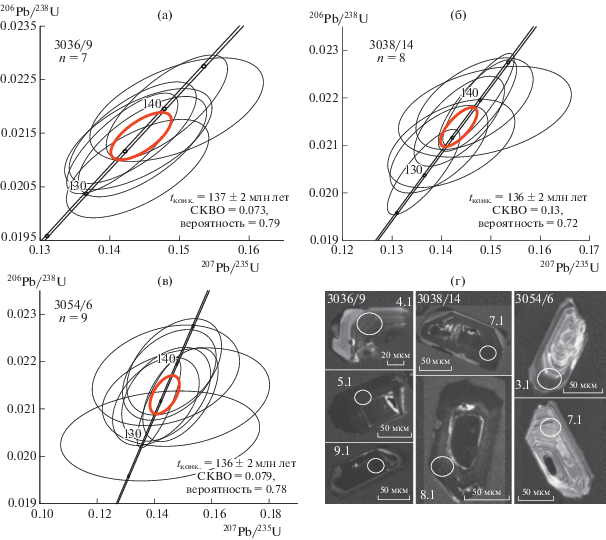
Таблица 1.
Результаты U–Th–Pb (SIMS)-исследования цирконов из магматических пород Рассохинского и Арга-Тасского террейнов
| Точка | 206Pbc, % | U, ppm | Th, ppm | 206Pb*, ppm | 206Pb/238U млн лет | 207Pb/206Pb млн лет | 207Pb*/206Pb* | ±% | 207Pb*/235U | ±% | 206Pb*/238U | ±% | Rho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Субвулканическое тело трахитов, обр. 3036/9 (65°19′6.6″ с.ш., 148°3′47.4″ в.д.) | |||||||||||||||
| 1.1 | 0.17 | 1565 | 1574 | 28.1 | 133 | ±2 | 200 | ±53 | 0.0501 | 2.3 | 0.14 | 2.9 | 0.0208 | 1.8 | 0.6 |
| 2.1 | 0.12 | 2139 | 1974 | 39.1 | 136 | ±2 | 166 | ±46 | 0.0494 | 2 | 0.14 | 2.6 | 0.0213 | 1.8 | 0.7 |
| 3.1 | 0.00 | 2518 | 2716 | 46.1 | 136 | ±2 | 112 | ±34 | 0.0483 | 1.5 | 0.14 | 2.3 | 0.0213 | 1.8 | 0.8 |
| 4.1 | 0.00 | 964 | 889 | 17.7 | 136 | ±3 | 142 | ±55 | 0.0489 | 2.3 | 0.14 | 3 | 0.0214 | 1.8 | 0.6 |
| 5.1 | 0.14 | 2525 | 3303 | 46.7 | 137 | ±2 | 115 | ±43 | 0.0483 | 1.8 | 0.14 | 2.6 | 0.0215 | 1.8 | 0.7 |
| 6.1 | 0.41 | 2942 | 2175 | 55.7 | 140 | ±3 | 170 | ±68 | 0.0495 | 2.9 | 0.15 | 3.4 | 0.0219 | 1.8 | 0.5 |
| 7.1 | 0.26 | 4111 | 5502 | 77.9 | 140 | ±3 | 142 | ±38 | 0.0489 | 1.6 | 0.15 | 2.4 | 0.0220 | 1.8 | 0.7 |
| 8.1 | 0.00 | 5946 | 6985 | 113 | 141 | ±3 | 110 | ±22 | 0.0482 | 0.9 | 0.15 | 2 | 0.0221 | 1.8 | 0.9 |
| 9.1 | 0.51 | 7658 | 3308 | 159 | 153 | ±3 | 156 | ±44 | 0.0492 | 1.9 | 0.16 | 2.6 | 0.0240 | 1.8 | 0.7 |
| 10.1 | 2.14 | 7028 | 5263 | 152 | 157 | ±3 | 144 | ±110 | 0.0489 | 4.7 | 0.17 | 5.1 | 0.0247 | 1.8 | 0.4 |
| 11.1 | 0.30 | 5380 | 5014 | 116 | 160 | ±3 | 183 | ±43 | 0.0497 | 1.8 | 0.17 | 2.6 | 0.0251 | 1.8 | 0.7 |
| Дайка трахидолеритов, обр. 3038/14 (65°18′51.9″ с.ш., 148°2′50.4″ в.д.) | |||||||||||||||
| 1.1 | 0.03 | 3331 | 4405 | 58.5 | 131 | ±2 | 119 | ±30 | 0.0484 | 1.3 | 0.14 | 2.2 | 0.0204 | 1.8 | 0.8 |
| 2.1 | 0.68 | 3315 | 4526 | 60 | 133 | ±2 | 118 | ±54 | 0.0484 | 2.3 | 0.14 | 2.9 | 0.0209 | 1.8 | 0.6 |
| 3.1 | 0.78 | 2374 | 2524 | 43.2 | 134 | ±2 | 145 | ±75 | 0.0489 | 3.2 | 0.14 | 3.7 | 0.0210 | 1.8 | 0.5 |
| 4.1 | 0.43 | 3747 | 3858 | 69.6 | 137 | ±2 | 119 | ±46 | 0.0484 | 1.9 | 0.14 | 2.6 | 0.0215 | 1.8 | 0.7 |
| 5.1 | 0.03 | 5637 | 9407 | 105 | 138 | ±2 | 139 | ±22 | 0.0488 | 0.9 | 0.15 | 2 | 0.0217 | 1.8 | 0.9 |
| 6.1 | 1.15 | 1950 | 2377 | 36.8 | 138 | ±3 | 183 | ±100 | 0.0497 | 4.5 | 0.15 | 4.8 | 0.0217 | 1.8 | 0.4 |
| 7.1 | 0.14 | 3789 | 5507 | 71.2 | 139 | ±2 | 145 | ±32 | 0.0489 | 1.4 | 0.15 | 2.2 | 0.0218 | 1.8 | 0.8 |
| 8.1 | 1.06 | 3431 | 2922 | 65.2 | 140 | ±3 | 130 | ±66 | 0.0486 | 2.8 | 0.15 | 3.3 | 0.0219 | 1.8 | 0.5 |
| 9.1 | 0.02 | 4480 | 5815 | 84.6 | 140 | ±2 | 133 | ±24 | 0.0487 | 1 | 0.15 | 2 | 0.0220 | 1.8 | 0.9 |
| 10.1 | 0.00 | 4662 | 4883 | 89.7 | 143 | ±3 | 76 | ±26 | 0.0475 | 1.1 | 0.15 | 2.1 | 0.0224 | 1.8 | 0.9 |
| 11.1 | 0.02 | 7946 | 9931 | 156 | 146 | ±3 | 125 | ±18 | 0.0485 | 0.8 | 0.15 | 1.9 | 0.0229 | 1.8 | 0.9 |
| 12.1 | 0.63 | 11 059 | 12 302 | 229 | 153 | ±3 | 139 | ±35 | 0.0488 | 1.5 | 0.16 | 2.3 | 0.0239 | 1.8 | 0.8 |
| Покров трахитов, обр. 3054/6 (65°7′41.7″ с.ш., 149°8′16.8″ в.д.) | |||||||||||||||
| 1.1 | 1.18 | 718 | 420 | 12.8 | 130 | ±3 | 215 | ±230 | 0.0504 | 9.8 | 0.14 | 10 | 0.0204 | 1.9 | 0.2 |
| 2.1 | 0.05 | 3387 | 2489 | 61.5 | 135 | ±2 | 131 | ±31 | 0.0487 | 1.3 | 0.14 | 2.2 | 0.0211 | 1.8 | 0.8 |
| 3.1 | 0.38 | 939 | 566 | 17.1 | 135 | ±3 | 107 | ±94 | 0.0481 | 4 | 0.14 | 4.4 | 0.0212 | 1.8 | 0.4 |
| 4.1 | 0.61 | 400 | 169 | 7.34 | 136 | ±3 | 260 | ±180 | 0.0514 | 7.6 | 0.15 | 7.9 | 0.0213 | 2 | 0.3 |
| 5.1 | 0.18 | 729 | 428 | 13.4 | 136 | ±3 | 230 | ±71 | 0.0508 | 3.1 | 0.15 | 3.6 | 0.0213 | 1.9 | 0.5 |
| 6.1 | 0.32 | 767 | 374 | 14.1 | 136 | ±3 | 150 | ±93 | 0.0490 | 4 | 0.14 | 4.4 | 0.0213 | 1.9 | 0.4 |
| 7.1 | 0.62 | 398 | 172 | 7.46 | 139 | ±3 | 103 | ±170 | 0.0481 | 7 | 0.14 | 7.3 | 0.0217 | 2 | 0.3 |
| 8.1 | 0.57 | 1306 | 1210 | 24.5 | 139 | ±3 | 124 | ±100 | 0.0485 | 4.3 | 0.15 | 4.6 | 0.0217 | 1.8 | 0.4 |
| 9.1 | 0.29 | 572 | 305 | 10.8 | 140 | ±3 | 132 | ±97 | 0.0487 | 4.1 | 0.15 | 4.6 | 0.0219 | 1.9 | 0.4 |
| 10.1 | 0.56 | 9327 | 10 857 | 184 | 146 | ±3 | 92 | ±32 | 0.0479 | 1.3 | 0.15 | 2.2 | 0.0229 | 1.8 | 0.8 |
Примечание. Pbc и Pb* – нерадиогенный и радиогенный свинец соответственно. Изотопные отношения скорректированы по измеренному 204Pb. Конкордантный возраст на рис. 2а рассчитан по замерам 1.1–7.1, на рис. 2б по замерам 1.1–4.1 и 6.1–9.1, на рис. 2 в по замерам 1.1–9.1. Расчет конкордантного возраста возможен только при исключении замеров: для обр. 3036/9 – 8.1–11.1; 3038/14 – 5.1, 10.1–12.1; 3054/6 – 10.1. Из расчетов убраны результаты анализов с U > 5000 ppm, в соответствии с [9].
Изучение на электронном микроскопе CamScan MX 2500S показало, что большинство кристаллов циркона имеют субидиоморфную форму, нередко с хорошо сохранившимися гранями. В режиме катодолюминесценции в них отчетливо проявляется осцилляторная зональность, характерная для магматических цирконов, хотя единичные зерна имеют более сложное строение (рис. 2г). В пользу магматического происхождения свидетельствуют также высокие значения Th/U = 0.42–1.67 в изученных зернах (табл. 1). Метаморфические каймы не наблюдались.
Для цирконов из образцов 3036/9 и 3038/14 (район р. Агынджа) получены конкордантные значения возраста 137 ± 2 и 136 ± 2 млн лет соответственно. Для образца 3054/6 (район р. Рассоха) получен конкордантный возраст 136 ± 2 млн лет. Все три определения возраста укладываются в короткий промежуток времени и отвечают валанжинскому ярусу раннего мела.
Химические анализы 20 проб были выполнены в Центральной лаборатории ВСЕГЕИ (Санкт-Петербург). Результаты анализов приведены в табл. 2 и на рис. 3. По химическому составу породы отнесены к трахитам, трахидацитам, пантеллеритам, трахириодацитам, трахибазальтам и базальтам (рис. 3а). На дискриминантной диаграмме Ta/Yb–Th/Yb Дж. Пирса [10] тела субщелочного состава разделаются на две группы. Долериты и трахидолериты попадают в поля пород известково-щелочной и толеитовой серий, а трахиты – в поле известково-щелочной серии активных окраин (рис. 3б). По распределению РЗЭ, которое имеет фракционированный характер с обогащением легкими и обеднением тяжелыми РЗЭ (рис. 3в), а также наличию хорошо выраженных положительных аномалий K, Pb и отрицательных Ba, Sr, Nb, Тa, Ti, Eu (рис. 3г) они сопоставимы с породами окраинно-континентальных надсубдукционных обстановок, например, с вулканитами Охотско-Чукотского вулканогенного пояса [11]. В то же время сходные геохимические характеристики были установлены и при изучении вулканических пород, сформировавшихся в обстановке растяжения (рифтогенеза) в тылу Охотско-Чукотского вулканического пояса [12].
Таблица 2.
Содержания главных (мас. %) и примесных (г/т) элементов в породах. Зеленым цветом отмечены субвулканические тела в районе р. Агынджа, розовым – дайковые тела в районе р. Агынджа, желтым – покров в районе р. Рассоха
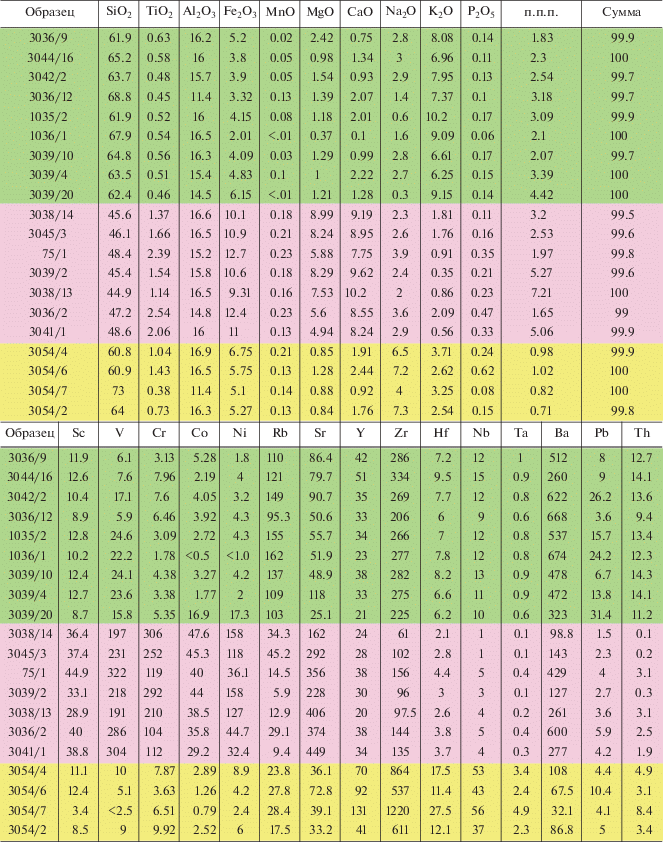
Рис. 3.
Геохимические характеристики вулканических тел трахитов, трахидацитов, трахидолеритов и долеритов: 1 – субвулканические тела трахитов и трахидацитов в районе р. Агынджа, 2 – дайковые тела трахидолеритов и долеритов в районе р. Агынджа, 3 – покров трахитов в районе р. Рассоха. Красными цифрами показано количество анализов. (а) – классификационная TAS-диаграмма, (б) – диаграмма Th/Yb–Ta/Yb [10]. Поля на диаграмме показывают составы магматических пород, формировавшихся в обстановках островных дуг (IA) и активных окраин континентов (ACM) (по: [13]), DMS – деплетированной мантии, EMS – обогащенной мантии, MORB+WPB – несубдукционных обстановках, в) – хондрит-нормализованные распределения РЗЭ, г) – спайдерграммы. Состав С1-хондрита и примитивной мантии по [14].
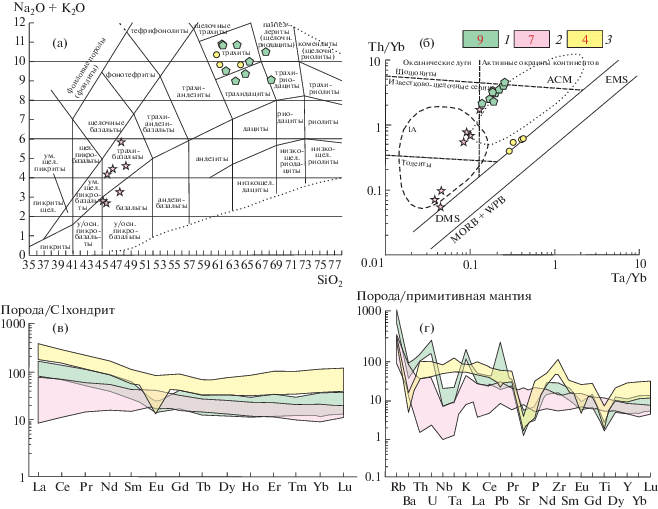
По составу изученные раннемеловые вулканиты Рассохинского и Арга-Тасского террейнов близки к вулканитам Алазейско-Индигирской зоны, в основании которой залегает нельканская свита [15]. Эффузивные породы нижней части разреза нельканской свиты соответствуют известково-щелочной серии и являются возрастным аналогом берриас-барремской ожогинской свиты [16]. Полученные нами данные о валанжинском возрасте пород, сшивающих вышеперечисленные террейны, хорошо укладываются в интервал начала формирования Алазейско-Индигирской вулканической зоны. Проблема заключается в пространственном положении субщелочных тел вдали от основного поля вулканитов Алазейско-Индигирской зоны, что не позволяет рассматривать их как надсубдукционные образования андийской окраины. Возможно, их образование было связано с вулканическим поясом, но становление изученных магматических тел проходило в обстановке рифтогенеза в тылу Алазейско-Индигирской вулканической зоны, аналогично описанной в работе [12]. Для рассматриваемой территории на поздних этапах становления отмечаются деформации растяжения раннемелового возраста [16]. Данные низкотемпературных термохронологических исследований обломочных цирконов южной части Приколымского террейна свидетельствуют о том, что в валанжинское время имело место широко распространенное тектоническое событие, которое интерпретируется как надвигообразование, произошедшее во время главного импульса коллизии Колымо-Омолонского супертеррейна с восточной окраиной Сибирского кратона [17]. Рассохинский и Арга-Тасский террейны по отношению к Приколымскому также расположены в его тыловой части. Деформации растяжения произошли после внедрения позднеюрских гранитоидов южной части Главного (Колымского) пояса и формирования Уяндино-Ясачненской магматической дуги [18]. 40Ar/39Ar-возрасты в среднем на 10–15 млн лет моложе U–Th–Pb-определений возрастов цирконов из гранитоидов Главного пояса и, в том числе, имеют валанжинский возраст [19]. Время остывания гранитных плутонов оценивается как не более 10 млн лет [20], а чаще оказывается значительно меньшим. Для рассматриваемой части Главного пояса разница между 40Ar/39Ar- и U–Th–Pb-возрастами превышает 10 млн лет, и это позволяет предполагать, что сравнительно молодые 40Ar/39Ar-возрасты, среди которых есть и валанжинские, отражают не длительность остывания гранитных интрузий, а более молодое тектоническое событие. Приведенные данные могут указывать на субдукцию вдоль северо-восточной (в современных координатах) части Колымо-Омолонского супертеррейна с растяжением в тыловой части и внедрением тел субщелочного состава, которые предлагается рассматривать как комплексы, сшивающие Рассохинский и Арга-Тасский террейны.
Список литературы
Соколов С.Д. Очерк тектоники Северо-Востока Азии // Геотектоника. 2010. № 6. С. 60–78.
Оксман В.С. Тектоника коллизионного пояса Черского (Северо-Восток Азии). М.: ГЕОС, 2000. 269 с.
Сурмилова Е.П., Максимова Г.А. Государственная геологическая карта СССР масштаба 1 : 200 000 (первое поколение). Серия Среднеколымская, лист Q-55-XXIX, XXX (устье р. Булкут). Объединение “Аэрогеология”. Москва, 1985.
Терехов М.И., Мерзляков В.М., Шпикерман Л.А., и др. Геологическая карта верховьев рек Мома, Зырянка, Рассоха, Омулевка, Таскан, Ясачная и Сеймчан. Масштаб 1 : 500 000. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1989.
Кропачев А.П., Коновалов А.Л., Федорова Н.П. Медное оруденение на северо-западе Омулевского поднятия / Стратиформное оруденение Якутии. Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1988. С. 98–110.
Шпикерман В.И., Мерзляков В.М., Лычагин П.П., Савва Н.Е., Гагиев М.Х., Ликман В.Б. Медное оруденение в ордовикских вулканитах на востоке Якутской АССР // Тихоокеанская геология. 1988. № 4. С. 55–64.
Williams I.S. U-Th-Pb Geochronology by Ion Microprobe / Application in microanalytical techniques to understanding mineralizing processes // Rev. Econ. Geol. 1998. V. 7. P. 1–35.
Black L.P., Kamo S.L., Allen C.M., Aleinikoff J.N., Davis D.W., Korsch R. J., Foudoulis C. TEMORA 1: A New Zircon Standard for U-Pb Geochronology // Chem. Geol. 2003. V. 200. P. 155–170.
White L.T., Ireland T.R. High-uranium Matrix Effect in Zircon and its Implications for SHRIMP U-Pb Age Determinations // Chemical Geology. 2012. V. 306–307. P. 78–91.
Pearce J.A. Role of the Sub-continental Lithosphere in Magma Genesis at Active Continental Margins / Continental basalts and mantle xenoliths. Hawkesworth C.J, Norry M.J (eds). Shiva Press, Natwich, 1983. P. 230–249.
Акинин В.В., Миллер Э.Л. Эволюция известково-щелочных магм Охотско-Чукотского вулканогенного пояса // Петрология. 2011. Т. 19. № 3. С. 249–290.
Цуканов Н.В., Соколов С.Д. Новые данные о возрасте вулканических комплексов Алазейского плоскогорья (Северо-Восточная Якутия) // Тихоокеанская геология. 2019. Т. 38. № 2. С. 3–11.
Wilson M. Igneous Petrogenesis. A Global Tectonic Approach. Harper Collins Academic, 1991. 466 p.
Sun S.S., McDonough W.F. Chemical and Isotopic Systematics of Oceanic Basalts: Implications for Mantle Composition and Processes // Geol. Soc. London. Spec. Publ. 1989. V. 42. P. 313–345.
Тектоника, геодинамика и металлогения территории Республика Саха (Якутия) / Ред. Л.М. Парфенов, М.И. Кузьмин. М.: Наука, 2001. 571 с.
Рогов А.В., Сычев С.Н. Первые данные структурно-кинематического анализа пород Рассошинской зоны и ее обрамления (Омулевское поднятие, Восточная Якутия) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. 2019. Т. 64. Вып. 1. С. 65–80.
Прокопьев А.В., Ершова В.Б., Стокли Д. Первые данные по (U-Th)/He низкотемпературной термохронологии обломочных цирконов (ZHe) из осадочных пород южной части Приколымского террейна (Верхояно-Колымская складчатая область) / Проблемы тектоники континентов и океанов. Материалы LI Тектонического совещания. М.: ГЕОС, 2019. С. 141–144.
Акинин В.В., Прокопьев А.В., Торо Х., Миллер Э.Л., Вуден Дж. Горячев Н.А., Альшевский А.В., Бахарев А.Г., Трунилина В.А. U-Pb-SHRIMP-возраст гранитоидов Главного батолитового пояса (СВ Азии) // ДАН. 2009. Т. 426. № 2. С. 216–221.
Layer P.W., Newberry R., Fujita K., Parfenov L., Trunilina V., Bakharev A. Tectonic Setting of the Plutonic Belts of Yakutia, Northeast Russia, Based on 40Ar/39Ar Geochronology and Trace Element Geochemistry // Geology. 2001. V. 29. P. 167–170.
Harrison T.M., Grove M., McKeegan K.D., Coath C.D., Lovera O.M., Le Fort P. Origin and Episodic Emplacement of the Manaslu Intrusive Complex, Central Himalaya // J. Petrol. 1999. V. 40. P. 3–19.
Дополнительные материалы отсутствуют.
Инструменты
Доклады Российской академии наук. Науки о Земле


