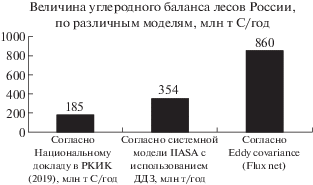Доклады Российской академии наук. Науки о Земле, 2021, T. 501, № 2, стр. 231-236
Величина баланса углерода лесов в национальной климатической политике России и Канады
А. Н. Кренке 1, *, А. В. Птичников 1, Е. А. Шварц 1, И. К. Петров 2
1 Институт географии Российской академии наук
Москва, Россия
2 Московский государственный университет геодезии и картографии
Москва, Россия
* E-mail: krenke-igras@yandex.ru
Поступила в редакцию 09.08.2021
После доработки 09.08.2021
Принята к публикации 09.08.2021
Аннотация
Анализируется роль лесов в национальной климатической политике России и Канады как ведущих лесных стран мира. Канада делает упор на снижении прямых выбросов СО2 в народном хозяйстве, интенсификации лесного хозяйства, повышении поглощения парниковых газов лесами. Россия делает упор на максимизации усилий по уточнению и перерасчету поглотительной (углерододепонирующей) способности лесов. Анализируются российские и канадские стационарные модели оценки поглощающей способности лесов семейства РОБУЛ и CBM-CFS. Канадская и производная от нее российская модель отражают стационарную динамику древостоев, что неизбежно приводит к понижательному тренду поглощения CО2. Даже при регулярном обновлении инвентаризационных данных прогностическая часть таких моделей не может учитывать изменчивость и адаптацию лесных экосистем к изменениям климата. Модели, основанные на учете глобальных потоков углерода, например с использованием данных FLUXNET и дистанционного зондирования Земли (ДДЗ), дают существенно большие величины нетто-поглощения и показывают неуменьшающийся тренд нетто-накопления углерода в лесах. Сделан вывод о том, что стационарные и ДДЗ-модели должны использоваться совместно для оценки нетто-поглощения и для формулирования ключевых направлений национальной климатической политики в странах с доминированием лесных ландшафтов.
Важная роль лесов в национальной климатической политике объединяет Россию с другими многолесными странами, в первую очередь – с Канадой, Бразилией, США и рядом других. Целью данной статьи является сравнение национальных климатических политик стран с преимущественно бореальными лесами – Российской Федерации и Канады, а также анализ роли баланса парниковых газов (ПГ) в лесном секторе как фактора ее формирования. Понимание роли лесов в национальной климатической политике многолесных стран востребовано в переговорном процессе, который ведет Российская Федерация в рамках Парижского соглашения, трансграничного углеродного регулирования (в т.ч. EU Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) и аналогичных процессах.
Россия занимает первое место в мире по площади лесов, Канада находится на третьем месте, после Бразилии. Площадь лесов в России в 2.3 раза больше (815 млн га), чем в Канаде (347 млн га) [1]. По оценкам на 2018 г. удельное поглощение ПГ на 1 га леса в России составило £0.90 т/га, в Канаде £0.65 т/га [14, 15]. Примерно 90% лесов России и Канады относится к бореальным, почти все леса в обеих странах находятся в государственной собственности. В обеих странах имеются значительные площади резервных лесов, в которых лесное хозяйство не ведется. Также существуют сходные проблемы в виде сохраняющегося экстенсивного лесного хозяйства, усиления лесных пожаров и болезней леса в последние годы как результат изменений климата.
Приоритеты государственной климатической политики Канады сформулированы в ряде правительственных документов, например, Canada Action on Climate change [5]. Приоритеты государственной климатической политики России по лесам в наибольшей степени отражены в Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 г., а также в проекте Стратегии долгосрочного развития РФ с низким уровнем выброса парниковых газов до 2050 г. [4]. Приоритеты отражены в табл. 1, подготовленной на основе упомянутых источников.
Таблица 1.
Приоритеты лесоклиматической политики по лесам в Канаде и России
| Направления лесоклиматической политики | Канада | Россия |
|---|---|---|
| Усиление поглощения | Лучшая охрана лесов от пожаров и болезней, целевые программы повышения поглощения ПГ в лесах | Улучшение охраны и защиты лесов от пожаров и болезней |
| Политика по увеличению использования древесины и изделий из нее в народном хозяйстве | Значительное усиление использования лесоматериалов в строительстве, промышленности, транспорте | Программа поддержки деревянного домостроения |
| Политика по биотопливу | Значительное расширение использования биотоплива и биопродуктов | Региональные программы поддержки замены дизтоплива биотопливом |
| Инновационное сельское и лесное хозяйство | Продвижение инновационных практик в лесном хозяйстве, включая интенсификацию лесного хозяйства | Улучшение лесовосстановления и лесоразведения |
| Адаптация и резилиентность | Адаптация к изменениям климата с упором на повышение резилиентности (устойчивости) лесов к изменениям климата | Национальная и региональные программы адаптации лесных экосистем |
Наиболее существенное различие между Россией и Канадой состоит в различной оценке роли лесов в поглощении парниковых газов (рис. 1). Так, согласно данным Национальных докладов России [15] и Канады [14] в РКИК в России леса поглощают примерно 30% от суммарных выбросов ПГ, в Канаде – всего 3%.
Рис. 1.
Эмиссии и нетто-секвестрирование парниковых газов лесными землями в России, Канаде в 2017 г.
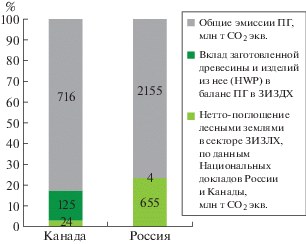
Следует отметить, что в Национальном докладе Канады величина эмиссий ПГ от заготовленных лесоматериалов (фактор 4G) оценена примерно в 125 млн т СО2 экв , в то же время в РФ эта величина оценена всего примерно в 4 млн т СО2 экв в год, в то же время в РФ эта величина оценена всего примерно в 4 млн т СО2 экв в год. Такое большое различие, по всей видимости, возникает из-за особенностей национальной оценки эмиссий от стока лесоматериалов. Если объединить величины нетто-поглощения лесными землями в секторе Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство (ЗИЗЛХ) и вклад заготовленной древесины и изделий из нее (HWP) в баланс ПГ, то различие в нетто-поглощении между Россий и Канадой составит 4.4 раза, что представляется более обоснованным, чем различие в 27 раз (рис. 1).
Лесоклиматическая политика Канады в основном ориентирована на повышение поглощения углерода лесами и адаптацию лесов к изменениям климата. В России же даже ОНУВ (определяемый на национальном уровне вклад) в реализацию Парижского соглашения по климату жестко связывает обязательства страны по снижению выбросов ПГ с максимальным учетом депонирующей роли лесов. В этой связи в РФ приоритетное значение должно придаваться реализации углерододепонирующих (офсетных) лесоклиматических проектов, результаты которых потенциально могут быть использованы для снижения углеродного следа производственных компаний и уменьшения числа и площади лесных пожаров в неуправляемых лесах. Кроме этого, так же как и в Канаде, должно быть усилено направление, связанное с адаптацией лесных экосистем к изменениям климата, в том числе при лесовосстановлении – отказ от высокогоримых хвойных монокультур вне участков лесопромышленной аренды.
В настоящее время Российская Федерация и Канада выбрали разные направления учета поглощающей способности лесов. Россия ориентируется на увеличение официальной оценки поглощения парниковых газов лесами, для чего были изменены методические указания по количественному определению объема поглощения парниковых газов без изменения лесохозяйственной практики. По оценке Минприроды совокупный эффект от реализации комплекса мероприятий по корректировке Методики может составить дополнительно 270–450 млн тонн поглощенного СО2 [2]. Наиболее распространенные модели оценки баланса парниковых газов по лесам России демонстрируют 4,6-кратную вариацию данных (рис. 2).
Возможно целью изменения методических указаний является повышение допустимого лимита углеродных единиц для реализации климатических проектов в рамках ст. 6.4 Парижского соглашения. Известно, что ранее в рамках Киотского протокола, Правительство РФ определяло лимит для реализации проектов совместного осуществления в размере 300 млн т СО2 экв, вероятно имеется цель его повысить, исходя из перспектив введения углеродного налога на экспортируемую продукцию. Расширение вовлечения нелесных компаний в лесоклиматические проекты может теоритически способствовать решению наиболее трудных и сложных вопросов лесного хозяйства, таких как уменьшение воздействий лесных пожаров и болезней, повышение лесистости в малолесных регионах, улучшение качества и эффективности лесовосстановления и защитного лесоразведения и т.д.
Климатическая политика Канады не нацелена в настоящий момент на пересмотр подходов по расчету баланса ПГ в лесах и увеличению углеродного потенциала своих лесов для реализации офсетных лесоклиматических проектов. Цели лесоклиматической политики Канады ориентированы, в первую очередь, на увеличение депонирования парниковых газов лесными экосистемами, что является более консервативным, но надежным подходом. Проблемы, связанные с увеличением горимости лесов, роста болезней леса в Канаде, также велики и значимы.
Основной моделью расчета баланса в лесах, применяющейся на государственном уровне для определения баланса углерода в лесах Канады, является CBM-CFS3 [13] – последняя версия семейства моделей, являющегося прародителем используемой в России модели РОБУЛ. Важно отметить, что модели типа CBM-CFS в расчетах опираются прежде всего на инвентаризационные данные, данные о различного рода нарушениях лесного покрова (пожары, вредители, рубки), а также на модели накопления биомассы в растительности и почве для различных древостоев в различных условиях [12, 17]. Официальные результаты моделирования [9] показывают, что наблюдается гладкий тренд снижения поглощения управляемыми лесами Канады – с 210 Мт СО2 в год в 1990 г. до 150 Мт СО2 в год. Основная часть снижения поглощения соответствует 2000–2007 гг., в которых происходили масштабные поражения древостоев вредителями.
Подход, опирающийся на традиционную инвентаризацию лесов, имеет существенный недостаток – высокую зависимость от качества стартовых данных моделирования (т.е. качества инвентаризации) и трудности учета процессов сукцессии и адаптации экосистем к новым условиям. В моделях типа CBM-CFS заложены 4 фазы прироста биомассы лесов (подразумевается, что рост наступает после развала предыдущего древостоя, т.е. с нуля): регенерация – очень медленный темп накопления массы первые 20 лет существования древостоя, рост незрелых насаждений – наибольший темп накопления биомассы, рост зрелых насаждений – фактически стационарное состояние и рост перестойных насаждений – сопровождается потерей биомассы и развалом древостоя [11]. Таким образом, без проведения регулярной инвентаризации древостоев мы получаем непрерывно снижающийся тренд поглощения углерода лесами. За период моделирования (в случае Канады это около 90 лет) древостои могли не только погибнуть, но и пройти фазу регенерации и уже войти в фазу активного роста. Более того, ретроспективно было показано, что существует существенная динамика поглощения CO2 лесами Канады – так в начале 19-го века леса служили поглотителями углерода на уровне ~40 Мт, в 1870 г. леса превратились в эмитенты углерода на уровне 130 Мт. В 1930 леса снова стали поглотителями с объемом ~200 Мт год, снизив поглощение до ~57 Мт/год в 1990-е годы [7]. Хотя данные оценки не могут рассматривается как точные, они дают представления о нелинейной динамике поглощения в результате существенной изменчивости состояния древостоев во времени, в том числе с учетом процессов адаптации и смены типов растительных сообществ.
Схожая картина наблюдается при моделировании баланса углерода лесов России – учитывая средний возраст данных таксации в 25–30 и более лет, многие перестойные древостои уже трансформировались в молодняки или средневозрастные. Подобные результаты на локальном уровне продемонстрированы многими исследователями. Так, для Центрально-Лесного биосферного заповедника (ЦЛГБЗ) в результате естественных процессов и адаптации к изменениям климата по данным дистанционного зондирования (ДДЗ) за 30 лет 41% лесов сменили ведущую породу и лишь 21% перестойных древостоев сохранил свои характеристики. Все эти изменения произошли без влияния человека или крупных катастрофических явлений [3].
На глобальном уровне исследователи с помощью средств ДДЗ анализируют изменения Листового индекса (LAI) и констатируют наличие значимых адаптационных процессов в лесной растительности и увеличение LAI и фитомассы за последние 35 лет в целом. Фиксируется общее увеличение биологической продуктивности на 11.6% в северном полушарии за этот период [6], это согласуется с данными об увеличении продуктивности C3-фотосинтеза при увеличении содержания CO2 в атмосфере.
Можно сделать вывод, что существующая официальная канадская и производная от нее российская модель отражают стационарную динамику древостоев, которая является лишь частью реальности. Эти модели всегда будут описывать тенденцию к снижению поглотительной способности лесов. Даже при регулярном обновлении инвентаризационных данных прогностическая часть модели не может учитывать изменчивости и адаптации лесного покрова. Другой частью “спектра” моделирования баланса углерода являются модели, опирающиеся на определение типов леса и прироста фитомассы дистанционными методами. Такие модели часто тяготеют к завышению поглощающей способности ландшафтного покрова. Так, модель глобальных потоков углерода в лесной растительности World Resources Institute [10] дает для территории Канады среднее за 20 лет поглощение в 4320 Мт СО2 в год (и еще больше для территории РФ). Для России модели, которые опираются на использование дистанционной информации и измерения систем FLUXNET, образуют диапазон в 1800–2500 Мт СО2/год. Публикация, опирающаяся на комбинацию данных первого цикла государственной инвентаризации лесов (ГИЛ) в 2007–2020 гг. и данных дистанционного зондирования [16], дает “промежуточную” оценку в ~1270 Мт СО2/год. При этом разнонаправлен и тренд – стационарные модели дают снижение поглощающей способности лесов, тогда как исследования глобального и регионального масштабов на основе ДДЗ показывают увеличение скорости роста биологической продукции и адаптацию лесных экосистем к росту содержания CO2 в атмосфере.
Между подходами существует семантическая разница. Подход стационарных моделей семейства CBM-CFS полезен с точки зрения выработки политики в области управления лесами – так подход национальной инвентаризации парниковых газов Канады направлен на стимуляцию интенсивного лесопользования, увеличение срока службы продуктов из древесины, стимуляцию развития производства сложной долговечной продукции, а также развитие интенсивной, экологически устойчивой модели, ведения лесного хозяйства в целом [18]. Подход, опирающийся на дистанционные методы, напротив, дает картину адаптации среды к изменениям содержания парниковых газов.
Для научного описания процессов круговорота парниковых газов в лесных экосистемах и выработки глобальной климатической политики на этой основе необходимо учитывать влияние различных экономических и политических факторов на национальные оценки углеродного баланса. Результаты текущей инвентаризации парниковых газов в России трудно назвать исчерпывающими, однако принятие “наибольшей” оценки поглощающей способности, как источника административно-политических решений, может создать не меньше проблем. Для их решения и обеспечения максимальной объективности требуется интеграция современных подходов (ДДЗ, данные сети FluxNet и т.п.) в первичные и обобщенные материалы лесоустройства одновременно с выработкой продуманной стратегии управления лесами и принципов административного учета баланса парниковых газов в лесах, а также дальнейшее развитие международной кооперации для обеспечения сопоставимости информации и ее однотипной трактовки.
Список литературы
Глобальная оценка лесных ресурсов 2020 – Основной отчет. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. 2020. С. 136–142.
Минприроды России разработало распоряжение о внесении изменений в Методические указания по количественному определению объема поглощения парниковых газов. 2021. https://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_razrabotalo_rasporyazhenie_o_vnesenii_izmeneniy_v_metodicheskie_ukazaniya_po_kolich/
Пузаченко Ю.Г., Котлов И.П., Сандлерский Р.Б. Анализ изменений ландшафтного покрова по данным мультиспектральной дистанционной информации в Центрально-Лесном заповеднике // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2014. № 3. С. 5–18.
Стратегия долгосрочного развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Проект. https://www.economy.gov.ru/material/file/babacbb75d32d90e28d3298582d13a75/proekt_strategii.pdf
Canada’s Action on Climate Change. Federal Actions for a Clean Growth Economy. 2017 https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/climate-action/federal-actions-clean-growth-economy/highlights.html
Chen J.M., Ju W., Ciais P., et al. Vegetation Structural Change since 1981 Significantly Enhanced the Terrestrial Carbon Sink // Nat Commun. 2019. 10. P. 1–7.
Chen W., Chen J., Cihlar J. An Integrated Terrestrial Ecosystem Carbon-budget Model Based on Changes in Disturbance, Climate, and Atmospheric Chemistry // Ecological Modelling. 2000. 135. P. 55–79.
Dolman A. J., et al. An Estimate of the Terrestrial Carbon Budget of Russia Using Inventory-based, Eddy Covariance and Inversion Methods // Biogeosciences. 2012. 9(12). P. 5323–5340.
ECCC (Environment and Climate Change Canada). National Inventory Report 1990–2018: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada Part 1. Government of Canada. 2020. https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/environmental-indicators/land-based-greenhouse-gas-emissions-removals.html
Harris N.L., Gibbs D.A., Baccini A., et al. Global Maps of Twenty-first Century Forest Carbon Fluxes // Nature Climate Change. 2021. V. 11. P. 234–240.
Kurz W., Apps M. A 70-year Retrospective Analysis of Carbon Fluxes in the Canadian Forest Sector // Ecological Applications. 1999. V. 9. P. 526–547.
Kurz W.A., Apps M.J. Developing Canada’s National Forest Carbon Monitoring, Accounting and Reporting System to Meet the Reporting Requirements of the Kyoto Protocol // Mitig Adapt Strat Glob Change. 2006. V. 11. P. 33–43.
Kurz W.A., Dymond C.C., White T.M., Stinson G., Shaw C.H., Rampley G.J., Smyth C.E., Simpson B.N., Neilson E.T., Trofymow J.A., Metsaranta J.M., Apps M.J. CBM-CFS3: A Model of Carbon-dynamics in Forestry and Land-use Change Implementing IPCC Standards // Ecological Modelling. 2009. 220(4). P. 480–504.
National Inventory Report 1990–2017: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. Canada Submission to the UNFCC, part 1. https://unfccc.int/documents/194925
National Report on Cadaster of Anthropogenic Emissions and Absorptions for 1990–2018 Years. https://unfccc.int/documents/194838
Schepaschenko D., Moltchanova E., Fedorov S., et al. Russian Forest Sequesters Substantially More Carbon than Previously Reported // Sci Rep. 2021. 11. 12825.
Shaw C.H., Bona K.A., Kurz W.A., Fyles J.W. The Importance of Tree Species and Soil Taxonomy to Modeling Forest Soil Carbon Stocks in Canada // Geoderma Regional. 2015. V. 4. P. 114–125.
Smyth C.E., Stinson G., Neilson E., Lemprière T.C., Hafer M., Rampley G.J., Kurz W.A. Quantifying the Biophysical Climate Change Mitigation Potential of Canada’s Forest Sector // Biogeosciences. 2014. V. 11. P. 441–480.
Дополнительные материалы отсутствуют.
Инструменты
Доклады Российской академии наук. Науки о Земле