Геохимия, 2021, T. 66, № 5, стр. 473-480
Содержание ртути в почвенно-растительном покрове островов Русский и Шкота (залив Петра Великого, Приморский край)
К. С. Ганзей a, *, Н. Ф. Пшеничникова a, **, А. Г. Киселёва a, С. Г. Юрченко a, И. М. Родникова a
a Тихоокеанский институт географии ДВО РАН
690041 Владивосток, ул. Радио, 7, Россия
* E-mail: geo2005.84@mail.ru
** E-mail: n.f.p@mail.ru
Поступила в редакцию 12.10.2019
После доработки 02.03.2020
Принята к публикации 02.03.2020
Аннотация
Проанализирована экологическая ситуация на о. Шкота и примыкающей части о. Русский по содержанию ртути в почвах и листьях древесной и кустарниковой растительности. Выявлены основные источники ее поступления в геосистемы. В рамках работы на островах выполнены геоботанические описания, собраны гербарные образцы сосудистых растений и лишайников, сделаны морфологические описания почв. Для определения содержания ртути в почвах и растительности на о. Русский были отобраны образцы на 3 учетных площадках, на о. Шкота – на 16. Показано, что почвенный покров островов Русский и Шкота представлен буроземами типичными и буроземами темными, а также их пирогенными аналогами. Распределение ртути в почвенном покрове зависит от свойств почв, а в растительности – от вида растения. Представлены результаты лабораторных исследований содержания ртути в геосистемах. Методом интерполяции для о. Шкота построены карты содержания ртути в почвенном покрове и листьях дуба монгольского. Средние значения содержания ртути в почвенном покрове на о. Шкота и примыкающей части о. Русский составляют 81.2 нг/г. Средние показатели содержания ртути для различных видов растений составляют: для граба сердцелистного – 26.3 нг/г, дуба монгольского – 24.5 нг/г, полыни Гмелина – 9.1 нг/г. Такое варьирование обусловлено различной аккумуляционной способностью растений накапливать ртуть. Сделано предположение, что высокое содержание ртути в почве и растительности в восточной части о. Шкота связаны с особенностями тектонического строения. Максимальное содержание ртути в почве на о. Шкота приурочено к побережью бух. Дотовая, которая является основным местом отдыха в летний период. Постоянное разведение костров и сжигание древесины и бытового мусора (в первую очередь полиэтилена), приводит к перераспределению ртути на прилегающих территориях. В целом по содержанию ртути в почвенно-растительном покрове рассматриваемых территорий складывается благоприятная экологическая обстановка. Содержание ртути в почве составляет незначительную долю от предельно допустимой концентрации. В связи с отсутствием утвержденных показателей по предельно допустимой концентрации ртути для растений сравнение данных выполнено для кларковых значений. Для граба сердцелистного и дуба монгольского фиксируется превышение кларка, что может быть естественной региональной спецификой. Полученные данные могут быть использованы в качестве фоновых показателей.
ВВЕДЕНИЕ
Ртуть является одним из самых токсичных тяжелых металлов. По степени токсичного действия на биоту она, наряду со свинцом, кадмием, цинком, относится к первому классу опасности (ГОСТ 17.4.1.02-83, 2008). Даже при низких концентрациях ртуть супертоксична и суперпатологична, обладает высокой деструктивной биологической активностью.
По геохимическим свойствам ртуть имеет склонность к образованию органо-минеральных соединений, сильных связей с серой, обладает летучестью. Летучесть ртути и некоторых ртутных соединений способствует перераспределению ее между всеми компонентами биосферы, и благодаря атмосферному переносу ртуть широко распространена в природных экосистемах (Гордеева и др., 2012). Ртуть, выпадающая из атмосферы, поступает в почвы с осадками, а также в газообразной и аэрозольной форме. Исследования миграции ртути в системе “атмосфера–растение–почва” показали, что ртуть, поступающая из атмосферы в виде паров, сорбируется хвоей и прочно удерживается ею (Грановский и др., 2001). Растения легко поглощают ртуть из питающих растворов, а возрастание содержания ртути в почве вызывает возрастание содержания и в растениях, к тому же растения могут непосредственно поглощать пары ртути. Молодые растения в отличие от взрослых более чувствительны к воздуху, насыщенному парами ртути (Kabata-Pendias, Pendias, 2001). Отравление растений происходит при содержании ртути в почве выше 1000 мг/кг, а при 50 мг/кг идет нарушения ростовых процессов. У большинства растений концентрация ртути находится между 0.01 и 0.2 мг/кг (Kloke, 1980). Растения чаще всего содержат ртуть в меньших количествах, чем почвы, а в процессе минерализации растительных остатков возможно накопление ртути в верхних горизонтах почвы. Содержание ртути в профиле почв унаследовано, главным образом, от материнской породы (Kabata-Pendias, Pendias, 2001). В связи с этим, концентрация ртути в почвенном покрове довольно сильно колеблется даже в пределах одного региона. Так в почвах Сибири показатели изменяются в пределах 0.005–1.275 мг/кг (Грановский и др., 2001). Фоновые уровни ртути в почвах в связи с нарастающим антропогенным загрязнением в настоящее время значительно возрастают. Так по данным исследователей конца прошлого столетия средние концентрации ртути в поверхностном слое различных почв всего мира не превышали 400 мкг/кг (Kabata-Pendias, Pendias, 2001). Необходимо отметить, что ртуть в почве может образовывать особую и очень токсичную форму – метил- и диметилртуть (Ильин, 1991). Наибольшая токсичность метилртути обусловлена хорошей растворимостью в липидах, где она после попадания в клетку взаимодействует с белком. Вследствие этого происходят мутагенные и генотоксические изменения в организмах (Мотузова, 2013).
Комплексного изучения содержания ртути в почвенно-растительном покрове на островах Приморского края ранее не проводилось. Подробные исследования содержания ртути в заливе Петра Великого были выполнены сотрудниками Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН. Максимальные содержания ртути были зафиксированы в приводном слое воздуха в Амурском заливе (4.0, среднее – 2.6 нг/м3) и проливе Босфор Восточный (3.1, среднее – 2.4 нг/м3), а минимальные – в Уссурийском заливе (1.1, среднее – 1.8 нг/м3) (Калинчук и др., 2012). В поверхностном слое морской воды содержание ртути колеблется от 0.5 до 0.7 нг/л и в придонном слое от 0.5 до 2.8 нг/л. В проливе Босфор Восточный отмечается максимальное содержание – 289 нг/л, для остальной акватории залива Петра Великого – менее 1.5 нг/л (Аксентов, 2015). В донных отложениях максимальное содержание ртути отмечено в проливе Босфор Восточный, где ее концентрация достигает 200–400 нг/г. В Амурском и Уссурийском заливах содержание ртути составляет 100 нг/г, а в центральной части Уссурийского залива и во всей открытой части залива Петра Великого в донных осадках оно не превышает 25 нг/г (Аксентов, Астахов, 2009).
В настоящее время острова залива Петра Великого являются одним из центров развития Приморского края. Прежде всего, это относится к о. Русский, в меньшей степени к островам Шкота, Попова, Рейнеке. В связи с высокой степенью опасности ртути, как для природных геосистем, так и для человека, проведение мониторинга ее содержания является необходимым условием для устойчивого функционирования природно-территориальных комплексов, формирования благоприятных условий жизни местного населения и развития хозяйственной деятельности. Значительную опасность представляет высокий уровень поступления ртути в окружающую среду от природных, промышленных источников, а также при сжигании бытовых отходов. В этой связи особую актуальность приобретают исследования миграции ртути в системе “атмосфера–растение–почва” и процессов биологической аккумуляции ртути геосистемами.
Цель настоящей работы является анализ экологической ситуации на островах Русский и Шкота по содержанию ртути в почве и листьях древесной и кустарниковой растительности и выявление основных источников её поступления в геосистемы.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1) проанализированы физико-географические особенности района исследования;
2) выполнены полевые геоботанические, почвенные и ландшафтные исследования;
3) определены физико-химические свойства почв и содержание ртути в почве и растительности;
4) составлена серия карт пространственного распределения ртути в почвах и растительности.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДЫ
В качестве объекта исследования выступали геосистемы островов Русский и Шкота. Площадь о. Русский – 9972.05 га, о. Шкота – 251.83 га. Они входят в состав архипелага Императрицы Евгении, административно относится к Фрунзенскому району г. Владивостока (рис. 1).
Рис. 1.
Карта островов Русский и Шкота с прилегающими территориями. Условные обозначения: 1 – район работ, 2 – п-ов Муравьева-Амурского, 3 – водотоки.

Сложены острова преимущественно гранитами и гранитоидами, широко распространены галечные конгломераты, песчаники и алевролиты (Преловский и др., 1996). Рельеф на островах преимущественно низкогорный, с развитием небольших террасовидных и низменных участков в прибрежных частях и на перешейках. Система водотоков на островах развита слабо. Они нередко пересыхают в засушливые периоды. Климат на островах муссонный, со средним количеством осадков около 800 мм/год, 85% которых приходится на летний период. Среднегодовая температура воздуха около +6°С (Научно-прикладной…, 1988). Для почв характерны особенности “островного” почвообразования, обусловленные геохимическим влиянием моря, высотой, крутизной, экспозицией склонов и разнообразием растительности. Основной фон в структуре почвенного покрова островов составляют бурозёмы (Пшеничников, Пшеничникова, 2013). В растительном покрове доминируют полидоминантные широколиственные кустарниково-разнотравные с лианами леса из дуба монгольского (Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.), граба сердцелистного (Carpinus cordata Blume), лип (Tilia amurensis Rupr. и Таке T. taquetii C.K. Schneid), клена ложно-Зибольдова (Acer pseudosiboldianum (Pax) Kom.), калопанакса семилопастного (Kalopanax septemlobus (Thunb. ex Murray) Koidz.), ясеня носолистного (Fraxinus rhynchophylla Hance), аралии высокой (Aralia elata (Miq.) Seem.) и др. Распространены антропогенно трансформированные кустарниково-полукустарниково-разнотравные сообщества из леспедецы двухцветковой (Lespedeza bicolor Turcz.), полыни Гмелина (Artemisia gmelinii Web. ex Stechm.), мискантуса китайского (Miscanthus sinensis Anderss.) и др. Доминируют на островах ландшафты пологих и средней крутизны склонов на гранитах и гранитоидах, базальтах, с преобладанием высокосомкнутых полидоминантых широколиственных лесов на тёмных и типичных бурозёмах (Ганзей и др., 2016). В настоящее время геосистемы подвергаются активному антропогенному влиянию, что наглядно фиксируется по состоянию растительного покрова.
Во время полевых работ (2009, 2017, 2018 гг.) в разных типах ландшафтов выполнены геоботанические описания, собраны гербарные образцы сосудистых растений, сделаны морфологические описания почв. Для определения содержания ртути в почвах и растительности были отобраны образцы почв из гумусовых горизонтов почв, листьях древесных пород и кустарников. Всего на о. Русский образцы отобраны на 3 учетных площадках, на о. Шкота – на 16 (рис. 1).
Почвенные образцы перемешивались, выбирались включения (корни растений, насекомые, камни и др.) и высушивались до воздушно-сухого состояния, а затем до абсолютно сухого состояния (в сушильном шкафу при t = 30°С). Затем почву растирали в ступке пестиком и просеивали через сито с диаметром отверстий 1 мм (ГОСТ 17.4.4.02-84, 2008). Биогеохимические пробы (листья) сушились до воздушно-сухого состояния и измельчались с целью приготовления однородного образца.
Массовая концентрация общей ртути в пробах измерялась методом беспламенной атомной абсорбции с использованием анализатора ртути с зеемановской коррекцией неселективного поглощения “РА-915М” на пиролитической приставке ПИРО-915+ без предварительного разложения образца. Принцип действия приставки ПИРО-915+ основан на переводе содержащейся в пробе связанной ртути в атомарное состояние методом пиролиза с последующим переносом ее из атомизатора в аналитическую кювету газом-носителем (воздухом). Технические возможности анализатора позволяют достичь предела обнаружения 0.5 мкг/кг. Точность аналитических методов измерения концентраций ртути контролировали при использовании образца почвы СЧТ-3 ГСО 2509-83 (НПО “Тайфун”, г. Обнинск, Россия).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Физико-химические свойства почв
Почвенный покров островов Русский и Шкота представлен буроземами типичными, бурозёмами темными и их пирогенными аналогами (Полевой..., 2008). Распределение ртути в почвенном покрове зависит от свойств почв. Большое влияние на закрепление ртути в почве оказывают органические вещества (табл. 1).
Таблица 1.
Физико-химические свойства бурозёмов островов Русский и Шкота
| Характеристики | Остров Русский | Остров Шкота | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Растительность | Полидоминантный широколиственный лес | Полынь Гмелина с леспедецей | |||||||||||
| № разреза | 1-17 | 2-17 | 3-17 | 4-17 | 5-17 | 6-17 | 8-17 | 12-17 | 9-17 | 11-17 | 7-17 | ||
| Горизонт | AUpir | AYpir | AYpir | AY | AY | AYpir | AY | AY | AU | AU | AY | ||
| Глубина, см | 0–20 | 0–11 (13) | 0.5–6 (9) | 3–13 (14) |
3–9 (12) | 4–15 | 6–20 | 4–10 (19) |
2–15 | 5–18 | 1.5–18 | ||
| рН солевой | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 3.9 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | ||
| Органическое вещество, мас. % | 12.87 | 12.84 | 12.04 | 12.96 | 11.62 | 12.54 | 11.52 | 10.4 | 13.21 | 13.36 | 11.62 | ||
| Ммоль/100 г почвы | Обменная кислот-ность | 0.22 | 0.24 | 0.3 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.96 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
| Гидролитическая кислотность | 11.0 | 9.04 | 9.84 | 12.0 | 7.11 | 7.59 | 13.6 | 10.8 | 7.28 | 9.23 | 10.1 | ||
| Обменные катионы, | Ca2+ | 10.5 | 12.0 | 9.0 | 10 | 8.7 | 13.2 | 6.5 | 12.2 | 10.0 | 11.5 | 10.7 | |
| Mg2+ | 5.5 | 6.5 | 4.0 | 7.5 | 4.7 | 5.2 | 4.5 | 6.7 | 7.2 | 5.5 | 5.0 | ||
| Na+ | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | ||
| Cумма поглощен-ных оснований | 20.0 | 28.0 | 16.4 | 20.4 | 16.0 | 25.2 | 10.0 | 24.4 | 26.0 | 25.6 | 20.0 | ||
| Мг/кг | P2O5 | 47 | 36 | 30 | 22 | 20 | 28 | – | 20 | 32 | 30 | 19 | |
| K2O | 300 | 275 | 295 | 217 | 124 | 330 | 168 | 185 | 192 | 300 | 249 | ||
Почвообразование на островах Русский и Шкота протекает в условиях свободного внутрипочвенного дренажа, обусловленного легкосуглинистым механическим составом поверхностных горизонтов и повышенной скелетностью (от 40 до 80% от объема почвенной массы) нижней части профиля. Аккумулятивно-гумусовые горизонты почв характеризуются, как правило, легкосуглинистым составом почвенной массы.
Данные по физико-химическим свойствам почв о. Русский свидетельствуют об активном воздействии пирогенного фактора на почвенно-растительный покров. Воздействие низовых пожаров проявляется в частичном или полном прогорании подстилки под лесом и войлока под зарослями полыни Гмелина, а в отдельных случаях в обгорании стволов деревьев на высоту до 1–1.5 м. В аккумулятивно-гумусовых горизонтах пирогенное воздействие проявляется в наличии углистых частиц на глубину 5–10 см и в изменении показателей щелочно-кислотного состояния. Постпирогенная трансформация поверхностных органогенных горизонтов служит основным индикатором воздействия огня на почву. Наиболее показательным фактом постпирогенного состояния почв является реакция среды. Величина рН солевого горизонта AYpir разреза 2-17, заложенного под лесом соответствует 4.9, что может быть связано с недавним по времени прохождением пожара и поступлением в него продуктов горения подстилок, а именно водорастворимых соединений золы в почву, которые насыщают почвенно-поглощающий комплекс щелочноземельными элементами и обуславливают снижение кислотности по сравнению с фоновыми значениями (Максимова и др., 2014; Цибарт, Геннадиев, 2008; Краснощеков, Чередникова, 2012). При этом полученные нами данные по содержанию обменных кальция и магния, а также сумма поглощенных оснований, величина гидролитической кислотности согласуются с таким предположением. Аналогичная картина фиксируется в разрезе 6-17 на о. Шкота, где присутствуют углистые частицы. Величина рН в нем достигает значения 4.9 и соответственно фиксируется более высокое содержание обменного кальция (13.2 ммоль/100 г почвы), суммы поглощенных оснований (25.2 ммоль/100 г почвы) и подвижного калия (330 мг/кг) по сравнению с другими рассматриваемыми почвами, сформированными под лесными массивами без следов пирогенного воздействия (разрезы 4-17, 5-17, 8-17, 12-17).
Содержание органического вещества в аккумулятивно-гумусовых горизонтах под полидоминантными широколиственными лесами варьирует в пределах 10.40–12.96 мас. %. Более высокие показатели характерны под зарослями полыни Гмелина с леспедецей (13.21–13.36 мас. %). Также для данных растительных сообществ по сравнению с лесной растительностью отмечаются более высокие показатели суммы поглощенных оснований (25.6–26.0 против 10.0–24.4 ммоль/100г), подвижных форм калия (192–300 против 124–217 мг/кг). Для всех почв содержание подвижного фосфора крайне низкое и соответствует градации “не обеспечены” (Аринушкина, 1970). Для зарослей полыни Гмелина по абсолютному содержанию показатель также превосходит аналогичные данные в почвах под лесом (30–32 против 20–28 мг/кг). По содержанию обменного натрия почвы гмелинополынников выделяются наибольшими величинами по сравнению с почвами под лесом (0.6 ммоль/100 г почвы против 0.4 ммоль/100 г почвы), что связано не только с составом растительности, но и местоположением – близостью морской акватории и периодическим поступлением с морскими осадками катионов натрия на эту территорию. Содержание обменного натрия в горизонте AY разреза 4-17, заложенного под лесной растительностью, выделяется наибольшим значением – 0.7. Данное значение, скорее всего, связано с расположением разреза вблизи берега (66 м) и импульверизацией морских солей.
Для площадок, которые проходят этап постпирогенного восстановления характерна “повышенная обеспеченность” почв подвижным калием (275–300 мг/кг) (Аринушкина, 1970), что можно рассматривать, учитывая выводы других авторов (Краснощеков, Чередникова, 2012), как положительное влияние пирогенного фактора на почвы.
Содержание ртути в почвенно-растительном покрове
Выполненные полевые и лабораторные исследования образцов почв и листьев растительности отразили основные закономерности пространственного распределения ртути на о. Шкота и примыкающей части о. Русский. Для о. Шкота содержание ртути в почвенном покрове колеблются в интервале 35.9–158.6 нг/г, на примыкающей части о. Русский – 59–104 нг/г (табл. 2). Большой интерес представляет анализ пространственной дифференциации рассматриваемого элемента. Методом интерполяции в программном пакете ArcMap 10.1 были построены соответствующие карты (рис. 2). Максимальное содержание ртути характерно для точки 4-17, расположенной в бухте Дотовая. По мере удаления от данной зоны содержание ртути в почвенном покрове уменьшается до значений 60.6–85.0 нг/г, а в центральной части острова отмечаются минимальные показатели – 35.9–60.5 нг/г. Необходимо отметить повышенное содержание ртути в почве в точке 4-18 до 108.9 нг/г, что практически находится на границе перехода к следующему интервалу содержания ртути, отраженных на рис. 2.
Таблица 2.
Содержание ртути в геосистемах островов Русский и Шкота
| Остров | № точки | Почвы | Растительность | Коэффициент накопления | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| глубина отбора, см | горизонт | ртуть, нг/г | вид | ртуть (листья), нг/г | |||
| Русский | 1-17 | 0–20 | AUpir | 60.3 | Полынь Сиверса | 13.7 | 0.23 |
| 2-17 | 0–11(13) | AYpir | 58.6 | Дуб монгольский | 14.6 | 0.25 | |
| 3-17 | 0.5–6(9) | AYpir | 104.0 | 22.3 | 0.21 | ||
| Шкота | 4-17 | 3–13(14) | AY | 158.6 | 20.7 | 0.13 | |
| 5-17 | 3–9(12) | AY | 86.9 | Граб сердцелистный | 28.2 | 0.32 | |
| 6-17 | 4–15 | AYpir | 94.1 | Дуб монгольский | 24.8 | 0.26 | |
| 7-17 | 1.5–18 | AY | 43.2 | Полынь Гмелина | 6.6 | 0.15 | |
| 8-17 | 6–20 | AY | 35.9 | Дуб монгольский | 18.3 | 0.51 | |
| 9-17 | 2–15 | AU | 78.3 | Полынь Гмелина | 10.8 | 0.14 | |
| 11-17 | 5–18 | AU | 77.3 | 10.1 | 0.13 | ||
| 12-17 | 4–10(19) | AY | 89.8 | Дуб монгольский | 25.4 | 0.28 | |
| 1-18 | 5–7(10) | AY | 91.2 | Дуб монгольский | 28.8 | 0.32 | |
| Граб сердцелистный | 25.7 | 0.28 | |||||
| 2-18 | 4–13 | AY | 76.0 | Дуб монгольский | 17.9 | 0.24 | |
| Граб сердцелистный | 24.9 | 0.33 | |||||
| 3-18 | 5–15(16) | AY | 68.7 | Дуб монгольский | 25.8 | 0.38 | |
| Граб сердцелистный | 26.4 | 0.38 | |||||
| 4-18 | 3–13 | AY | 108.9 | Дуб монгольский | 41.5 | 0.38 | |
| 5-18 | 2–9 | AY | 74.6 | Дуб монгольский | 20.6 | 0.28 | |
| 6-18 | 5–11 | AY | 84.7 | Дуб монгольский | 33.3 | 0.39 | |
| 13-17 | 6–16 | AY | 60.3 | Не опр. | Не опр. | Не опр. | |
| 14-17 | 2.5–14 | AU | 91.6 | Не опр. | Не опр. | Не опр. | |
Рис. 2.
Содержание ртути в аккумулятивно-гумусовых горизонтах (а) и листьях дуба монгольского (б) на о. Шкота (нг/г). Условные обозначения: 1 – антропогенные территории (заброшенные), 2 – точки наблюдений и их цифровые обозначения, 3 – дороги грунтовые.
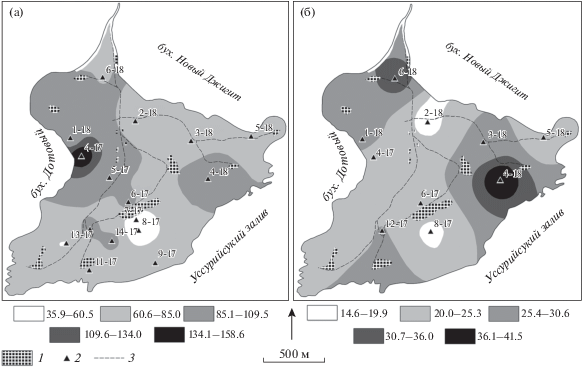
Полученные данные позволяют картографировать содержания ртути в растительном покрове только по показателям для дуба монгольского. Построение соответствующей карты для граба сердцелистного и полыни невозможно из-за недостаточного массива данных. Содержание ртути в листьях дуба монгольского колеблются в интервале 14.6–41.5 нг/г, с максимальными значениями в точке 4-18 (41.5 нг/г), минимальными в точке 2-18 (17.9 нг/г). Характерно повышенное содержание ртути в точке 6-18 (33.3 нг/г) (табл. 2). Отмечается иное пространственное распределение ртути по сравнению с данными по почвенному покрову. Вместе с тем, можно отметить определенное сходство: повышенное содержание ртути в точке 4-18 с плавным уменьшением к центральной части острова. При этом для точки 4-17 характерны максимальное содержание ртути в почве (158.6 нг/г) и низкие в листьях дуба монгольского (20.72 нг/г) с увеличением до 28.8 нг/г в точке 1-18 (табл. 2, рис. 2).
Средние значения содержания ртути в почвенном покрове на о. Шкота и примыкающей части о. Русский составляют 81.21 нг/г. Для различных видов растений средние значения представлены в табл. 3. Максимальный показатель характерен для граба сердцелистного, минимальный – для полыни Гмелина. Такое варьирование обусловлено аккумуляционной способностью разных видов растений накапливать ртуть. Данную особенность отмечал ряд авторов (Перельман, 1975; Скугорева, Низовцев, 2012; Минеев и др., 1983). Видовые особенности растений по накоплению ртути выявляются на основе расчета коэффициента накопления (КН), который отражает отношение содержания ртути в растении к ее содержанию в почве (Скугорева, Низовцев, 2012). Максимальный КН характерен для граба сердцелистного, затем следует дуб монгольский, минимальные значения – у полыни Гмелина.
Таблица 3.
Средние значения содержания ртути в почвенно-растительном покрове и коэффициент накопления в листьях разных видов растений
| Вид растения | Среднее содержание ртути в почве, нг/г | Среднее содержание ртути в листьях растений, нг/г | Коэффициент накопления |
|---|---|---|---|
| Граб сердцелистный | 81.2 | 26.3 | 0.33 |
| Дуб монгольский | 24.5 | 0.30 | |
| Полынь Гмелина | 9.1 | 0.14 |
Принципиально важным вопросом является установление источников поступления ртути в почвенно-растительный покров. Необходимо рассматривать 2 группы источников – природный и антропогенный. На островах залива Петра Великого к природным источникам поступления ртути в первую очередь необходимо относить разломы, идущие вдоль Амурского залива и пролива Босфор Восточный. На о. Попова в бухте Алексеева фиксируется повышенное содержание ртути в морской воде. Данная бухта расположена в приконтактной зоне гранитного интрузива, где по тектоническим нарушениям ртуть может поступать на поверхность. Кроме того, повышенное содержание ртути фиксируется в атмосфере в открытой части залива Петра Великого, что связано с ее поступлением через разрывные нарушения земной коры (Калинчук и др., 2012). Именно с особенностями тектонического строения мы связываем повышенное содержание ртути в точке 4-18 в почве (108.9 нг/г) и максимальное для дуба монгольского (41.5 нг/г). Безусловно, данный вывод нуждается в дополнительном подтверждении по результатам подробной геологической съемки.
В настоящее время антропогенный источник является наиболее существенным в процессе поступления ртути в геосистемы юга Приморского края. Как отмечается в работе (Аксентов, Астахов, 2009), залив Петра Великого находится в зоне с повышенным содержанием антропогенной ртути в приземном слое воздуха. Региональным источником являются урбанизированные районы Северо-восточного Китая. В результате трансграничного переноса загрязненных воздушных масс отмечается повышение содержания ртути в атмосфере. В качестве местных источников необходимо отметить г. Владивосток, где в прилегающих акваториях фиксируются максимальные показатели (Калинчук и др., 2012; Аксентов, 2015; Аксентов, Астахов, 2009). Лихеноиндикационные исследования фиксируют наличие постоянного влияния регионального и трансграничного переноса загрязняющих веществ. На участках с активным антропогенным воздействием преобладают лишайники устойчивые к действию антропогенных факторов, отмечены следы пирогенного фактора на талломах. На участках не подверженных непосредственному влиянию человеческой деятельности у лишайников присутствует угнетение, свидетельствующее о воздушном загрязнении (Родникова, Скирина, 2014).
Локальным антропогенным источником ртути является хозяйственная деятельность, осуществляемая непосредственно в пределах островных геосистем. На территории о. Шкота отсутствуют поселения и другие хозяйственные объекты. Выделенные на рис. 2 антропогенные территории представляют собой техногенно трансформированные участки бывшего военного присутствия на острове, не обнаруживающие связи с современным распределением ртути. В летний период территория острова интенсивно используется в рекреационных целях. Наиболее крупным местом расположения кемпингов является побережье бухты Дотовая. Именно с активным рекреационным использованием данной территории связано максимальное содержание ртути в почвенном покрове. Постоянное разведение костров и сжигание древесины и бытового мусора (в первую очередь полиэтилена), приводит к перераспределению ртути на прилегающих территориях. Кроме максимальных значений содержания ртути в почве для данной территории нами зафиксированы наивысшие значения по содержанию тяжелых металлов с превышением ориентировочно допустимых концентраций по ряду показателей, что так же связано со сжиганием бытовых отходов рекреантами (Киселева и др., 2018). Низкие концентрации ртути в листьях дуба монгольского для данной территории (точка 4-17) объясняется периодом отбора проб – в начале июля – до времени, наиболее благоприятного для отдыха. При этом аккумулированная почвенным покровом ртуть отражает многолетнюю тенденцию рекреационного использования участка побережья бухты Дотовая.
Необходимо рассмотреть вопрос об экологическом состоянии почвенно-растительного покрова территории о. Шкота и примыкающей части о. Русский по содержанию ртути с точки зрения негативного влияния на природные геосистемы и на здоровье людей. На почвы, воду, воздух и ряд продуктов питания существуют нормы, прописанные в ГОСТах, СанПиНах и других нормативных документах. Предельно допустимая концентрация (ПДК) ртути в почве, принятая в Российской Федерации, составляет 2100 нг/г (Предельно…, 2006). Для других компонентов геосистем ПДК не существует, и можно говорить только о среднем содержании. Так, среднее содержание ртути в земной коре составляет 45 нг/г (Сауков и др., 1972), для растений – 15 нг/г (Ковалевский, 1974). Исходя из приведенных данных, и результатов лабораторных анализов можно сделать следующие выводы:
1. содержание ртути в почве составляет незначительную долю от ПДК (максимальные показатели 158.6 нг/г (точка 4-17) или 7.6% от ПДК);
2. концентрации ртути в растениях превышают величину среднего содержания для растений, что может быть естественной региональной спецификой;
3. полученные данные в большей степени отражают состояние мало затронутых хозяйственной деятельностью геосистем, с влиянием комплекса природных и антропогенных факторов, и могут быть использованы в дальнейших исследований в качестве фоновых показателей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты геоэкологических исследований, проведенных на о. Шкота и примыкающей части о. Русский, показывают, что функционирование геосистем происходит в условиях периодического влияния пирогенного фактора. Это в значительной степени изменяет физико-химические свойства почв и приводит к трансформации растительности.
В почвенном покрове в среднем содержится 81.2 нг/г ртути, для растительного покрова значения варьируются в зависимости от вида растения: граб сердцелистный – 26.3 нг/г, дуб монгольский – 24.5 нг/г, полынь Гмелина – 9.1 нг/г. Аналогичное распределение было получено при расчете коэффициента накопления. Наиболее вероятной причиной высокого содержания ртути в почвенно-растительном покрове восточной оконечности о. Шкота являются особенности тектонического строения. Окончательный вывод можно будет сделать только после проведения подробной геологической съемки. Максимальное содержание ртути в почвенном покрове в районе побережья бухты Дотовая обусловлены влиянием рекреационной деятельности: сжиганием бытовых отходов и перераспределением выделяемой ртути. Здесь отмечается процесс многолетней аккумуляции ртути на прилегающих территориях. Несмотря на это, содержание ртути в почве составляет незначительную долю от ПДК. Отмечается превышение среднего содержания в листьях анализируемых древесных пород по сравнению с величиной среднего содержания ртути для растений, что может являться региональной спецификой.
Особая необходимость проведения подобных исследований связана с планами развития данной территории. Концепция развития о. Русский и прилегающих территорий предполагает формирование образовательного, научного, культурного, туристско-рекреационного и выставочного кластеров. С целью обеспечения устойчивого функционирования островных геосистем и планируемых территориально-хозяйственных структур остро стоит вопрос организации экологического мониторинга. Полученные данные по распределению ртути на территории о. Шкота и примыкающей части о. Русский во многом отражают фоновые значения и могут являться основой для организации подобного мониторинга.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 18-77-00001).
Список литературы
Аксентов К.И. (2015) Ртуть в морской воде Амурского залива Японского моря: современные уровни содержания и геохимические процессы. Метеорология и гидрология (9), 59-66.
Аксентов К.И., Астахов А.С. (2009) Антропогенное загрязнение ртутью донных осадков залива Петра Великого, Вестник ДВО РАН. (4), 115-121.
Аринушкина Е.В. (1970) Руководство по химическому анализу почв. Издание 2-е, переработанное и дополненное. М.: Изд-во Моск. ун-та, 490 с.
Ганзей К.С., Киселёва А.Г., Родникова И.М., Пшеничникова Н.Ф. (2016) Современное состояние и антропогенная трансформация геосистем островов залива Петра Великого. Ойкумена. Регионоведческие исследования. (1), 40-49.
Ганзей К.С., Пшеничникова Н.Ф., Лящевская М.С., Киселёва А.Г., Родникова И. М. (2017) Состояние посадок пихты цельнолистной и их значение в восстановлении хвойно-широколиственных геосистем острова Русский (залив Петра Великого, Японское море). Экологический риск / Мат. IV Всеросс. науч. конф. с междунар. участием (г. Иркутск, 18–21 апреля 2017 г.). Иркутск: Изд-во ИГ им. В.Б. Сочавы СО РАН, 140-142.
Гордеева О.Н., Белоголова Г.А., Андрулайтис Л.Д. (2012) Биогеохимические особенности миграции ртути в системе “почва–растение” Южного Прибайкалья. Известия Иркутского государственного университета. Серия “Биология. Экология”. 5(3), 23-32.
ГОСТ 17.4.1.02-83. Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения (2008). М: Стандартинформ, 4 с.
ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа (2008). М.: Стандартинформ, 8 с.
Грановский Э.И., Хасенова С.К., Дарищева А.М., Фролова В.А. (2001) Загрязнение ртутью окружающей среды и методы демеркуризации. Химия и жизнь. Алматы: (б.и.), 100 с.
Ильин В.Б. (1991) Тяжелые металлы в системе почва–растение. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 151 с.
Калинчук В.В., Аксентов К.И., Иванов М.В., Лопатников Е.А. (2012) Атомарная ртуть в приводном слое воздуха северо-западной части Японского моря осенью 2011 г. Вестник ДВО РАН. (3), 58-66.
Киселева А.Г., Ганзей К.С., Родникова И.М., Пшеничникова Н.Ф. (2018) Современное состояние геосистем острова Шкота (природные и антропогенные факторы). Геосистемы в Северо-Восточной Азии. Типы, современное состояние и перспективы развития. Владивосток: ТИГ ДВО РАН, 157-163.
Ковальский В.В. (1974) Геохимическая экология. М.: Наука, 298 с.
Краснощеков Ю.Н., Чередникова Ю.С. (2012) Постпирогенная трансформация почв кедровых лесов в южном Прибайкалье. Почвоведение. (10) 1057-1067.
Максимова Е.Ю., Цибарт А.С., Абакумов Е.В. (2014) Свойства почв Тольяттинского соснового бора после катастрофических пожаров. Почвоведение. (9), 1131-1144.
Минеев В.Г., Тришина Т.А., Алексеев А.А. (1983) Распределение ртути и ее соединений в биосфере. Агрохимия. (1), 122-132.
Мотузова Г.В. (2013) Соединение микроэлементов в почвах: системная организация, экологическое значение, мониторинг. М.: Книжный дом “ЛИБРИКОМ”, изд. 3-е, 168 с.
Научно-прикладной справочник по климату СССР. Многолетние данные. Приморский край. (1988) Л.: Гидромеоиздат. 3(26), 416 с.
Перельман А.И. (1975) Геохимия ландшафта. М.: Высшая Школа, 2-е изд, 341 с.
Полевой определитель почв (2008). М.: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, 182 с.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве: Гигиенические нормативы (2006). М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 15 с.
Преловский В.И., Коротний А.М., Пузанова И.Ю., Саболдашев С.А. (1996) Бассейновый принцип формирования рекреационных систем Приморья. Владивосток: Владивостокский филиал РТА, 150 с.
Пшеничников Б.Ф., Пшеничникова Н.Ф. (2013) Специфика формирования буроземов на островах залива Петра Великого (юг Дальнего Востока). Вестник ДВО РАН. (5), 87-96.
Родникова И.М., Скирина И.Ф. (2014) Лихеноиндикация антропогенного воздействия на природные комплексы островов залива Петра Великого (Японское море). География и природные ресурсы. (4), 42-48.
Сауков А.А., Айдиньян Н.Х., Озерова Н.А. (1972) Очерки геохимии ртути. М.: Наука, 336 с.
Скугорева С.Г., Низовцев А.Н. (2012) Биоаккумуляция ртути дикорастущими растениями в зоне влияния Кирово-Череповецкого химического комбината. Экология промышленного производства. (2), 15-19.
Цибарт А.С., Геннадиев А.Н. (2008) Влияние пожаров на свойства лесных почв Приамурья (Норский заповедник). Почвоведение. (7), 783-792.
Kabata-Pendias A., Pendias H. (2001) Trace Elements in Soils and Plants. Roca Raton, London, New York, Washingtom (D.C.): CRS Press, 3-th edition, 403 p.
Klock A. (1980) Orientierungsdaten for tolerierbare Gesamtgehalte einger Elemente in Kulturbuden. Mitteilungen VDLUFA. 1(3), 9-11.
Дополнительные материалы отсутствуют.


